Текст книги "Сон о Кабуле"
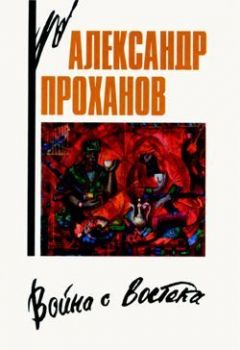
Автор книги: Александр Проханов
Жанр: Книги о войне, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 34 страниц)
Белосельцев отстранился от кремневой бойницы, оглянулся. Сайд у дерева отвязывал ослицу.
– Как ты? – спросил Белосельцев Мартынова, наклоняясь над подполковником. Тот смотрел прямо вверх синими, полными слез глазами.
Сайд Исмаил тянул на веревке ослицу. Животное двигалось вверх послушно и кротко. Сайд остановился поодаль внизу, хоронясь от вершины. Держал на весу бессильную кисть, сжимал в здоровой руке веревку.
– Как лучше его водрузить? – бормотал Белосельцев. – Верхом или поперек?
– Надо живот вниз, – сказал Сайд Исмаил.
Они схватили Мартынова за грубошерстный бушлат, волокли вниз. Бутсы его зашуршали, заколотили о камни. Мартынов застонал, замотал головой.
– Ничего, – бормотал Белосельцев, – потерпи…
Хлопнул выстрел. Пуля пролетела к реке. Ослица дрогнула, прижала белесые мохнатые уши.
– Сайд, давай подымай!
Вдвоем, в три руки, приподняли тяжелое, мешкообразное тело. Взгромоздили на ослиную спину. Животное под тяжестью зацокало ногами, заводило розоватыми, в белесых ресницах глазами.
Мартынов лежал на ослице, свесив вниз желтые волосы, почти касаясь земли руками и носками ботинок. Глаза его были открыты, выпучены. Он хрипло дышал.
Белосельцев, пригибаясь, вернулся к брустверу. Сквозь кремневые глыбы увидел, как снова сверху спускаются, – трое в белых повязках, четвертый в синем тюрбане и пятый в маленькой красной шапочке, узнаваемый на пепельном склоне, с тенью шрама, пересекавшего лицо. И это не удивило его. В этом не было мистики жизни. Их встреча была запланирована. Они двигались навстречу друг другу через хребты и долины, континенты и страны, из поколения в поколение, сближаясь, сходясь, чтобы теперь повстречаться на солнечной каменистой горе.
Белосельцев просунул ствол в расщелину между камней, прицелился и выстрелил в красную шапочку. Промахнулся, но выстрелы загнали спускавшихся за кромку горы. Ему казалось, что он видит красный петушиный гребешок, и он выстрелил снова.
– Сайд, уходи! – сказал Белосельцев, махая рукой, отгоняя прочь от дороги ослицу с Мартыновым.
– Лучше здесь, вместе, – сказал Сайд Исмаил. – «Бэтээр» придет…
– Уходи, я прикрою…
Сайд Исмаил кивнул, повернулся, потянул за собою ослицу. Та послушно пошла, перебирая хрупко ногами, колыхая на себе тело Мартынова. Его башмаки бились о камни. Белосельцев боялся, что он упадет. Но тот не падал, раскачивалась под брюхом ослицы желтоволосая голова.
Не видя никого на горе, он все-таки выстрелил. Слышал, как быстро гаснет без эха звук выстрела. Ослица и Сайд удалялись, были уже на фоне сверкающей реки, словно ею оплавлены.
Он снова взглянул на гору. С бровей на глаза продолжала сочиться кровь. Там, за горой, на огромном от него расстоянии, была Москва, и его любимая, оставившая его здесь умирать, ходила по уютному дому в легкой домашней одежде, обнимала другого. Белосельцев вытер кровь рукавом, потом ладонью. Ладонь просушил о землю, не желая трогать окровавленной рукой автомат. Машина продолжала гореть. Дым стелился вдоль пустого шоссе, его наносило на Белосельцева, и тогда сквозь дым гора начинала струиться, и он старался зорче оглядывать склон.
Ослица была теперь у самой реки, уменьшалась, удалялась, подвигалась к уступу, за которым исчезла.
Белосельцев следил за их удалением, опускал от себя, отгонял, желал, чтоб они исчезли. И удерживал, не пускал, желал, чтоб они остались. И когда они исчезли за выступом, почувствовал такую тоску и оставленность. Пустая рыжая осыпь, река чужая и жгучая, безлистое дерево – все это причиняло острую боль, и он лежит при дороге, в дыму от горящей машины, и над ним в вышине, на кромке горы, притаилась и ждет его смерть, пламенеет красная шапочка. Смерть приблизилась, приняла образ горы, реки, корявого дерева, петушиного гребешка на камнях.
«Быть не может, – подумал он, – чтобы так просто… Чтобы вся моя жизнь, с того переулка в снегу, со старинной вмороженной тумбой, и я вбегаю в наш дом, и бабушка, и наш белый фарфоровый чайник… Господи, спаси меня!..»
Ему казалось, что он услышан. Что мольба изменила окружавшее его пустое пространство, в котором прокатилась едва заметная стеклянная волна света. Он обернулся в надежде, что там, из-за выступа, вдруг покажется Сайд Исмаил и кончится его одиночество. Но река сыпала бесчисленные холодные блестки, и никто не являлся. Он смотрел вдоль шоссе, ожидая услышать урчанье, и на мягких колесах, приземистый, длинный, как ящерица, выскользнет «бэтээр», и можно будет мощным скоком кинуться на броню, в круглый темный люк, на сильные твердые руки.
Но шоссе оставалось пустым. Тянуло прогорклым дымом. Машина тлела вместе с убитым шофером.
Он достал из нагрудного кармана блокнот, шариковую ручку, документы разведчика. Отбросив сухими горстями землю, положил все это, присыпал, задвинул плоским обломком сланца. Взглянул на часы. «10 марта. 15 часов 48 минут. Энный километр шоссе Лашкаргах – Кандагар. Горы. Река. Обочины. Я лежу у камней…»
Пуля рванула о камень вблизи головы. Пахнуло расколотым кремнем. Другая пуля с опозданием, срикошетив, тяжело провыла. Сжав глаза, он плотнее прижался к откосу, а когда открыл, то увидел, – от вершины спускались люди. Он насчитал восьмерых, а они все появлялись из-за гребня, медленно, осторожно спускались. Среди них был американец в восточных одеждах, в маленькой красной шапочке, его двойник и подобие, вброшенный в варево азиатских народов, как кристаллик марганца в воду, окрашивая пространство вокруг себя в малиновый цвет. Они продолжали спускаться, и возникло желание вскочить, кинуться вниз к реке, надеясь на резвость ног, туда, где исчезли друзья.
Те на горе спускались редкой цепочкой, осторожные, гибкие, развевая балахоны, и он, одолев панику, перевел рычажок на очередь, чувствуя холодный металл, прижимаясь к нему пульсирующим горячим лицом. Глядел сквозь прорезь. И такое напряжение в душе, такое томление, что зрачок, пробегая вдоль мушки, превращал ее в вороненый крохотный вихрь, в малую воронку, проникающую в иное пространство и время. Воронка расширялась, в ней возникала иная земля, в травах, цветах, и она, его милая, спускалась с горы, поскальзываясь на траве, и он видел издали ее дорогое лицо. Она прошла совсем близко, его не заметив. Из неба прянул черный скворец, уселся ему прямо в зрачок.
Он смотрел на черную мушку, совмещая ее с красным гребешком на горе. Старался ровнее дышать, унять, успокоить дыхание, как его когда-то учили. Послал грохочущую долгую очередь вверх на склон, протачивая в солнечном воздухе длинную, уходящую в бесконечность дыру, куда вслед за пулями устремилась его жизнь и судьба с последующими, еще не рожденными от него поколениями. Направляя их в одну, вмененную им всем сторону, вслед раскаленным пулям.
Глава сорок третья
Уже несколько дней генерал Белосельцев жил в деревне, среди пустынных снегов, в бревенчатой старой избе, ощущая в себе тишину, какая остается после гулкого удара колокола. Обрядившись в телогрейку и валенки, без людей, один среди опустелой деревни, он занимался простыми трудами, связанными с поддержанием жизни. Деревянной лопатой разгребал снег, прочищая дорожки к крыльцу и сараю. Отбрасывал от ворот рыхлые сыпучие сугробы, освобождая под березой площадку для автомобиля. Вытаскивал из сарая круглые дровяные плахи и литым колуном, набрав в легкие сладкий морозный воздух, раскалывал их с треском на белые сочные чурки, вдыхая аромат промороженной березы. Набрасывал дрова себе на грудь, придерживая их небритым подбородком и растопыренной пятерней, вносил в избу и рушил с грохотом на жестяной лист возле печки. Закладывал поленья в тесную печь, подсовывал бересту, поджигал, чувствуя сочный дегтярный запах дыма, глядя, как брызжут с пылающей бересты яркие капли огня. Медленно, нехотя разгоралась печь, начинала слабо дребезжать и звенеть чугунная дверца. Он лез в подпол и там, среди холодных и прелых запахов, нагребал в ведро картошку. Сидел у окна, щурясь по-стариковски, чистил клубни, неторопливо срезая с них аккуратные спирали кожуры, оглядывая белый, влажный, очищенный клубень. Варил картошку, поставя на огненную гудящую лунку закопченную кастрюлю, дожидаясь, когда зашипит на плите перелившаяся через край вода и по избе разнесется запах вкусного картофельного пара. Ставил кастрюлю на стол. Дуя на разваренные картофелины, посыпал их солью, поливал желтым подсолнечным маслом. В этой простой одинокой трапезе было много стариковского, крестьянского, и это доставляло ему удовольствие.
За окном с цветастыми линялыми занавесками открывалось застывшее озеро, пологий белый бугор, серая проседь кустарников. На бугре, едва различимая под снегом, темнела метина. Там много лет назад росла одинокая елка. Пастухи, подгоняя к озеру пятнистое черно-белое стадо, укрывались под елкой в дождь, обламывали для костра ветки, подрубали ствол. Дерево медленно засыхало, превращалось в колючее острие. Еще прежде, когда умирала бабушка, лежала в избе под вязаным старинным одеялом, забывалась и бредила, Белосельцеву казалось, что ее душа, покидая маленькое иссохшее тело, переселяется в елку. Когда бабушки не стало, он чувствовал ее присутствие в дереве. Оттуда, через озеро, смотрели на него ее любящие лучистые глаза. Теперь же, когда от елки остался занесенный снегом пень, все равно это место было связано с бабушкой, было ее чертогом, пробуждало в нем языческую веру в переселение душ. Он ел картошку, смотрел сквозь окно за озеро, и ему казалось, бабушка присутствует при его трапезе.
Ее жизнь, огромная, наполненная рождениями и смертями, переселениями и бегствами от революций и войн, потерями любимых и близких, совпавшая с крушением царства, гражданской войной, истреблением огромной цветущей семьи, посвященная взращиванию и спасению его, последнего в убывающем роде, кого не коснулась гибель, – жизнь бабушки казалась ему гармоничной, осмысленной, помещенной в законченную возвышенную череду законов и притч, которые содержались в маленьком Евангелии с золотым обрезом, что лежало у нее на столике, переложенное очками. В этих притчах о ловце человеков, о засохшей смоковнице, о воде, превращенной в вино, в чудесах о воскресшем Лазаре, об искушении на кровле храма, о въезде в Иерусалим, в рассказе о тайной вечере, о Гефсиманском саде, о поцелуе Иуды, в повествовании о крестных муках, о губке, пропитанной уксусом, о разбойнике, уверовавшем на кресте, в волшебном сказе о Воскресении, о небесном Престоле, о сонмищах райских ангелов, – во всем этом умещалась жизнь бабушки, словно была написана золотыми и алыми красками на стенах и сводах храма. Всегда, когда он являлся в церковь и стоял среди прихожан, слыша сладкие песнопения, ему казалось, что в этих песнопениях повествуется о бабушкиной жизни. Теперь, когда он состарился и ему предстояло уйти, хотелось обрести ту же целостность и гармонию в представлениях о жизни. Земля кругом была в чистых снегах, словно в белых одеждах. И он мысленно примерял эти белые облачения на себя.
Он лежал в натопленной темной избе, готовясь заснуть, и в последние перед сном минуты старался представить распятого Христа. Он представлял его так, как Он был изображен на иконе, на смуглом распятии, изгибаясь, словно золотистый, покачнувшийся от ветра язык пламени. У распятия на холме стояли Жены Мироносицы, Апостолы и Ангелы, тесной толпой, окружая крест, на коричневой земле, поросшей колючками. Белосельцев старался воочию представить тот воздух и свет, почву и древесину распятия, живое, страдающее тело Спасителя. Это удалось ему на мгновение. Видение иконы исчезло, и там, где было распятие, образовалась крестообразная прорезь, какая бывает во льду реки во время водосвятия, и из этой прорези ему в сердце повеяло живое тепло. С этим чувством он и заснул, радуясь своему одиночеству и полному отсутствию звуков, среди деревянных венцов, отделявших его от снежной пустыни.
Он проснулся ночью от страшной разрушительной боли, словно в желудок вонзился отточенный кол. Продвигался, медленно вращаясь, разрывая пищевод, аорты, лопающиеся легкие. Удар был внезапен, настиг его во сне, оглушил. От боли было невозможно дышать. Выпученные глаза не различали убранство избы, набрякли красными пузырями. Он чувствовал, что это смерть. Ее заточенный, как копье, конец проник в него, а древко, утолщаясь, уходило вовне, погружалось в бездонную бесконечность, превращалось в огромную отшлифованную стальную колонну. Он был насажен на кол, был разорван изнутри, корчился, беспомощно поводя конечностями.
Он чувствовал, что сейчас умрет. Сорванные с места, изодранные органы, колыхались внутри него на хлюпающих пленках, а копье продолжало двигаться, было в горле, стремилось проникнуть в мозг. Ему было страшно, что он один. В этот последний миг жизни рядом с ним не было жены, не было взращенных им детей, не было верного друга. Смерть долго наблюдала за ним, следуя по пятам по военным дорогам, по минным полям, в отравленных сельвах, в кустарниках с притаившимися снайперами, в ядовитых болотах с холерой и гепатитом, в вертолетах, совершающих противоракетный маневр. Теперь застигла его врасплох, одного, в глухой ночи, в зимней пустой избе.
Он был готов сдаться, оглохнуть и ослепнуть от страдания, изойти дурной прорвавшейся горлом кровью. Но мозг, куда еще не вонзился кол, сопротивлялся, кричал, выталкивал из себя заостренное древко, ужасом, хрипом, сотрясением всей оставшейся жизни, бессловесным, Бог весть к кому, зовом о помощи. Боль остановилась. Кол перестал вращаться. То ли мыслью, то ли трепетом страдающих внутренностей, то ли стиснутыми руками, ухватившимися за огромный, уходящий в преисподнюю ствол, на котором вырастала его смерть, он стал медленно освобождаться, соскальзывать с острия. Видел, как смерть отступает. Стальная колонна мягко, словно под воздействием пневматики, уходила назад, во тьму. Ушла, убрала из тела окровавленное, обструганное топором острие. И он лежал с огромной дырой в животе, сквозь которую было видно смыкающееся бездонное пространство, куда его едва не утянула смерть.
Было трудно дышать, было страшно оставаться в избе. Чувствуя жжение, прижимая к животу руки, словно раненый, у которого вываливаются внутренности, Белосельцев сунул ноги в валенки, накинул шубу, нахлобучил шапку, вышел в сени.
В сенях было морозно. Воздух, сладкий и острый, как спирт, был настоян запахами сухого укропа, древесных стружек и ветоши, сквозь которые пробивался сочный чистый дух снегов. Белосельцев дышал, пропуская остужающие, замораживающие струи воздуха в свое израненное нутро.
Чувствовал, как разорванные кромки тканей обмораживаются, теряют чувствительность, их покидает боль. Отомкнул щеколду, вышел на крыльцо.
Снег в саду бледно светился глазированной коростой, сквозь которую тянулись едва различимые голые яблони. Над этими пустыми корявыми деревьями, над тусклыми наледями, над кольями изгороди огромно, великолепно сияли звезды. Сверкающая необъятность небес была противоположностью той слепой безликой бездне, откуда только что прянула на него смерть и куда она отступила. Его израненная, пережившая ужас душа кинулась за спасением в небо, в его разные стороны, где повсюду вспыхивали лучи, мерцала разноцветная роса, сверкали светила. Каждое было окружено легчайшим облачком, крохотными радужными кольцами, словно там была жизнь. Он тянулся к этой космической жизни, хотел поникнуть сквозь ближние завесы звезд к другим, более дальным, а сквозь них к еще более дальним, похожим на молоку, которую разбрызгала по всему небу проскользнувшая серебряная рыбина. Взгляду не удавалось пробиться сквозь этот млечный небесный дым, но душа мчалась дальше, выше, за спирали галактик, за туманы других вселенных, где Кто-то огромный, строгий и ласковый, ждал его к себе.
Ему хотелось вместе с морозным воздухом вобрать в себя блеск звезд, чтобы они исцелили его. Закрыть пробоину, оставленную рогатиной, вырезанным из неба лоскутом.
Колодец чернел в стороне остроконечным навесом. Белосельцев подошел, раскрыл дверцу колодца. Услышал, как слабо вздохнула холодная глубина. Схватился за железную, липкую от мороза рукоять. Стал раскручивать ворот, опуская ведро, слыша скрипы ворота, хруст цепи, далекий гулкий удар ведра о воду. Вытаскивал полно налитое ведерко, отекавшее невидимыми, звенящими в глубине каплями. Подхватил мокрую дужку, вытянул и поставил ведро на колодезную доску.
Звезды разноцветно сверкали. Было трудно дышать, в груди оставалось больное жжение. Эта боль была беззвучным эхом близкой, крикнувшей ему в ухо смерти. Крикнула, нанесла колющий удар и отскочила. Наблюдала за ним откуда-то сбоку, из темных ночных полей. Ждала, упадет ли он или продолжит жить, чтобы снова наскочить и ударить.
Ведро стояло на колодезной доске. В черном овале воды блестели отраженные звезды. Зрелище этих уловленных звезд вдруг восхитило его. Он изобрел новый астрономический прибор из жестяного ведра, деревянного ворота, мокрой цепи и ледяной колодезной воды. В этот простой деревенский телескоп он разглядывал звезды. Они казались приближенными, увеличенными, доступными его губам и дыханию. Он приблизил губы к ведру. Дунул на черный овал воды. Его дыхание зарябило звезды. Они слились в сплошной блеск, словно растворились в воде. Медленно возникали из черной воды, успокаивались, блистали, белые, сверкающие, в жестяном ведре. Он окунул губы в студеную воду и сделал долгий глоток. Ледяная густая вода пролилась в его раненое нутро, а вместе с ней, как тяжелая брошь, упали внутрь звезды. Он чувствовал в себе холодную тяжесть, словно невидимые, реющие в поднебесье силы вместе с водой и звездами пролились в него. Больше не было боли, рана его закрылась, вместо нее оставался горячий живой рубец. Он отошел от колодца, оставив ведро на доске. Подумал, что утром подойдет, посмотрит на сизую корку льда, в которую будут вморожены звезды.
Он вернулся в избу, исцеленный, словно его тронул ладонью незримый небесный целитель, и страшное зоркое чудище, наблюдавшее за ним из ночи, кособочась, неохотно отковыляло в мутные поля. Он был свеж, бодр. Спать не хотелось. Он затопил печь, насовал в нее волокнистые суковатые поленья. Разжег, подсовывая под них хрустящий, брызгающий огнем завиток бересты.
Он уселся напротив печки в маленькое бабушкино креслице. Смотрел, как сквозь щели плавятся, переливаются угли и красный отблеск скользит по смуглым круглым венцам.
Он думал неторопливую печально-возвышенную думу о своей прожитой жизни. Она оказалась длинней жизни страны, за которую он сражался. Он был похож на старого римского патриция, пережившего империю. Теперь на покое, вдалеке от столицы, бесстрастно, в стороне от людей, он вспоминал свои походы, исчезнувших товарищей и врагов, ландшафты, виды городов, лица женщин, которых когда-то любил. В углу, запыленная, стояла деревянная коробка, которую он давно не вскрывал. В ней лежали странные предметы, привезенные им из заморских стран, сувениры военных походов, в которые он отправлялся по заданию своего государства. Там лежала черная ритуальная маска из Мозамбика, подаренная ему командиром бригады, маленьким важным африканцем, вместе с которым охотились за белыми диверсантами в дельте реки Лимпопо. Там лежала груда разноцветных стеклышек из опавшего витража, которые он подобрал в разбитой никарагуанской церквушке, где сандинисты, ожидая атаки, устроили пулеметную точку. Там, в коробке, хранился каменный заостренный палец, отбитый у Будды в кампучийском храме на берегу Меконга, куда привез его разболтанный катер, и охрана волновалась, оглядывала прибрежные заросли. Там же, тяжелым комом узорных цепей, сине-зеленых камней и браслетов, лежали пуштунске украшения, которые он когда-то хотел подарить любимой, но она его разлюбила и вернула подарок.
Он смотрел на коробку, и ему казалось, если ее открыть, то вылетят на свободу духи былых походов. И он вновь зашагает в военной колоне по красной земле Мозамбика. Окунется в липкую горячую сельву Рио-Коко. Вдохнет полной грудью сладкий горный воздух Саланга. Он не трогал коробку, не давал духам прожитой жизни излететь на свободу. В мире, где он пока еще оставался, им уже не было места. Здесь витали иные духи. Все было кончено – оставались воспоминания и думы. Думы о тех, с кем начинал свой афганский поход.
Сайд Исмаил, смуглый, с сиреневыми губами, похожий на глазастую антилопу, погиб в боях за Гордез. Полковник Азис Мухаммад покинул побежденную армию и тихо стареет где-нибудь в германской провинции. Наджибулла, окруженный предателями, принял мученическую смерть от талибов. Его обезображенный труп с выколотыми глазами висел в петле на дереве в центре Кабула. Афганские партийцы, генералы, дипломаты и губернаторы торгуют на рынках Москвы или Дели, ведут мучительную жалкую жизнь. Дворец Амина, где размещался штаб 40-й армии, во время военного восстания Таная был подвергнут бомбоштурмовому удару, и от него остались одни обгорелые стены. Сам Кабул был уничтожен талибами. Сгорели великолепные тихие виллы в районе Карате Мамуин, превращены в руины высотные дома на площади Спинзар, а сумрачный многоэтажный отель «Кабул» был сожжен и изглодан снарядами. Посольство, где он часто бывал, украшенное лабродаритом и мрамором, расстреляли из танковых пушек, и от него остался один фундамент. Советские командармы, сменявшие один другого, почти все растворились в едком рассоле вместе с истребляемой армией, кроме двоих, снискавших известность. Один, безвольный добряк, попавший впросак в Тбилиси, дослужился до министра обороны и был унизительно изгнан. Другой, выводивший войска, стал другом одиозного еврея-певца и бесславно толчется в прихожих московских властителей. Долголаптев, публицист и писатель, активно включился в реформы, вошел в президенский совет и умер от инфаркта во время одного заседания. Американский разведчик Ли с разрубленным красным лицом, должно быть, состарился и, обласканный властью, уволен с почестями. Живет на вилле в каком-нибудь тихом месте, в штате Вирджиния. Марина, которой он увлекся в Кабуле, исчезла из вида. Он больше ее не встречал в водовороте московской жизни. Только слышал, что она обзавелась детьми, уехала с мужем в Женеву, который служит в каком-то денежном, бесполезном для Родины месте. И только Мартынов, подполковник Мартынов, которого он уложил на мохнатую спину осляти, прикрывая его у обочины горной дороги, Мартынов исчез бесследно.
Белосельцев сидел в удобном креслице, наблюдая игру красных язычков на стене, чувствуя странную тревогу, словно в ночи что-то приближалось, вставало снаружи, неслышно давило на стекла. Он тихо ахнул. Его посетило прозрение. Тот подвыпивший безногий подполковник в приюте, игравший на гитаре, сидевший к нему спиной, – это и был Мартынов. И надо вернуться в Москву, отыскать его вновь, вырвать из заточения, чтоб он больше не смел торчать в переходах, бренчать на гитаре, собирать подаяние в шапку.
Порыв был так силен, что Белосельцев вскочил, засобирался, был готов поехать в Москву. Но снаружи стояла глухая зимняя ночь, в ней начинался ветер, менялась погода, и уже не было звезд, дуло в стены и окна.
Он снова уселся в креслице, успокаиваясь, смиряя свое нетерпение. Ему не следовало волноваться, не следовало торопиться. Он был римский патриций, переживший империю. У ворот его любимого города толпились враги, опрокидывали мраморных богов. Из окна своей пригородной виллы он видел далекое зарево. Ему осталось немного. Остаток дней, остаток мыслей и чувство он должен посвятить одной-единственной цели – достойно уйти. Отыскать в мироздании Того, кто когда-то послал его в мир и требует обратно к себе.
Вдруг легкая тень промелькнула по стене. Еще и еще раз. У абажура зашелестело чуть слышно. Под лампой сочно и чудно вспыхнула бабочка, красно-черная, с резным орнаментом. Крапивница, обитательница пустырей, зарослей лебеды и крапивы, чей огненно-черный треугольник вдруг появлялся на старой доске забора, или на блестящем осколке бутылки, выброшенной на деревенскую свалку. Во время осенних ненастей залетела в сухую избу, зимовала в ней, сонно укрывшись в складках занавески или в потолочной расщелине. Оживленная и согретая жаром печи, вылетела и кружила под абажуром вокруг электрического светила.
Появление бабочки восхитило его. Это был знак, послание. Кто-то, незримый, услышал его печаль и послал ему бабочку. Не пулю, не напасть, не проклятие, а черно-красную дивную бабочку, вестницу русской природы, прилетевшую к нему среди зимних холодов и буранов. Бабочка была его тотемом, от нее он вел свою родословную. Всю жизнь, скитаясь по войнам, он искал в мире бабочек, драгоценных бесшумных божков, населявших саванны и джунгли, хранивших таинственные древние заповеди, нанесенные писцом на узорные крылья. И эта деревенская крапивница была его ангелом, нежным дивом, посетившим его в минуту печали.
Он протянул ладони под свет абажура, и бабочка села ему на руки. Среди его ссадин, морщин и мозолей раскрыла свои драгоценные крылья, шевелила крохотными черными усиками, доверчивая, восхитительная. Грубые, перепачканные золой пальцы чувствовали едва слышное прикосновение цепких маленьких лапок. Ворс на тельце дрожал и переливался от его дыхания. И возникло мимолетное сладостное воспоминание – кто-то забытый, любимый вернулся, что-то шепчет, и ресницы ее в темноте нежно щекочут ладони.
Бабочка взлетела и исчезла, будто кто-то вычерпал ее прозрачным сачком. Его пустые руки, в морщинах, в тяжелых стариковских венах, пустые, мертвенные, лежали в пятне электрического света.
Он улегся в постель, натянув на себя курчавую полу тулупа. Всю ночь сквозь сон слышал завывание ветра, и ему казалось, где-то рядом, у его изголовья, на подушке или на спинке кровати, притаилась, стережет его сон бабочка.
Утром за окном все было белым и мягким. Шел густой медленный снег. За ночь в природе случилось превращение. В звездные морозные небеса влетели влажные тучи запада, охладились над Средне-Русской равниной, накрыли Россию снегопадом.
Белосельцев накинул тулупчик, кое-как нахлобучил шапку, вышел на крыльцо. Бесшумное прохладное вещество сеялось из низких туч, падало ему налицо, и он с наслаждением чувствовал щекочущие прикосновения хлопьев, талые капельки на щеках. Черный тес забора был в белых мазках сметаны. Бурьян, кусты ягод, недвижные яблони отяжелели от белой, переполнявшей их тяжести. Колодец с ночи оставался открытым, ведро не замерзло, окруженное снегом, чернело водяным кругом. Вода тихо вздрагивала от падавших снежинок.
Черный автомобиль драгоценно блестел среди белизны, накрытый пышной шапкой. Проходя мимо, Белосельцев схватил рукой снег. Он был липкий, влажный, на крыше автомобиля остался черный след пальцев, который тут же стал затягиваться белой поволокой.
Он подошел к березе. Дерево недвижно возносило струящиеся ветви в прохладную белизну, пропадало в туманной высоте, где мелькала, сквозила и колыхалась зыбкая белизна. Он смотрел на корявый, с остатками бересты, в черных трещинах ствол. Ему показалось, что дерево ждало его появления. Оно, почти одних с ним лет, переживет его на земле. Знает об этом, предлагает ему прибежище. После смерти его душа перенесется в березу, устроится среди тесных древесных волокон, останется здесь, подле любимого места, у родной избы, в которой было прожито столько счастливых дней с любимыми, близкими. Он благодарно погладил березу, свой будущий дом.
Снег шел, благоухающий, чистый, и это тоже было послание. Если бы жизнь его протекала иначе – не в военных штабах и аналитических центрах, не в реве авиационных моторов и грохоте батарей, если бы он прожил свою жизнь среди полей и лесов, перелистывая травники с рецептами целительных зелий, сонники с толкованиями вещих сновидений, тогда бы он мог понимать язык природы. Как волхв, читал ее непрерывные послания, разгадывал безмерную, заключенную в ней мудрость.
Белосельцев нагнулся, черпнул снег, сжал холодный сочный комочек. Метнул его в белый пышный покров. Снежок покатился, намотал на себя мокрую липкую оболочку. Белосельцев подтолкнул его, и тот, разрастаясь, оставляя после себя рыхлую дорожку, превратился в маленький белый рулон. Он стал катать его, переваливая с боку на бок. Ком увеличивался, наматывал на себя сочные голубовато-белые пласты, обнажал льдистую корочку вчерашнего наста. Под этим настом таилась прошлогодняя блеклая трава и сухие стебли синих душистых цветов, за которыми он ухаживал все прошлое лето.
Он скатал большой тяжелый шар, поглотивший почти весь свежевыпавший снег в его палисаднике. Второй шар пришлось создавать из снега, нападавшего по другую сторону автомобиля. Этот второй ком был поменьше. Белосельцев подкатил его к первому и с трудом, задыхаясь, водрузил поверх первого, залепив то место, где комья касались друг друга. Третий маленький ком увенчал снежную статую, и Белосельцев, обтесывая неровности и выступы, налепил на маленькую снежную голову длинные волосы, брови, вырезал губы, глаза.
Руки его покраснели от холода. Он нежно, осторожно оглаживал снеговик. Снежная плоть казалась живой, полнилась соками, дышала, откликалась на прикосновения телесной упругостью.
Он стоял в палисаднике под березой, любуясь своим созданием, еще не зная, что станет делать дальше. Будто чья-то воля повлекла его в избу. Он растерянно вошел, оглядывая стол с неубранной посудой, висящую на стене картину с лиловыми астрами, остывающую беленую печь. Взгляд его упал на деревянную коробку, где хранились заброшенные фетиши его прожитой жизни.
Открыл коробку. Среди африканских безделушек, глиняных никарагуанских свистулек, спекшихся от жара фрагментов пулеметной ленты нащупал тяжелый плотный ком пуштунских украшений. Извлек на свет ожерелья, запястья, височные кольца и серебристые цепи. Все это понес из избы.
Снеговик стоял, овеваемый непроглядно-белым снегопадом. Белосельцев надел на него ожерелье из зеленых и розовых яшм. Поместил на груди кулоны из лазурита и золотистого лунного камня. Вдавил в мягкий снег тяжелые перстни. Оплел белыми цепями. Накрыл снежные волосы капюшоном из разноцветных стеклянных зерен и серебряных колокольчиков. Снежная дева в драгоценном убранстве стояла перед ним.
Он был один с девой среди непроглядного снегопада, отделенный от мира белым колеблемым покровом. Укрытый от неострожного взгляда, он приблизил губы к снежной женщине и поцеловал в холодные губы. Почувствовал аромат талого снега и слабый, таинственный отклик. Он обнял деву и замер среди снегопада. И ему показалось, что они танцуют, звучит чуть слышная музыка, синий, в серебряной оправе кулон слабо мерцает на ее дышащей груди.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































