Текст книги "Сон о Кабуле"
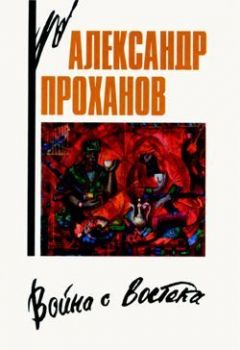
Автор книги: Александр Проханов
Жанр: Книги о войне, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 34 страниц)
Глава тридцать девятая
В Кандагар его провожал Чичагов, передавая конверт с материалами, предназначенными для советников ХАДа. Сажая в машину, сообщил, что приехал из Москвы офицер и сказал, что умер генерал. Знал о своей неминуемой смерти, сам расписал распорядок своих похорон. Просил, чтоб в могилу с ним опустили синюю стеклянную вазочку из гератского стекла, стоявшую на столе в его кабинете. Известие причинило Белосельцеву новую боль, которая слилась с неисчезающей болью, словно кровоточащий незасохший порез перечеркнули поперечным надрезом. Он летел в самолете среди ровного дрожания обшивки и думал, что эта неделя отняла у него столько людей, что хватило бы на целую жизнь.
Тяжелые машины с пыльной зеленой броней стояли в каре, и в прогале меж гусениц и пушек открывались далекие лазурные горы, долина, и по черной затуманенной пашне двигалась упряжка волов. Крестьянин шагал за сохой медленно, чуть видный, проходил, скрывался за танк. Нет его, только бархатная влажная пашня, переливы синей долины, далекое мерцание снегов. Но вот из-за башни снова появлялись волы, белая капля чалмы. Крестьянин медленно, верно вел борозду, до другого танка, скрываясь за башней. Белосельцев ждал с нетерпением, когда он, невидимый, развернется на краю своей нивы и снова появится, вытягивая тончайшую нить, сшивая деревянной сохой кромки брони, окружая их паутиной жизни, вечным хрупким плетением.
Советская бригада расставила свои шатры и фургоны, бронетранспортеры и танки на древнем караванном пути, ведущем из Пакистана, через пустыни Гельменда, по руслам высохших рек, сквозь такыры, барханы. Этим путем, днем зарываясь в песок, маскируясь под кибитки кочевников, ночью зажигая подфарники, двигались колонны «тойет» и «симургов» с оружием, террористами. Стремились добраться от границы до кандагарской зеленой зоны, внедриться в кишлаки, раствориться среди садов, виноградников.
Хрупкие бетонные аркады аэродрома казались выпиленными из сахара. Застекленные огромными полукруглыми окнами, отражали взлетное поле, серебряные штурмовики, заостренно глядящие в небо, в сторону Ирана, где пенили воды залива авианосцы Америки. Камуфлированный четырехмоторный транспорт был готов к отлету в Кабул, окруженный аэродромной прислугой. Другой, белесый, стоял в стороне без признаков жизни.
У трапа выстроились две шеренги солдат, лицом к лицу, похожие одна на другую, в синих беретах, в натянутых под ремнями бушлатах, в блеске сапог и блях. Но пристальный взгляд замечал различие в выражениях лиц, в осанках, в поведении в строю, в разных устремлениях глаз.
– Новобранцы приехали, – говорил Мартынов, щурясь на слепящий бетон, туда, где недвижно застыл серебристый большой самолет. – А эти, наоборот, отбывают.
Белосельцеву стали понятны похожесть и различия глядящих друг на друга солдат. Отъезжающие казались выше и крепче, вольней и свободней держались в строю. На погонах было больше сержантских лычек, а на выглаженных парадных бушлатах у многих блестели и круглились медали. Их лица были черней и обветренней, а в глазах сквозь смешки и улыбки, дружелюбную иронию, оставались тревожные огоньки Бог весть от каких пожаров. Но главное – в их лицах блуждало шальное, огромное ожидание воли и Родины, как близкий счастливый обморок.
Прибывшие, высокие и крепкие телом, были еще детьми округлостью щек и ртов, оттопыренностью ушей, серьезной детской суровостью не умеющих хмуриться лбов. Поглядывали осторожно и сдержанно. Исподволь зыркали на близкие горы, пески, на волнистые дали.
Речь держал невысокий худой капитан, чьи слова отлетали с теплым весенним ветром. Кончил говорить, отступил. Шеренга отъезжавших рассыпалась, двинулась навстречу новобранцам. Обнимали их, прижимали к своим медалям, охлопывали легонько, совали в бок кулаками, словно передавали им тайное знание, драгоценное, уберегшее их и уже не нужное. Нужное этим, прибывшим. Новобранцы принимали его, еще не зная, на что оно может сгодиться среди этих гор и долин.
Одни подхватили свои чемоданчики и без строя, вольной гурьбой, еще оглядываясь, но уже всем стремлением своим нацеленные в иное, пошли к самолету, уже там, в родных деревнях и поселках, среди плачущей от счастья родни, в звоне хмельных застолий. Другие, вновь прибывшие, расселись в грузовики, укатили по бетону, чтобы занять в походных шатрах опустевшие койки, взять в оружейной комнате полысевшие, с исцарапанными прикладами автоматы.
– Ну теперь сосновый груз повезем, – с облегчением сказал Мартынов. Словно услышав его слова, из-за белых строений порта выехали запыленные, со стертыми скатами машины, покатили к далекому белесому транспорту. Белосельцев видел, как опустилась у транспорта апа-рель, и скрывавшиеся в самолете люди стали выносить на солнце длинные бруски. Заталкивать их в грузовики. Наполненный брусками грузовик разворачивался, приближался. Тяжело урча, катил мимо Белосель-цева. Его кузов был полон деревянных ящиков, солдатских гробов, которые пахнули запахом пиленой ели.
– Операция запланирована, – сказал с облегчением Мартынов, – снаряды, горючка пришли, а этого добра не хватало.
Белосельцев смотрел, как вслед новобранцам везли их гробы, и ему на ладонь, пригретая солнцем, села малая божья коровка.
Он присутствовал при разводе части. Живая стена солдат колыхнулась бессловесным вздохом и рокотом, приветствуя своего командира. Напряглась литой твердой силой молодых крепких тел и при первых всплесках оркестра, медных, пробежавших по трубам молний шатнулась, пошла, отламывая от себя бруски батальонов и рот. Хрустели по гравию в едином ударе подошв, выбрасывали руки, натягиваясь струнно и трепетно, минуя своего командира, и тот их мерил и числил грозно и зорко. Мусульманское небо синело над их головами. В Белосельцеве была такая любовь к их бравому шествию, к их юношеским остроплечим телам, к румяным молодым офицерам, шагающим под бравурный марш, – такая любовь и боль, что он был готов разрыдаться. «Наш имперский путь, наша доля, – думал неясно он. – По этой хрустящей гальке, среди песков и снегов…»
Мимо проходили ряды, блестела медь, колыхалось красное знамя, и казалось, бригада отрывается от земли, уменьшаясь, подымается в небо, и объятая легкими смерчами, исчезает в бесконечности.
Он проводил время среди экипажей «бэтээров», стоящих в охранении, в открытой, вылизанной ветром степи. Двигался от машины к машине, слушал солдатские притчи о маршах, жаре, о перестрелках в садах и арыках. Записывал впечатления в блокнот, дорожа именами и мыслями, залетающими на страницы песчинками, каплей ружейной смазки, упавшей на строчку со словами «деревня Чижи». У одной из машин солдаты стряпали ржаные коврижки. Насыпали муку на крышку люка, месили тесто, раскатывали его на броне. Готовились окунуть в кипящее масло, пузырящееся в банке над земляным очагом.
Намаявшись на жаре, он залез в машину и улегся на бушлате среди рычагов и прицелов. Задремал, слыша над собой солдатские голоса, негромкие звяки, слабый, сквозь железо, запах муки. Что-то загрохотало, скатилось. Сердитый укоряющий голос произнес: «Ну что разгремелся, Касымок! Человека разбудишь!» И в ответ огорченное: «Да ну, сорвалось!» Он представлял близкие лица солдат, вспоминал их рассказы. О том, как отдавали в лазарете кровь раненому товарищу. Как не бросили свой «бэтээр», охваченный пламенем, загнали его в арык, сбивая пламя. Как в ночном бою пропал их товарищ, упал с брони, достался врагам, и они подбросили в часть его ослепленную голову. Как допрашивали пленного, подвесили ему между ног гранату, заставили бежать в открытую степь, пока ни грохнул пыльный короткий взрыв.
Он знал о них все, по звукам их голосов, по запахам теста, по стукам своего, к ним обращенного сердца. В нем, пережившем потерю любимой, испытывающем непрерывную боль, продолжало прорастать, просыпаться нечто, готовое собрать воедино весь прошлый опыт души. Он чувствовал в себе этот рост, совершавшийся без всяких усилий. Не он себя взращивал, а им овладели безымянные силы, управляли им, взращивали для какой-то неведомой грядущей задачи.
«Касымов, ты мучицы еще подсыпь, а я воды подолью». Над ним, сквозь броню, месили ржаное тесто, и оно всходило над его неподвижным лицом.
Те подсолнухи на поле под Псковом. Бесчисленные чаши, как лица, повернуты все в одну сторону, за озеро, где цветы, облака, дороги и кто-то родной, долгожданный, спускается тихо с горы.
Дед Николай держит в руках хохломское деревянное блюдце, рассматривает завитки, позолоту, медленно подымает голову, весь озаряясь радостью, откликаясь на его появление.
Он опустил свою детскую руку в ручей, в его чистоту и холод. С изумлением смотрит на усыпанные пузырьками пальцы среди скользящих лучей и песчинок.
Бабушка слабо и шатко переступает ногами, опираясь на палку, под темными дуплистыми липами, и он видит, как скользят по ней тени и белеет на тропинке оброненный ею платок.
Ребенок на лугу играет с козленком, хватает его за рога. В страхе с криком бежит. А козленок его настигает, оба белые на зелени, среди золотых одуванчиков.
Марина поворачивает к нему свое золотое лицо, и он чувствует, как щекочут его ладонь ее ресницы, словно крылья прозрачной бабочки.
Белосельцев услышал, как снаружи подкатила и встала машина. И голос Мартынова окликнул солдат:
– Эй, сынки, куда корреспондента девали? – Белосельцев вылез из люка, увидел Мартынова, вечереющее зеленое небо и красную закатную степь. – А я вас ищу. Артисты приехали, будут концерт давать.
Получили в дорогу две горячие солдатские лепешки и поехали в часть.
На открытой дощатой сцене нарумяненный фокусник извлекал из зеркального ящика то платок, то живого попугая, то рюмку. Солдаты ахали, восхищались, розовели от наслаждения, как дети, и вместе с ними офицеры, комбриг запрокидывал в смехе помолодевшее, ставшее наивным лицо. После фокусника вышла певица, молодая, в открытом платье, не очень умело, эстрадно поводя плечами, наступая на доски маленькой туфелькой, пронося над полом длинный синий подол. Пела про отчий дом, про солдатскую службу, про скорое свидание с любимой. Офицеры жадно, страстно на нее смотрели, на ее голые плечи, на маленькую близкую туфельку. Солдаты отражали ее в своих посветлевших глазах, понимая ее каждый по-своему, – как тайное неверие в смерть, как веру в неизбежное счастье, в свою неслучайную жизнь. На маленькой сцене совершалось простое действо, проще нет на земле. Вокруг эстрады в песках кружил утомленный батальон. Летал, мигая огнем, вертолет разведки. Кто-то писал письмо в деревню Чижи. Печалью отзывалось лицо под линялой солдатской панамой.
Белосельцев вдруг испытал к ним ко всем такую любовь и нежность, что эта нежность и слезная, расширяющая сердце любовь сделали его огромным, до неба, до высокой хрустальной звезды. Ему казалось, он стоит посреди пустыни, держит на своей огромной ладони и эту эстраду, и певичку, и фокусника, и усталого, с обгорелым лицом комбрига, и сидящих на лавках солдат. Не даст им умереть и погибнуть.
С Саидом Исмаилом, который находился в расположении афганского полка на краю Кандагара, они летели в кишлаки, где проходила раздача земли, и куда, проделав долгий маршрут, пришли, наконец, трактора. Вертолет, раззвеневшись, слил свои лопасти в прозрачный солнечный вихрь, пружинно отжался, косо понесся. Сначала над взлетным гудроном с жирными гудронными росчерками, следами от ударов шасси. Потом над земляными ячейками, в которых уютно, как в люльках, уместились острокрылые самолетики. Над хрупкими купольными строениями, похожими на глиняную посуду, поставленную для обжига в печь. Развернулся над зеленой веной реки, с мелями, пустыми протоками, полными донного гравия, длинными островами, омытыми изумрудной водой. Мерно, плавно пошел, повторяя течение реки, увлекаемый в азиатские толщи.
Белосельцев у иллюминатора, отодвинув ногой лежащий на полу автомат, смотрел на бурые горы, безлюдные от сотворения мира, накрытые пыльным одеялом, без тропы, без следа, овеваемые ветром и солнцем. У подножий зеленели робкие лоскутья крестьянских наделов, тончайшая пленка жизни, чудом возникшая среди камней и отрогов.
Летчики в шлемофонах сидели в стеклянной кабине. Один держал на коленях карту, где струилась все та же река, виднелись все те же предгорья и чернела изломанная резкая линия, – путь ушедших вперед тракторов.
– Смотри! – тронул его за рукав Сайд Исмаил, в новеньком камуфляже, в ремнях, гордившийся своей офицерской формой. – Пустыня!.. Палатки!.. Кочевники!..
В стеклянный круг, наполнив его огнем, глянуло красное око пустыни. Как внезапный ожог. Туманное пожарище разлитых до горизонта песков. С рябью застывшего ветра, с языками барханов. Дышало, туманилось от бессчетных неразличимых песчинок, поднятых ветром. Он приблизил лицо, погружая его в красные горячие отсветы. Водил по пустыне глазами, оглаживал, прижимался щеками к округлым холмам, клал ладони на горячие лбы барханов.
Внезапно увидел крохотные черные пятна. Оглянулся на Сайда Исмаила, и тот, ожидая его взгляда, стал кивать. Белосельцев понял – кочевые шатры, стойбища невидимых с вертолета чернобородых, с огненными белками людей, кочующих вслед за движением солнца, ростом травы. Около стойбища – горстка маковых зерен. «Овцы», – догадался он. Застывшая пунктирная стрелка с чуть заметным утолщением теней. «Караван», – опять догадался он. Пустыня была жива, населена. В ней двигались караваны, гуляли овцы, стояли шатры. Казалось, она рождала, извергала из себя безвестные племена и народы, и они, выходя из пустыни, обретали имена и названия, строили мечети и пагоды, оседали в городах и долинах.
– Впереди трактора!.. Колонна! – снова, перекрикивая звон винтов, отвлек его всевидящий Сайд Исмаил.
Далеко, среди рыжих пространств, он увидел дымный протуберанец. И скоро, снижаясь, пролетели над пыльной колонной транспортеров и танков.
Вертолет опустился в песчаных холмах, не выключая винтов, возгоняя к солнцу пыльный тайфун. Вслед за пилотом, обдираемый наждачным вихрем, сжимая веки, хрустя зубами, Белосельцев выбирался из-под секущего свиста. Открывал постепенно глаза, видел спекшуюся корку земли, разбиваемую каблуками пилота, белесый обломок сучка, неживые травинки, полую скорлупу жука.
Они поднимались по склону, и навстречу им из-за кромки, обваливая ее толстыми шинами, наматывая на колеса струи песка, возник «бэтээр». Высунулся остроносой броней, плоской башней и пулеметом, выбрасывая гарь из кормы. Из люка выглянуло охваченное шлемом лицо в белесом налете, с растресканными губами, бледно синея глазами.
– Пакет от командира бригады, – сказал пилот, передавая наверх, на броню конверт.
Белосельцев смотрел на колонну, на мучного цвета запорошенные транспортеры и танки, с выглядывающими из люков родными лицами.
Советская рота в центре Азии, оторванная от своих лесов и снегов, от Кремля и от Волги, от матерей и сестер, шла по пустыне. На Родине кто-то свадьбу играет, кто-то деньги считает, кто-то пашет, а кто-то и пляшет. Пусть на минуту очнутся, увидят внутренним оком, как в афганской пустыне движется усталая рота, водитель прижимает к губам кислую флягу воды.
«Наш путь, – повторят он беззвучно. – Наш вечный имперский путь…»
Он снова летел над пустыней, над чужой раскаленной землей. После пережитых несчастий, потери любимой в нем испепелилась легкая, подверженная горению материя и осталось негорючее, из сияющих сплавов вещество, нетленный, несгорающий дух. Его распахнутое сердце излучало алый, почти видимый свет, жаркий, плотный, устремленный вовне. И чувствуя дрожание обшивки и свою жаркую, в ней заключенную жизнь, он провожал этим светом колонну, идущую сквозь пески.
В этом алом, исходящем из сердца сиянии было знание о великой, многострадальной и любимой земле, которая была ему Родиной, и о том, что с ней сочеталось. Образ умершей бабушки, память о погибшем отце, хлебопашцы и воины, женщины, дети и старцы, все, чьим дыханием сберегались родные леса и великие реки. Желал им всем избегнуть огней и пожаров, мук и страданий и сиять и цвести в негрозной доброте и величии.
«И пусть я буду услышан, и пусть их всех сбережет, – не ведаю, какая, но высшая, но святая, во мне, во всех нас пребывающая вечная сила!»
В кишлаке Алькала предстояла раздача наделов, закрепление поделенной феодальной земли за крестьянами, выдача им дипломов и прав на владение. Сюда, через барханы, в народный кооператив пришел трактор, и народ встречал тракториста кувшином холодной воды, красными гранатовыми плодами. Утомленный водитель умывался в арыке, рассекал ножом мятый багряный шар кандагарского граната, подсаживал ребятишек на запыленный голубой капот трактора.
Белосельцев и Сайд Исмаил, исполненные праздничных ожиданий, направились в кузницу, где крестьяне правили плуги, оковывали сохи железом, готовили орудия сева. Белосельцев озирался на солнечные, готовые к цветению деревья, на куполообразные, вздутые, словно хлебы в печи, дома. Во дворах чистили и мыли волов, выставляли мешки и баклаги с зерном.
Вошли в кузню, стояли поодаль, наблюдая кузнечную работу, боясь помешать и отвлечь. Всему головой был старый худой механик с костлявой шеей. Кашлял, дышал тяжело. Отдыхал, глядел воспаленно. Казалось, воздух из его легких вырывается вместе с мелкой железной пыльцой. Недавно у старика умерла жена. Он сам занемог, ни с кем не хотел видаться. Но когда пришли к нему люди, те, кто дожидался земли, кланялись, просили помочь, он встал и пошел под навес.
Вторым был молодой солдат с пустым рукавом, пришпиленным к обшарпанной робе. Руки он лишился в горном сражении, когда его транспортер был подбит неприятелем, и он, окруженный пламенем, раненный, стрелял из пулемета, отбивая врагов. Он сжимал единственным кулаком молоток, легонько постукивал им по избитой наковальне, вызванивая какой-то ему одному понятный мотив.
Третий, краснолицый кузнец, увенчанный грязной тряпицей, с голой лохматой грудью, похожий на циркача. Он один, надувая жилы на лбу, перетаскивал наковальню, ворочал плуги. Силач не имел ни клочка земли, всю жизнь батрачил, жил по углам, пахал чужое поле, холил чужих волов. Теперь ему обещали надел, и он ждал с нетерпением. Мечтал завести очаг, жениться, народить детей и всю свою богатырскую силу и ожидание новой судьбы вкладывал в кузнечную работу.
На подхвате был худой темноглазый юнец в тюбетейке, в быстрых кивках и улыбках, перепачканный маслом. Он убегал по утрам из тесного отцовского дома, где кричали среди куриного помета и блеяния его младшие братья, покрикивала старая бабка и молился хворый дед. Прибегал под навес, где висел говорящий металлический репродуктор, вились красные кумачи, собирались шумные люди, на которых хотелось ему походить. Он ко всем поспевал на помощь, и его коричневые глаза светились доверием.
Белосельцев смотрел на стоящий в отдалении трактор, вспомнил Нила Тимофеевича, собиравшегося побывать в Кандагаре. Думал – сколько воды утекло с того термезского митинга, сколько верст одолел синий трактор, сколько рук, добрых и злых, тянулось к нему. И вот, осилив хребты и пустыни, он попал в отдаленный кишлак, готовился к пахоте.
Шипел и брызгал огнем маленький горн. В нем пламенел стальной стержень. Здоровяк с распахнутой грудью налегал на деревянную рукоять мехов. Подхватил клещами тяжелый шкворень, шмякнул на наковальню, нанес кувалдой удар. Удар получился неловким, стержень вырвался из клещей и упал. Кузнец сердито его подхватил, ударил, и снова вышло неловко, слишком мал был замах для удара. Здоровяк оглянулся на товарищей. Белосельцев перехватил его взгляд, и вдруг, словно его кто-то толкнул, шагнул к наковальне, перенял клещи со шкворнем. Кузнец отступил, отодвинул со лба тряпицу, крутанул тяжелый молот и врезал гулкий точный удар, расплющив железо.
Сайд Исмаил подскочил к мехам, начал их раздувать. Здоровяк бил и бил, бровями, губами, движением могучих плеч подсказывая Белосельцеву. То угадывал, вертел на наковальне малиновый металл, улавливая сквозь клещи и свои напряженные мускулы мощь богатырских ударов, жар свистящего пламени.
– Так, бей! – раскачивался в такт ударам Сайд Исмаил, весь в искрах и красных отсветах. – Бандитов бей, хорошо!.. Империализм бей, хорошо!.. Хлеб сей, хорошо!.. Жена повидай, хорошо!.. Бедным землю давай, хорошо!..
Отковали тягу. Кинули, алую, в корыто, вырвав шипение и пар. Разгоряченные, пили воду, передавали друг другу баклагу. Пил Белосельцев, проливая воду на грудь. Пил Сайд Исмаил, остужая пересохшие губы. Пил здоровяк, выпучивая от наслаждения глаза. Пил безрукий солдат и мальчишка. Долго, устало пил усатый старик. Все испили единую чашу.
С утра, за селением, где кончались ухоженные, изрезанные сохами поля и начиналась пустыня и в ее морщинистую пыльную коросту были врезаны ровные клетки новых угодий, еще сухих, не пропитанных влагой, но уже с подведенными сочными сосудами арыков, за селением стал сходиться народ. Вернувшиеся из армии солдаты в груботканых робах и шапках. Крестьяне, молодые и старые, в нарядных белых чалмах. Ребятишки, босые, в пестром тряпье, дергая за нитки реющих бумажных змеев. Сидели на земле совсем уже древние старцы, с лицами, похожими на пыльный чернослив. Семейство кочевников набрело из пустыни, взлохмаченные, чернобородые. Музыканты разложили на ковриках свои барабаны и бубны, струнные, похожие на сушеные тыквы инструменты.
На грубом столе белела кипа бумаг, притиснутым камнем. У стола собрались уездные партийцы с приколотыми красными бантами. Сайд Исмаил, торжественный, вдохновенный, был готов к речам.
Белосельцев смотрел на крестьян, сдержанных, но исполненных нетерпения, словно в каждом стояло накопившееся за века ожидание. Словно воскресли и смотрели на эти ровные, готовые к воде и к зерну наделы все бесчисленные поколения смиренных людей, рождавшихся и сходивших на нет.
Говорил секретарь уезда, долго и пламенно. Указывал то в пекло пустыни, то на зелень реки, то в небо, призывая в свидетели. Все слушали его, понимали, – и раненый, с перевязанным лбом солдат, и худой долговязый крестьянин, опиравшийся на землемерный аршин. И те, кто недавно в кузне ковал железную тягу. В стороне, блестя умытыми стеклами, стоял синий трактор, весь увешанный погремушками, блестками. На крышу кабины, словно попона, был наброшен ковер.
Говорил Сайд Исмаил. Белосельцев помнил его лицо во время путча и боя, стиснутое гневом и болью. Теперь не о крови, не о пулях были его слова, а о хлебных зернах, готовых упасть в борозду. Уездный партиец отодвинул с бумаги камень, приподнял шелестящую кипу. Стал выкликать поименно, вызывая из толпы бедняков. Вручал им акты на владение землей, и те двумя руками принимали трепещущую бумагу, прижимали к груди, боясь, чтоб не унес ее ветер. Озирались то на родню, то на близкую ниву, не веря, что она уже их.
Ударили бубны, забренчали струны, застучали барабаны. И словно дунуло на людей, сорвало их с места. Кинулись к наделам, сначала гурьбой, тесно, толкаясь, а потом рассыпаясь каждый сам по себе. Бежали, развевая одежды, хватая руками воздух, будто раскрывали объятия чему-то огромному, летящему им навстречу. Добегали, падали, прижимались лицом к земле, целовали, что-то шептали. И уже родня окружала их, подымала. Шли с аршинами, обмеряя участки, выкликали, старый и малый, топотали, сбрасывая башмаки, будто старались оставить на земле побольше своих отпечатков. Приручали к себе, закрепляли ее за собой.
Вдоль арыков шли с лопатами, кетменями, разгребая запруды. Вода начинала литься бесчисленными сверкающими ручьями, проливалась в прочерченные по земле желоба, мгновенно исчезая, пропадая в сухой, не ведавшей влаги почве. Липко чернела, расплывалась влажной сочной силой, окутывая ниву стеклянным свечением. Вода сочеталась с землей. Землемеры, музыканты на поле колебались в прозрачной дымке, окутанные дыханием земли.
Бубны застучали сильнее. Трактор, задрав плуг, волоча пыльные бороны, медленно двинулся к пашне. Все шагали за ним, смотрели на отточенные жала лемехов. Лемехи коснулись земли, погрузились, рванули твердь и, вздувая пласты, двинулись, выворачивая тройную борозду, разбиваемую боронами. Мальчишки бежали следом, верещали трещотки, свистульки, музыканты бубнами славили рождение борозды.
Однорукий солдат прижал к груди плоскую посудину, полную сыпучей бело-желтой пшеницы. Примериваясь, встал в борозду. Рядом с ним, огромный, касаясь плечом, встал кузнец. Кивнули, вздохнули разом, шагнули на пашню, и кузнец, захватывая в огромный кулак горсть зерен, метнул их под ноги. Невидимые, они легли в борозду, вошли в плоть земли, нагрузив ее тяжестью будущего урожая. Шли по земле, засевая ее хлебом, надеждой. И уже им вслед выводили упряжку глянцевитых черных волов, чьи рога украшали бубенцы и ленты. Волы влекли бороны. Так и двигались – трактор, накрытый ковровой попоной, сеятели, музыканты и упряжка волов.
Белосельцев ликовал своим измученным любящим духом. Ему казалось, в распахнутой борозде шагает Нил Тимофеевич, и безвестный, убиенный солдат Шатров, и погибшие джелалабадские механики, все ожили и идут в борозде, окруженные тесной толпой.
Ночью его разбудил Сайд Исмаил.
– Плохое дело!.. Плохие люди пришли!.. Землю назад берут!..
Он рассказал, что в темноте в кишлак пришли вооруженные моджахеды, слуги местного владельца земли. Сказали – кто взял в надел землю, тому отрубят руку и голову. Крестьяне, получившие земельные акты, стали возвращать их обратно. В тускло освещенное помещение уездного комитета входили согбенные молчаливые люди, клали на стол бумаги и, кланяясь, уходили. Сайд Исмаил собирал возвращенные акты на владение земли, складывал в стопку. Клал сверху тяжелый холодный камень.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































