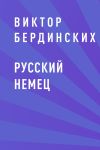Текст книги "Реализм судьбы"

Автор книги: Александр Путов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Я, конечно, к этому времени уволился с лифтерной работы, получил немного денег, но их быстро не стало.
Мариенберг ждал результатов.
На этой ступеньке, по просьбе тов. Лебедевой, мне пришлось оставить половину тех работ, над которыми я работал десять лет.
Осталось 2250 листов, картонов, холстов, которые Лебедевой предстояло подписать! Но когда я пришел в следующий раз, мне сказали: «Нам позвонили из Третьяковки, сказали, что вы пытались провести нелояльные работы. Оставьте еще двести пятьдесят работ, а остальные я подпишу. Вы сами знаете, какие работы лучше оставить. На таможне проверят все. Если у вас будут “нелояльные” работы, у вас могут быть большие неприятности». Я отложил еще двести пятьдесят листов, разные наброски. Мариенберговы работы еще были при мне, еще был шанс. Но в следующий раз, когда я пришел узнать, подписаны ли фотографии, я услышал: «Мы тут посоветовались и решили, что, может быть, все эти работы, которые вы пытаетесь увезти, вообще не ваши. Мы хотим пригласить экспертов-реставраторов, которые определят, ваши ли это работы. Придите через две недели, такого-то числа, в Андроников монастырь, и привезите все работы, которые вы хотите везти в Израиль. Это все, дайте нам отдохнуть».
Прежде чем я взойду на эту предпоследнюю ступень, я расскажу, как я чуть не погиб в эти дни. Мне удалось устроиться сторожем в детский садик рядом с лифтерской диспетчерской, из которой я уволился. Там было несколько больших газовых плит, я не знаю, зачем они были в детском садике, – очень большие газовые плиты, как в армии. В мою обязанность входило, когда я дежурил ночью, утром в пять утра или в 4.45 зажигать две или три печки, как большие духовки. И вот однажды я это сделал и лег в коридоре перед выходом на кушетку досматривать сон.
Вдруг (прошло уже много времени, может быть, полчаса, как я включил печи) я почувствовал душок, было что-то нехорошо. Почувствовал, что я на волосок от смерти. Я собрал всю волю, чтобы встать, вошел туда, где печки. Боже мой! Одна конфорка зловеще шипела (я ее не зажег, а только включил), а вторая горела угрожающим пламенем. Может быть, еще секунда-две, и все мои проблемы были бы решены…
Я успел выключить все, открыл окна, оставил открытой дверь и кое-как добрался до дома (было метров двести). По дороге меня страшно рвало. Я буквально дополз до квартиры. Был синий, почти что при смерти – сильное отравление газом.
Но мне суждено было выжить, потому что я должен был привезти свои работы в Андроников монастырь на показ реставраторам.
Так я и сделал, только Мариенберговы работы тогда уже не имело смысла брать, мы оставили это. Не получилось. Снова мне помог Славка, таскал папки. Не знаю, как мы сняли машину, может быть, Славка заплатил своими деньгами, помню, что денег не было.
Реставраторы внимательно, в присутствии представительницы из Третьяковки и Министерства культуры, осмотрели все работы и вынесли мне приговор: «Работы хорошие и очень хорошие. И все его» (т. е. мои).
«Вот что, – сказал главный из них (буквально). – Раз уж вы так обосрались (он обратился к Третьяковке) и дали бумагу, что все это ничего не стоит, то мой вам совет: дайте ему (он кивнул на меня) взять уже те работы, которые здесь, а остальные работы пусть он вам за это подарит. Сделайте ему в Третьяковке комнату для его работ, потому что придет время, когда его работы будут цениться».
Это был мощный удар, он рассекретил меня, этот реставратор.
Третьяковская галерея позеленела от злости. Хорошие работы?! Пусть платит тогда деньги. Еще чего! Комнату ему! (Это был период, когда уже свеклу жене не на что было купить.)
Я понял, что проиграл. Но Богу угодно было сделать чудо. Вот как это было.
За день до отъезда мы с женой пришли в Министерство культуры. Оставался последний маленький шансик устроить там скандал. Я хотел их напугать тем, что я на весь мир устрою шум, расскажу, как здесь обращаются с художниками, хуже, чем с собаками.
Вдруг мимо нас уже там в коридоре прошел какой-то человек, узнал Марину, поздоровался с ней (оказался ее шеф из «Охраны памятников», где она работала до больницы):
– Мариночка, здравствуйте, что вы здесь делаете?
– Да вот (она его назвала по имени-отчеству), это Саша, мой муж, он художник и хочет взять с собой свои работы, а ему не дают.
– Как это? Товарищи, – сказал он, – ну что вы? дайте ему… зачем вам?!
Не знаю, каким влиянием он обладал в Министерстве культуры, только факт, что через две минуты у меня в руках была драгоценная бумажка от Министерства культуры: такому-то (мне) разрешается взять в Израиль с собой две тысячи работ без оплаты.
И все фотографии подписали.
Это был наш предпоследний день в России.
Один день Ивана Денисовича
Теперь я опишу один день Ивана Денисовича.
Ситуация резко изменилась. Оставалось немного больше суток до отлета. Было, кажется, воскресенье, потом скажу, почему я так думаю. Денег не было, можно сказать, ни гроша. Мы были совершенно одни, и никто не хотел к нам прийти.
Надо было решить несколько огромных проблем. Во-первых, ящики: даже если бы были деньги для того, чтобы оплатить вес багажа и купить фанеру, был выходной и все магазины были закрыты. Накануне отменили оплату за дипломы. Я не знаю, на что мы надеялись, только на чудо. Мы должны были бы сейчас заплатить тысячи по две рублей за каждый диплом.
Встретился Слава Кокляев:
– Как дела?
– Дела такие, – говорю. – Каким-то чудом дали разрешение на вывоз картин. Но у меня нет ящиков, чтобы погрузить в них картины и папки с рисунками, даже если бы были деньги, уже негде купить фанеру и доски.
– Вот что, давай договоримся так, ладно? Ты приносишь мне бутылку водки, ладно? Я не знаю, где ты ее возьмешь, укради, купи. Это твоя проблема. Моя проблема – я сделаю ящики. Ты мне скажешь размеры. Сколько тебе надо ящиков?
– Три. Но где ты возьмешь фанеру?
– Саша, я тебе сказал, ладно? Это моя проблема.
Я пошел к соседу, жившему на моем этаже. Это была пара простых симпатичных молодых людей, русских, совсем не евреев, которые знали, что мы уезжаем в Израиль.
Я им сказал так:
– Ребята, я не хочу ничего объяснять, мне нужна бутылка водки. Можете мне ее дать, ничего не спрашивая?
– Можем, заходи. Как дела? Вот бутылка.
Я очень кратко рассказал. Отнес бутылку Славке.
– Ладно, давай размеры ящиков. Я останусь сегодня ночью и все сделаю.
Я обдумал размеры ящиков и написал.
– Когда тебе нужны ящики?
– В три часа ночи.
В три часа ночи мы должны выехать, чтобы быть в аэропорту в 5.30. Ладно. Хорошо, если ящики будут готовы завтра до двенадцати ночи.
В этот вечер мы пытались кому-нибудь дать какие-то работы, просто подарить, чтобы спасти их. Стояло, по крайней мере, тысячи две работ, на картинах, бумаге, оргалите, много папок с рисунками, и некому их дать. Был один знакомый актер из Моссовета, по фамилии Демин. Он любил работы. Приехал вечером, взял папочку рисунков, но через два часа привез обратно: «Жена не хочет».
Пришел Мелик Агурский, сильно удивился: «Вы знаете, хорошие рисунки, дайте мне папочку, я попробую их переправить», – ему особенно понравились карикатуры «Кремлевские звезды». Он хлопал в ладоши, потирал руки, крутился: «Вы знаете, я ничего не обещаю, но я попробую вам переслать в Израиль, я узнаю ваш адрес». И что, он взял эту серию, и году в 1975-м пришел пакет мне в Хайфу, где я жил, от Мелика Агурского. Это были в четыре раза свернутые (сложенные) рисунки, которые он взял. Он, правда, потом отблагодарил себя, взяв «повисеть» пять-шесть картин, которые так у него и висели до его смерти, но об этом потом. Больше в этот вечер никто не хотел прийти. Это правда, и очень горькая. Я смотрел на свои тысячи рисунков, которым я отдал десять лет, лучших лет своей жизни.
И вот было похоже на то, что завтра мы уедем, они останутся в квартире, и все, конечно, выкинут на помойку, а куда же еще? Что, мне сделают запасники в ЖЭКе, где я работал лифтером и все смеялись над тем, что я рисую, кроме Лени Губанова, Мошкина и еще нескольких близких людей? Но у меня было слишком много неотложных проблем на следующий день, чтобы предаваться печали. Тем более мне хотелось спасти работы, на которые у меня есть разрешение.
У меня созрел план действий. «Вот что я сделаю, – сказал я Марине. – Давай закажем грузовик на завтра. И хотя нечем заплатить шоферу, я нагружу машину разной мебелью (которой было немного в квартире, но был очень красивый антикварный стол, полки, еще какие-то вещи, я не помню) и отвезу к матери. Я должен попрощаться, может быть, мать найдет нам деньги, когда-нибудь я верну ей».
Я привез разное барахло утром в Ногинск, работы везти я не хотел. Мать не понимала моих работ, боялась этого моего увлечения, и я предпочитал, чтобы работы были выброшены на помойку дворниками, а не матерью. В общем, у меня не было даже в голове отвезти их матери.
Мать, конечно, нашла деньги заплатить шоферу и для нас рублей двести или двести пятьдесят, нужных для того, чтобы оплатить вес багажа и грузовик для перевозки в аэропорт. Этих денег должно было нам хватить (мы знали тариф).
Я недолго был у родителей, попрощался с отцом и матерью и быстро возвратился в Москву.
Никогда не забуду взгляда матери, который она бросила на меня и заплакала: «Я больше никогда не увижу Сашку». Судьбе было угодно, чтобы мы встретились, но только через восемнадцать лет, зимой 1989 года…
Я быстро ушел, не оборачиваясь, мне было очень больно за мать, жалко ее. Дины не было при моем отъезде, так как я приехал неожиданно.
Приехав домой, я взял оставшиеся книги, которые я надеялся увезти с собой, и сдал их в букинистический магазин, мне дали какие-то деньги. Я не хотел рисковать, книги были тяжелые, и денег могло не хватить, ведь я не знал, сколько килограмм будет в багаже, важнее было взять картины.
Потом оставалось пристроить чемодан рукописей (дневники). Помог Ваня Кроленко, я успел отвезти чемодан ему домой, и он стоял у него шестнадцать лет, этот чемодан. На шестнадцатом году, правда, он уже сильно надоел, его поставили на открытый балкон, и рукописи подмокли, но кое-что еще было видно. В 1989 году я отвез этот чемодан в Париж. Это другая тема.
В период подготовки к отъезду я сфотографировал дневники на случай, если потеряются рукописи, и у меня была приготовлена коробка с рулоном пленок небольшого размера, которую в этот же день, 23-го, я хотел переправить в Израиль через голландского посла.
Я пришел в голландское посольство около половины шестого вечера. Ида Нудель не подвела, принесла какие-то деньги, которые были необходимы для того, чтобы войти в голландское посольство.
С коробкой пленок за пазухой я прошел мимо милиционера, он ничего не заметил. Там мне в визе расписались, где-то записали долг, который я должен буду возвратить Сохнуту за пересылку багажа и за билет на самолет. Вдруг мне говорят: «Слушайте, у вас нет подписи австрийского посла, вы не можете уехать без его подписи. У вас есть ровно десять минут. Это недалеко отсюда, может, вы успеете. Если нет, то у вас пропадет виза».
Я засунул коробку с пленками поглубже в брюки и кинулся бежать.
Подбежав к посольству, я увидел человека, закрывавшего калитку. Было ровно шесть часов вечера. Это был посол.
Я завопил (завыл): «Слушайте, у меня сегодня ночью самолет в Вену. Ради бога, мне нужна ваша подпись».
Он с удивлением посмотрел на меня, сказал спокойно: «Пожалуйста-пожалуйста», расписался в нашей визе, улыбнулся и ушел. Я настолько озверел от чиновников Совдепа, что заплакал. Камень упал у меня с души.
К счастью, посол оказался добрый, благожелательный человек. Подбегая к посольству, я опасался, вдруг он скажет: «Извините, рабочий день кончился» или что-то в этом роде.
Все клеилось. Про пленки я забыл.
Я возвратился домой. Марина, хотя и волновалась, была в порядке, не родила. Ящики были готовы в десять часов вечера. Мы все упаковали со Славкой, спустили ящики вниз (никто не украдет). Что-то выпили. Никто не пришел нас проводить. Ни одна душа. Но в одиннадцать вечера в дверь постучали. Пришла Лена Васильева и Саша Рябиков. Они-то и поехали нас проводить на аэродром, только они. Да, «Божественную Комедию» я взял с собой. Там было множество рисунков и много написано всего на полях (примечания, которые я переписал, для удобства чтения).
Это, конечно, криминал, украсть такую книгу у советского народа, но я опять поступил «нечестно».
Таможенники тщательно, точно так же, как гэбэшники в Третьяковке, проверяли работу за работой, ее соответствие списку и фотографиям, проверили все, работу за работой. К счастью, не оказалось никаких недоразумений, никаких описок, а не дай бог ошибок – придрались бы к любой мелочи, но все было правильно.
«Божественная Комедия» была за пазухой, и я ждал удобную секунду, когда все отвернутся от ящика. И я опустил книгу в нужный момент, и никто не поймал меня за руку. Оставалась последняя проблема: пленки, которые тоже были при мне.
Вот их-то я не успел опустить в ящик. Каюсь, их увезла Леночка, и им пришлось шестнадцать лет путешествовать по разным людям, пока я их не разыскал в 1989 году и не привез в Париж.
Нас тщательнейшим образом обыскали, жужжали машинкой, смотрели в рот, даже задержали самолет из-за нас минут на десять. Не знаю, что они искали, золото, что ли.
Потом Марину куда-то повели. «Оставьте ее ради бога, – заорал я, – она очень больна, она может родить в любую минуту, она плохо себя чувствует».
«Ладно, – сказал один товарищ другому, – оставь их, пусть едут».
Часть вторая
СТРАНА МОЛОКА И МЕДА
Упавшие листья
24 апреля мы покинули страну абсурда и задушевности. В самолете я молчал и молился только об одном: «Дай боже, чтобы не произошел очередной выкидыш у Марины, чтобы нам благополучно долететь до Вены». Шел седьмой месяц беременности.
Люди, которые сидели возле меня, мне казалось, летят с единственной целью поймать меня на слове, за язык, чтобы из Вены возвратить меня обратно в родную кастрюлю. К счастью, долетели без этого. Из аэропорта нас повезли куда-то на роскошном просторном автобусе. Было раннее утро. Вена блестела опрятненькая, как кружева дамских панталон. Домики предместий были как цветочки на немецких открытках, чистенькие, ухоженные.
В замке Шинау, куда мы приехали, нас охраняли часовые в немецких касках, и я почувствовал себя как бы в концлагере, только наоборот. С нами были необыкновенно вежливы, шикарно кормили, как бы охмуряли. Я чувствовал, что я нужен, но не мог понять, кому и для чего.
Большинство шли в одну и ту же сторону, но некоторые сворачивали… Мне было ясно: раз за меня платят, значит, меня покупают. Успокаивало то, что все записывалось на бумажке, т. е. мой долг. Значит, я не обязан был себя чувствовать в неоплатном долгу. Я больше думал о Марине.
В какой-то момент меня пригласили к столу. Счастливо улыбаясь, меня спросили:
– Вы уже сделали себе брит-миля66
Брит-миля (ивр.) – обрезание крайней плоти по иудейскому закону, знак Завета.
[Закрыть]?
Я открыл рот:
– Я не понял. Простите… А что это такое?
– Как, вы не знаете, что такое брит-миля?
– Нет.
Приложив ладонь к своему рту и уху соседа, спросивший сказал:
– Он не знает, что такое брит-миля! Вы еврей?
– Я не знаю. У меня мама еврейка, а отец русский. По матери я – еврей, по отцу – русский.
– Значит, еврей, раз мать еврейка.
– Вам виднее. (Я тогда не знал, что по еврейскому закону национальность, которых две, определяется по матери. Позже я узнал, что есть только две национальности: одна из них – еврей, а вторая – гой.)
Ладно, пусть идет, сказали мне.
С Мариной не было проблем. У нее и отец и мать были евреями.
– Это неважно, – пошутил я, – главное, чтобы человек был хороший, – высказал я свою теорию.
На меня неодобрительно посмотрели, теория моя была неправильной, однако нам выдали еврейские паспорта, так как мы умолчали, что были христианами. И правильно сделали, ведь речь шла о национальности, а не о вере. А если спросили бы о вере, конечно, я сказал бы, как я верю. Но самому начинать разговор о вере не надо было. Это было не место и не время для того, чтобы проповедовать христианство.
Тогда бы нам выдали волчий паспорт, который невероятно осложнил бы нашу жизнь в Израиле. И не знаю, смогла ли бы Марина благополучно родить нашего дорогого сынулю. Думаю, что я поступил как мудрый змей.
По прошествии полутора суток пребывания в Шинау мы снова взлетели и через каких-то пару часов приземлились на Святой земле, в Луде.
Когда мы вышли из самолета, мне понравилось небо, оно имело особый зеленоватый оттенок, который я нигде раньше не видел. Может быть, это объясняется рефлексом от песков пустыни, только небо было очень красивое. Ощущение особенности этой земли, где мы оказались, было очевидным.
Объяснялось ли это тем, что каждый сантиметр земли был полит кровью, которая лилась здесь обильно на протяжении веков и тысячелетий, или необыкновенностью событий, происходивших здесь, чудес, или тем и другим вместе, только у меня кружилась голова, когда я представлял себе, что по этим тропинкам ходили величайшие люди человечества, великие пророки и цари, жизнь которых стала притчей для многих поколений людей во всем мире, и сам Господь Иисус Христос воплотился здесь, среди этих камней…
Это было как сон, как видение. Странные существа в черных сюртуках и в черных шляпах, поверх ермолочки, с веревочками по бокам и длинными пейсами, гордо смотрели поверх голов; «саддукеи и фарисеи» – носилось у меня в голове; некоторые имели ангельские лица, некоторые напоминали чертей; во всяком случае, я таких людей никогда и нигде не видел. Ощущение, что я попал в мир двухтысячелетней давности, не покидало меня. Повсюду звучал незнакомый язык, на котором говорили пророки и сам Господь Иисус Христос.
После волокиты с бумагами (в моем теодат зеут, паспорте, было уже довольно много цифр, значение которых я узнал позже), где-то было записано, что мы архитекторы, академаим, т. е. люди с высшим образованием. Это имело в глазах чиновников большое значение, благодаря чему нам дали возможность выбирать (многих посылали куда хотели) временную квартиру в больших городах – Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе. Мы выбрали Хайфу, так как слышали от Мелика Агурского, что Хайфа – относительно небольшой, но очень красивый городок. Впрочем, не было много хлопот в этот день. Была пятница, и нас надо было как-то устроить до захода солнца… И вот мы мчимся на такси (было уже почти четыре вечера) в Хайфу. Хороший механизм, законы которого мы тогда не понимали, прокрутил нас по великолепному шоссе Хайфа – Тель-Авив, вдоль моря, вдоль запыленных пальм, где-то мелькала пустыня, зеленые оазисы городков, почти сплошная зеленая оградительная полоса вдоль шоссе. Вот мотор великолепного «кадиллака» заревел, мы стали подниматься в гору, увидели потрясающую панораму города Хайфы с храмом Бахай в нужном месте. Через каких-то десять минут автомобиль остановился, шофер сделал нам знак выходить, проводил нас в шикарный отель и записал в наши паспорта новые цифры. Мы мало что понимали тогда. Марина чувствовала себя неплохо. Мы провели два дня в этом роскошном отеле, где нас поили и кормили до отвала и мы ничего и ни за что не платили, только нам записывали и записывали новые цифры в теодат зеут. В нужное время за нами приехали нужные люди и отвезли нас в нашу временную квартиру в Тират-Кармель, в предгорье горы Кармель в полукилометре от моря, которое мы видели из окон нашей великолепной, но совершенно пустой квартиры. Эти дни были как сон, о нас заботились, с нами нянчились, мы были нужны кому-то. Только увеличивались и увеличивались цифры в наших паспортах. Мы были клиенты, которые всегда правы.
Только потом я узнал, что государство получало от Америки огромные деньги для своих новоприбывших братьев, которые рукою Сохнута (Еврейского агентства) давало в долг оным, убивая сразу двух зайцев. Эти цифры, обозначающие доллары, не давали их обладателям уехать из страны, пока те не расплатятся. А деньги, полученные безвозмездно, рассасывались среди государственных чиновников, поскольку новоподнявшиеся все равно восполняли пропажи и убытки. Для этого в те далекие годы существовал метод утаивания прав оле-хадаш, или нового листочка.
Впуклая скульптура
Одно из первых впечатлений нашего жития на Святой земле было следующее. Однажды, проходя средь полей, окружавших Тират-Кармель, мы заметили потрясающей красоты оливковый ствол, который был сожжен внутри кем-то и зачем-то. Дерево умерло, и эта, быть может, метровая в диаметре штука красовалась в километре-двух от нашего поселка.
Немедленно, чтобы кто-нибудь не опередил меня, я помчался за пилой, которую взял с собой на случай, если придет багаж, и для других случаев. Поработав час или два (не помню от счастья), я спилил эту красивую «бочку» ростом с меня, которая была достаточно легка, чтобы я сумел прикатить ее к дороге. Остановив машину, я знаками убедил шофера подвезти эту штуковину мне к дому. Человек оказался хороший, он помог мне вкатить штуковину в машину, и мы счастливо подвезли ее к дому. У нас были какие-то деньги, данные нам на мелкие расходы и на питание. Я заплатил что нужно этому человеку, поставил корень или ствол возле дома и немедленно побежал домой за инструментом; кажется, мы жили на третьем этаже. Минуты через две-три я вышел из подъезда, глядь – штуковины как не бывало. Я ужасно расстроился. Вместо первого этажа под домом была терраса. В тени, между столбами, игрались дети лет пяти-шести. Подойдя к ним, я попробовал руками изобразить мое горе, – дети продолжали невозмутимо играть, не обращая на меня никакого внимания. Я снова вышел к тому месту, где оставил корягу, – увы, ее и след простыл.
Подняв голову, я посмотрел по сторонам. Соседние четырехэтажные дома были в двадцати метрах по левую и по правую сторону от моего, и этот двор замыкался четвертым домом, подобным моему. Я увидел во многих окнах людей, похожих на грузин, которые молча, но как бы с упреком смотрели на меня. «Где, – сказал я, – где коряга, которую я привез?» Все молчали, только один сказал: «Нэ знаем, что ты хочэшь». Я пошел искать вокруг моего дома и вдалеке, метрах в пятидесяти, увидел корень, который как будто чудом отнесен был туда. Я ничего не мог понять, зачем понадобилось это делать?
Я прикатил корень обратно и поставил на то же место. Очистил стамеской кору и уголь, который образовался от сожжения внутренней стороны ствола, уголь аккуратно собрал в мешки и выбросил в помойку, а место, где я работал, помыл водой из шланга, который лежал рядом, не осталось никаких следов. Но на меня смотрели злые глаза из трех домов, окружавших меня. «В чем дело? – думал я. – Ничего не понимаю, еще не поздно. Почему им мешает то, что я работаю?»
Распилив пустой ствол на две части, я сумел втащить их на третий этаж, где жил, разумеется, не выпуская из вида вторую половину, пока катил первую. Позже я узнал разгадку этой истории. В моем доме этажом выше жил очень симпатичный человек, раввин Иосиф, вместе со своей женой, очень милой и доброй женщиной. Оба они нам симпатизировали. Кажется, для них что-то значило, что я художник. Его предки были выходцы из России, хотя сам он родился в Израиле.
В будущем, когда у нас в квартире бывали люди, знавшие иврит и русский, и могли перевести, мы беседовали с Иосифом об искусстве (Иосиф заходил иногда к нам). Мудро и с любовью глядя на меня, Иосиф объяснял мне, что рисовать можно, а вот скульптуру делать нельзя.
– Почему?
– Потому, что живопись двухмерна, а скульптура – трехмерна.
– Но живопись бывает и трехмерна, у Рембрандта, например. А скульптура может быть барельефом, почти двухмерной.
– Нет, скульптуру делать нельзя. Потому что, когда человек делает скульптуру, он молится.
– А я молюсь тоже, когда рисую.
– !!!
– Нет, меня не удовлетворяет такое рассуждение. На святых вещах, например ковчеге, были выпуклые изображения.
– Это другое дело.
– ???
И т. д. и т. п. И к этому еще одно: «Этот сказал это, это сказал этот». На таком глубоко провинциальном уровне мы беседовали с этим духовным учителем, ничего не понимавшим в творчестве и в законах творчества.
Но я понял из беседы, что эти добрые люди, которые укатили мою корягу, сделали мицву, т. е. доброе дело, исправив мою ошибку. Я же сделал сразу несколько грехов.
Самая большая моя ошибка в том, что я, художник, почти что профессиональный грешник, притащил им корягу, скульптуру, песел, идола, наконец, чтобы они ему поклонились, да еще сделал это перед Пасхой, что усугубляет мой грех, да еще работал над ней после захода солнца в пятницу, когда началась суббота.
Это было большое огорчение для меня – такое отношение к художнику и к творчеству. Я понял, что это глубокий древний предрассудок, которым накачивали народ «учители» в течение тысячелетий.
«Очень сомнительная профессия» – это точка зрения религиозных людей на художественное творчество.
«Ремесло», как изготовление стульев, чемоданов, кошельков и т. п., – общепринятая точка зрения на искусство.
«Бизнес, гешефт» – точка зрения государственная, то есть изготовление хорошо продаваемых картин, рисунков, скульптур.
Художник, производящий лишенное материальной заинтересованности искусство, это сумасшедший или до непонимания хитрый жулик, который морочит голову властям, уклоняясь от налогов.
Лучше, моральней содержать бордель, чем создавать «выпуклую» скульптуру. Впуклую (по выражению Басина) – можно.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?