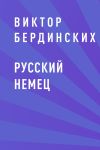Текст книги "Реализм судьбы"

Автор книги: Александр Путов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Санчасть
Я строил забор до 26 сентября 1961 года. Не то чтобы я это помнил, у меня сохранились многие дневники.
В этот день произошел несчастный случай: умер Ванечка, тот маленький, слабенький солдатик, который таскал шпалы в сугробах под Выборгом. Я там написал «через год умер», извиняюсь. Прошло только полгода с тех пор. Он умер не от болезни, а от человеческой подлости. Ваня вместе с другими исцеленными возвращался из госпиталя. Было, может быть, человек пять, их везли в военной санитарной машине. По дороге они заехали в Выползово, в знаменитую Таверну, и отметили свое выздоровление, угостили тоже Ванечку. Подъехав к баракам, они потихоньку вылезли из машины и разошлись кто куда, а Ваню оставили в машине, так как он уснул (слабенький был). Ночью его рвало лежа, и он задохнулся. Когда открыли машину – он был совсем синий.
Фельдшера, который их вез, конечно, сняли с работы, но, кажется, даже не наказали – не хотели выносить сор из избы. Этот случай лег бы пятном на начальство. Поэтому Ванечку быстро похоронили, а дело замяли. Кого ставить фельдшером? Меня. Знали, что я закончил два курса медицинского института, – годится. Мне дали отдельную комнату в санчасти. Боже мой, какое это было счастье! У меня было несколько часов в день, когда я мог читать. Я воспрянул духом. Я ошалел от казармы, этого вонючего барака, начинал сходить с ума, мой «непосредственный» был совершенно ничтожная личность, лейтенант завистливый и трусливый. Он питал ко мне антипатию, но я работал хорошо. Мне жалко было несчастных «воинов», которые приходили ко мне с огромными чирьями на жопе, на шее, а не на лице. От земляных работ и от грязи в части был повальный фурункулез. Всегда стояла очередь: пять, десять, пятнадцать, иногда двадцать человек.
Система была простая: на уже болевший чиряк накладывалась ихтиоловая мазь, и, когда он созревал, через день-два пациент приходил снова, я двумя большими пальцами выдавливал корень (или корни – когда это был карбункул) и ставил пластырь с мазью Вишневского, такая кашица вроде горчицы. Иногда приходили с ожогом, ушибом, переломом кости, но этим занимался уже шеф. К удивлению своему, я замечал, что мне нравится работа. У меня даже появились сомнения, не сделал ли я ошибку, порвав с медициной, но к вечеру это проходило, когда я брался за книгу, я забывал все, зачитывался. И чувствовал, что моя дорога другая.
Я был неимоверно счастлив в эти дни.
Да, в мои обязанности также входило до обеда, завтрака и ужина приходить на кухню опробовать приготовленные яства. Я съедал ложку похлебки и писал в специальной книге: «Суп приготовлен хорошо. Подпись». В те годы шпиономании этим достигалась двоякая цель: если огромный котел отравлен и я помру, то ясно, что других кормить этим не надо. Но если продукты несвежие и всех проберет дрисня, то судить надо меня, а не начальство, так как я письменно подтвердил, что суп хороший. Если же меня в самом деле пробирало, то не есть суп было поздно, так как к тому времени он был уже съеден.
Товарищеский суд
В декабре произошел скандал в части: Бушменев побил повара. Он задержался на работе, пришел чуть позже, попросил что-нибудь поесть, а тот не дал.
В этот период в армии изобрели «Постановление о товарищеских судах». Никто не знал, что это такое. Какая-то игра в солдатские депутатики.
Меня вызвали в комнату политработника. Там сидели человек десять и склоняли Бушменева. Анатолия не было. Политработник буквально потирал руки, он предвкушал расправу над нарушителем дисциплины, тишины и спокойствия. Распределялись роли: каждый должен был лить говно на Бушменева. А под конец политработник встал и погрозил кулаком: «Я ему врежу так…» В общем, я понял, что должен участвовать в суде.
Прежде всего я пошел к побитому повару. Так, мол, и так, зачем тебе губить парня, ему угрожает два года дисциплинарного батальона, и это не вместо службы, а дополнительно, после военной тюрьмы он снова должен возвратиться сюда и продолжать службу. Ну, он ударил тебя, ты ударил его, подрались – и дело с концом. Я хочу, чтобы ты написал мне бумагу, что вы помирились. Может быть, это поможет.
И он дал мне эту бумагу.
Вот наступил день суда. Я сидел вместе с другими «свидетелями» и «депутатами» за красным столом.
Полилась грязь: и того он побил, и этого, тут он сказал одно, там он сказал другое, и это не так, и то не то – в общем, как обычно.
На столе лежала книжица, брошюрка такая, «Постановление о товарищеских судах». Начал читать с конца: «Если солдаты поладили между собой после драки, то товарищеский суд не нужен».
Я тут же попросил слово и зачитал эту строчку из Постановления. И добавил: «У меня есть доказательство, что они поладили между собой. Вот оно».
Что тут сделалось, переполох!
Политработник сделался багровый, но ничего не сказал, толпа солдат вскочила на ноги: «Мы жрать хотим, а вы нам голову морочите» – и повалила из дверей, было предобеденное время. Факт позора был налицо.
Через несколько минут я уже стоял перед этим лицом. Я ничего плохого не сделал, и упрекать меня было не за что.
Но он сказал: «Мне доложили, что в санчасти спирт пропадает. Завтра ты снова едешь в лес». И я продолжил свою работу над забором. А Бушменев на радостях, что его освободили, напился в Таверне и вышвырнул бутылку через открытое окно, и надо было такому случиться! – попал в проезжего офицера. Взбешенный, тот влетел в столовую: «Кто это сделал? Кто выкинул бутылку?»
«Я», – скромно сказал Бушменев и, не дожидаясь других вопросов, врезал ему по морде. Тут уже без суда и следствия, как говорится, влепили ему два года военной тюрьмы.
Он написал мне оттуда, прислал адрес. Когда я вышел на свободу, послал ему томик Роберта Бернса, мне казалось, что ему понравятся стихи. Но книга пришла обратно со штемпелем «Адресат выбыл».
Новое назначение
Итак, в декабре 1961 года я продолжил свои изыскания. Как черви, мы ковырялись в земле. Я работал над забором, а под забором меня глодал червь познания.
Отдыхать не давали. Бывало, полдня крутились возле огромной коряги, долбили мерзлую землю железяками. Толкали ее и так и сяк. Потом приходил трактор и как пушинку выдергивал ее из дыры, которую мы прорыли. Меня убивала эта бессмыслица. Я бы сказал, бессмысленный труд – это в своем роде пытка.
А в пять утра (кажется, в 5.15) нас будила музыка, дикий джаз врубался на полную мощность для нашей бодроты; пританцовывая, мы шли умываться на то же болотце, где зимой делалась прорубь. Я уж не помню, изобрели ли у нас там под конец умывальник, но прорубь я помню.
Через месяц я получил новое назначение. Меня вызвал к себе капитан Малинов, который был начальником нашего барака, и предложил работать в кочегарке. Он меня зауважал после моего выступления на собрании, посвященном Бушменеву. Вообще, он мне симпатизировал. Я хочу немного рассказать об этом человеке. Он был явно не на своем месте, говорили, что его выгнали из Германии, где он служил, за пьянки. Он был полный умный мужик лет пятидесяти, носил черные очки и был на две головы выше всей офицерской части, вместе взятой. Он часто острил, позволял себе поговорить с солдатом, если видел у него сколько-нибудь ума. По ухмылке, которую я замечал на его губах, я видел, что он действительно находится в ссылке, в изгнании, возможно, дело не в пьянке. Он был интересный человек, возможно, даже талантливый, а не бездушная машина. Этого достаточно.
Я, впрочем, вспомнил, что встретил в армии еще одного порядочного человека. Он был лейтенант или старший лейтенант в радиороте, где я был в Выборге. Его фамилия была Стутон, может, он был латыш или литовец, не знаю. Человек чести, благородный, красавец, его любили солдаты, он все делал красиво и со вкусом, умел облагородить даже пошлые нормы устава. Действительно, всегда можно быть человеком.
Итак, хочу ли я работать в кочегарке?
С удовольствием. Так я стал кочегаром, в январе 1962 года шел третий год службы. И хотя я жил в общей казарме, которая могла взорваться от вони, по ночам я ходил кочегарить. Расскажу об этом поподробнее, потому что следующие два месяца были, может быть, самыми счастливыми за время службы.
Я должен был вечером, часов в восемь, идти километра два лесной дорогой (шоссе), хорошо освещенной и заснеженной. Все было белым-бело. Иногда шел снег, кружился в свете фонарей, деревья были сказочно красивы, намного красивей тех, которые мы корчевали.
В общем, я приходил в кочегарку около девяти вечера и до утра должен был поддерживать огонь в трех больших котлах (не знаю, почему их называют котлами). Это были три огромных печи, куда забрасывали полутораметровые бревна. Три дверцы, одна возле другой. Когда надо было, приносилась солярка, плескалась кружкой, и дрова начинали гореть лучше. Потолок был очень высокий. Печь была ниже потолка метра на полтора, и там всегда грелись солдаты, которые работали в ночную смену. Сбоку от печки была лестница, которая вела туда. Я, конечно, читал всю ночь напролет, а утром возвращался. Меня подменял коллега.
Снова прогулка по лесу, мне полагался завтрак, потом я спал до обеда, и вторая половина дня тоже была свободная. Это был кайф.
Где-то в феврале была вьюга. Было очень холодно. Лопнула труба во время моего дежурства на верху водонапорной башни, которая стояла рядом, метрах в пятидесяти. Телефона не было в кочегарке. Я не знал, как поступить. На верх водонапорной башни вела металлическая лестница из стержней, без ступенек. Лестница, потом площадка, опять лестница, зигзагами, и я решил полезть, посмотреть, что там делается.
Я полез, был сильный ветер, вода брызгала, и стержни обледенели. Когда я залез до середины, я понял, что лезть дальше бессмысленно, стержни местами так обледенели, что лезть было просто опасно. Перчатки намокли и приклеивались, руки замерзли, ветром меня сдувало, я еле держался, коленки дрожали, было скользко, пахло трагедией. Я понял, что надо слезать как можно скорее, так как руки не слушались. Я кое-как слез (там, где я приклеился, высота была метров десять, ).
Кое-как добрался до земли, я весь дрожал. Пошел греться. Печи прогорели и почти гасли. Я подбросил дровишек – они не разгорались. Надо принести солярки, я взял ведро и пошел к двум бочкам, которые стояли рядом с кочегаркой. Принес полведра. Плеснул кружечку в один котел, второй и третий, и пошел по лестнице на печку греться. Когда я был на середине лестницы, раздался оглушительный взрыв, такой силы, что я оглох, ведро шлепнулось о стену, сплющилось, стены почернели и проводка загорелась. Я видел, как солдаты встали, как волосы на голове, вышибли ногами окно, которое было наверху, и стали прыгать вниз в снег; они думали, что взорвался котел, и они сейчас полетят в огонь.
Тогда я понял, почему эти печи называли котлами. Я не помню, как я закончил свою работу, как добрался до казармы. Кочегарка была за день до этого выкрашена, выбелена, а стала черная, как сапог в день 7 ноября.
«Что будет, что будет».
Накануне Баранов жаловался Малинову, что я плохо несу службу. Он вызвал нас обоих к себе и спрашивает Баранова:
– Ну, как Путов несет службу?
– Плохо товарищ Путов несет службу, – озабоченно сказал тот.
– А что такое, в чем дело?
– Читает. Зачитывается.
Откуда он знал это слово «зачитывается», я не знаю. Он на меня стукнул, но не ожидал, что придется подтвердить свои слова в моем присутствии. Я знал, что Малинов сделал себе маленькое представление. Или развлечение.
– Не надо кляузничать, – сказал начальник и выпустил Баранова из дверей.
Он засмеялся, я хмыкнул, и на этом все кончилось. Я ожидал суда, следствия, могли счесть диверсией, посадить, что угодно, убытки я нанес большие. Но ничего не было. Меня сняли с работы и послали снова в лес, из которого я уже не вылезал до конца, бросили на забор.
Оказалось, что в темноте и нервном стрессе я набрал в ведро бензин вместо солярки и оставил его возле печки, не закрыв дверцу, пошел греться. Выскочила искра…
Если бы я вышел в это время из дверей за дровами или еще за чем, факт диверсии был бы доказан, но, так как я сам был внутри и шел по лестнице наверх, сочли, что это несчастный случай.
Как бы то ни было, я «сидел на заборе» до дня своего избавления 2 сентября 1962 года.
Первый день творения
3 июня произошло событие, которое изменило все в моей жизни, решительно все.
Возможно, это было воскресенье, день был нерабочий. Был один паренек в бараке, который готовился к поступлению в художественное училище. Он предложил мне:
– Хочешь, пойдем в лес рисовать?
– А что мы будем рисовать?
– Найдем.
Идем. У него был альбомчик, карандаши, ножичек. Это был простой парень, я его много раз видел, но не было между нами никакого контакта до того дня. Мы ушли в лес и возвратились вечером. Мы нашли место, полное выкорчеванных пней, коряг (то, что мы корчевали, свозили в одно место и сбрасывали в болото). Это было очень живописно, захватывающе и многозначительно. Огромные пни валялись в болоте. Жизнь могучих деревьев была приостановлена, мощные корни вились, как змеи, я видел в них всякие вещи, переплетающиеся тела, лесные духи, фантазия моя разыгралась… Я сделал в тот день несколько рисунков, которые сохранились у меня до сих пор, хотя сильно стерлись, испачкались во многих переездах моей жизни, их было немало в течение более чем тридцати лет, которые прошли с тех пор.
Что, в сущности, произошло? Я и раньше иногда рисовал, я даже в школе несколько дней посещал рисовальный кружок, в школе я также делал карикатуры для школьной газеты, но это не производило на меня никакого впечатления.
Этот же день был началом длинного, не очень гладкого пути, который предстоял мне и о котором я хочу писать. Еще вчера я мучился в сомнениях, чему посвятить себя. Боролись пять склонностей: театр, стать актером, но что можно сделать в рамках существующего режима? Философия – опять та же дилемма, во мне зрела система, далекая от марксизма-ленинизма. Литература. Писать и складывать в стол книгу за книгой? Эстетика – но быт меня не устраивал. Быдло быта. Это было начало шестидесятых годов. Призрак Сталина, коммунизма еще носился.
Все, за что ни возьмись, обозначало потерю времени и сил. Оставалась медицина, но это меня устраивало лишь как заработок, не больше, я не любил медицину. И никогда не верил, что могу быть хорошим врачом, а тогда зачем?
О рисовании как о деятельности, которой можно посвятить себя, всю свою жизнь, я никогда не думал. Провинциальный быт, отсутствие нужных книг и людей задержали мое развитие на много лет. Если бы нашелся кто-нибудь тогда, в школе, кто понял бы меня и подсказал, я не наделал бы столько глупостей в течение пяти последних лет. Но не было никого.
Это был день кайфа, праздник, день избавления. Я это знал очень, очень хорошо. Вся душа моя трепетала. Я дрожал от волнения, во мне зажегся свет жизни, кончились муки сомнений. С сегодняшнего дня я знал, что мне надлежит делать. Я стану художником, великим художником. Я знал это с первого дня, когда начал рисовать. А это был первый день творения. Тогда, тридцать лет назад, я не знал, что надо пережить художнику, чтобы не скурвиться и не погибнуть раньше своей физической гибели.
В тот день я ликовал, был истинно и подлинно счастлив, таких дней у меня было в жизни, может быть, пять, в течение пятидесяти двух лет, пока я дышу.
С этого дня я начал рисовать и жил этим тридцать последних лет.
Итак, мы возвратились в свой колхоз, где нас уже обыскались. «Иди к капитану», – сказали мне, когда я возник в казарме.
Я пошел, взял свои рисунки с собой, положил на стол.
– Что это?
– Мои рисунки.
Он внимательно посмотрел, сказал:
– Мне нравится.
Помолчал, а потом сказал:
– Я должен тебя наказать, сделаешь стенгазету.
Я использовал любую возможность, чтобы рисовать. После работы, по воскресеньям, праздниками, по ночам, – уставших после работы солдат, вещи, окружавшие меня образы, навеянные книгами. Я раздобыл где-то тушь, перо, бумагу, энергия моя хлынула в эти листочки, после работы я был опустошен и валился с ног, иногда работа не клеилась, что-то мешало ей превратиться в линии, и в рисунках, соответственно, не было жизни. Потом я заметил связь, существовавшую между жизнью и творчеством: с первого дня творения выяснилось, что энергия моей жизни и рисование есть процесс превращения моей жизненной энергии в линии. Когда нет этого превращения, рисунки, какими бы многотрудными они ни были, казались мертвыми.
Так определился критерий правды и лжи, совершенства и пустоты. Вне трансформации жизненной силы в рисовании не было ничего значительного. Но если я вложил огромную жизненную энергию в рисунок, не может быть, чтобы он не имел ценности, даже если многие люди не понимают этого. Вдохновение – это слово, обозначающее именно процесс вдыхания, передачи творцом части самого себя, отдача себя, наконец. То, что приняло дух, оставляет дающего опустошенным, но то, что приняло его, исполнилось духа.
Этот критерий перетекания энергии творца в творимое остался на всю жизнь, с первого дня и до сих пор, альфой и омегой моей веры в мой талант. Как бы ни смеялись надо мной окружающие, я знал: то, над чем смеются, вобрало в себя такой импульс жизненной энергии, какой я лишился, осуществив это. Я знал, что вышла энергия, вышла и заключилась в эти несколько линий, над которыми смеются. Меня спрашивали: как ты знаешь, что это хорошо, то, что ты делаешь? Ты рисуешь непохоже и т. д. Но я знал, что рисунок похожий может быть хорош и плох, может заключать в себе энергию духа и может быть небылицей, втиранием очков. Доказать я ничего не мог и поэтому молчал. Я думал, что люди, которые меня окружают, далеки от искусства. Через месяца полтора, когда накопилась папка рисунков, я послал их Юрию Колещенкову, который уже был на свободе, и попросил его пойти в Суриковское училище, показать профессорам мои работы. Через месяц было письмо от Юрия: «Когда я им показал твои рисунки, они заржали как лошади».
Две характеристики
Я, однако, проглотив пилюлю, пришпорил своего коня. Я был не такой человек, которого можно было убить щелчком профессора.
«Отрясите прах с ног ваших». По этому совету я никогда в жизни не зашел больше в это «училище».
Стали поговаривать, что нас не отпустят вовремя, задержать могут даже на полгода. От таких перспектив темнело в голове. Мы продолжали вставать в 5.15 и работали на тяжелой физической работе до шести вечера; кроме того, я рисовал, и это отнимало у меня последние силы. Я чувствовал, что, если демобилизацию задержат, я не смогу выдержать еще несколько месяцев.
Просматривая однажды газету, я увидел маленькое объявление: «Солдаты, имеющие незаконченное высшее образование, могут без дополнительных экзаменов продолжить свои занятия». Мелькнула спасительная идея: что, если восстановиться в институт?
Занятия начинаются в сентябре, а раньше октября нас не отпустят даже по закону. Что я теряю? Я не стану учиться, конечно, медицине, но почему бы не воспользоваться моим правом уйти отсюда! Я взял газету, свой спасительный круг, спрятал ее под матрацем и при удобном случае поговорил с Малиновым. Я ему сказал, что мне понадобится характеристика из армии, он обещал сделать. И сделал. Оказалось, что я был великолепный солдат, дисциплинированный, всегда подтянутый, бодрый, трудолюбивый, находчивый, делал стенгазету, общественник, в общем, что надо.
Когда пришел сентябрь, мне дали увольнительную на три дня, со 2 по 5 сентября. Пятого я уже должен быть в части. Это была первая увольнительная за три года. И последняя.
Конечно, характеристику мне дали в последний день. Утром шла машина по направлению к Москве. Меня торопили – давай, давай скорее, художник, мы уезжаем. Как назло, появился в казарме какой-то лейтенант. Я собрал вещи, и машина могла уехать каждую секунду, какое им дело до меня. Мне махали руками. Офицер стоял возле меня и требовал внимания к себе. Не обращая внимания, я схватил вещи, папку с рисунками и чемодан и бросился бежать к машине, он крикнул мне вслед что-то.
Машина поехала. Я остановился и со всей желчью, которая накопилась во мне, заорал матом на него. Лейтенант, видимо, решил, что я сошел с ума. Я кинулся догонять машину. К счастью, шофер остановил, оказался хороший человек, и мы уехали.
Я и вправду не чувствовал себя нормальным. Я отвык за три года видеть людей, и глаза мои окосели, я с трудом мог их развести.
Я чувствовал себя на пределе психического расстройства, но ловил себя на том, что рассуждал здраво.
«Если бы я был сумасшедший, то не осознавал бы, что я болен. Но так как я это осознаю, значит, я болен немного, и это пройдет».
В первые дни мама посылала меня к врачу, она видела, что со мной что-то не то. Но я не пошел и попросил, чтобы она этого не делала.
Впрочем, расскажу все по порядку.
Дома знали, что я, возможно, приеду.
Дома я лег на кровать и не мог ничего говорить. Мама ходила вокруг меня и так и сяк, расспрашивала, но я не мог говорить.
Наутро я поехал в институт, в штатском, конечно. Там мне сказали, что Ученая комиссия соберется только 5 сентября. А пятого я уже должен быть в части. Сомнений не было, надо остаться в самоволке. Если меня не восстановят и я опоздаю – будут судить. Если я приеду вовремя, значит, я остаюсь в армии. Но есть шанс, что меня восстановят, тогда я вырвался.
Я решил остаться.
Дома мама кружилась возле меня.
Я показал ей рисунки, – они привели ее в ужас: «Иди к врачу, иди к врачу!»
Меня навестили друзья. С Виталием мы сфотографировались. Он хотел.
Пятого числа я, стараясь казаться здоровым, снова прибыл на Ученую комиссию. Я мало соответствовал своей характеристике. Глаза упрямо косили.
Меня пригласили войти:
– Мы изучили ваше дело и нашли много жалоб. Также отметки не блестящие. Гм… Гм… Нам кажется, что вы не изменились. Если бы не декан, мы бы вас не взяли. Декан предложил попробовать взять вас до первого нарекания. Характеристика у вас хорошая. Вы можете пообещать, что на вас не будет жалоб?
– Могу.
Мне выписали бумагу, что я восстановлен во 2-м МГМИ с 5 сентября 1962 года.
Больше я там никогда не был.
В военкомате, куда я пришел, работала знакомая девчонка. «На тебя пришла ужасная характеристика из армии». Я опешил: не мог же капитан написать мне две разные характеристики. «Хочешь, покажу?» Читаю: «Разгильдяй. Пьяница. Начальников не уважает. В самоволки ходит. Службу несет плохо».
Я понял, что это дело рук того незнакомого мне лейтенанта, которого я не удостоил чести. Может быть, он был мой новый «непосредственный».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?