Текст книги "Неполитический либерализм в России"
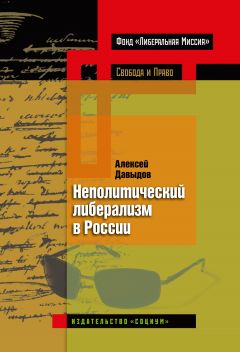
Автор книги: Алексей Давыдов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 65 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Духовного лидера России желал видеть в Пушкине Чаадаев. Он считал, что поэт не оправдывал этих надежд, и в отчаянии писал ему в 1829 году: «Зачем этот человек (Пушкин. – А. Д.) мешает мне идти, когда он должен был бы вести меня? <…> Не мешайте же мне идти, прошу вас»[140]140
Чаадаев П.Я. А.С. Пушкину. Март – апрель 1829 // Чаадаев П.Я. Избранные сочинения и письма. М.: Правда, 1991. С. 345.
[Закрыть]. Пушкин кому-то «мешает» – это не nonsense, а свидетельство значения поэта для России. Сегодня за Пушкина, за право опереться на его имя борьба обострилась как никогда ранее. Подлинный, не подправленный Пушкин до сих пор мешает многим. Ролан Быков, выступая по телевидению в 1998 году, незадолго до своей смерти, с горечью говорил, что в России до сих пор «подправляют Пушкина», а «подлинный Пушкин слишком беспокоен» и «не нужен». Раскол в русской культуре не преодолен, поэтому двухсотлетний пушкинский юбилей праздновался в нашем обществе с противоположной, взаимоисключающей семантикой. Пушкин воспринимается и как символ способности русского человека выходить в новые смысловые пространства, и как символ неизменности ее культурных стереотипов.
Вот уже двести лет конкурируют интерпретации Пушкина на религиозно-народническом и индивидуалистическом полюсах культуры, переплетаясь в множество промежуточных комбинаций. Эта конкуренция ставит всякого пишущего о месте поэта в истории русской мысли перед непростым вопросом: какими критериями пользоваться при оценке значения поэта?
Пушкинское мышление не только противостоит абсолютизации небесных и земных ценностей. Пушкинский эстетизм противостоит и той «неслиянно-нераздельной» форме, в которой эти ценности в России существуют. Пожалуй, ни в литературе, ни в философии «неслиянное и нераздельное» многоголосие небесного и земного не достигло такого драматического разрыва между совершенством идеала и неспособностью личности к его синтезу, как в поэтике Ф. Достоевского. В творчестве этого писателя возникло многоголосие разорванных миров и смыслов, которое звучит «неслиянно и нераздельно» и которое М. Бахтин назвал полифонией. Полифония не диалог, но предпосылка диалога. Бахтин точно улавливает основной смысл тяготения Достоевского к ценностям диалога: «Все – средство, диалог – цель», указывая одновременно на «бесконечность диалога» писателя[141]141
Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. Изд. 3-е. М.: Худ. лит., 1972. С. 294.
[Закрыть]. Но если диалог конструктивно напряжен, он должен вести или к раздвоению единого, или к синтезу. Иначе он вырождается в диалог для себя, в сумму монологов, в диалог-статику.
Проблема Достоевского, кажется, в том, что он воспринимает свое Я как целостность, завершенность, т. е. как утопию. Он боится своей раздвоенности, в Другом стремится видеть такую же завершенность и хочет, чтобы Другой видел завершенность в его Я. Он хочет равноправия. Но равноправие личностей, декларируемое как необходимость, еще не устраняет противоположности между ними, не создает синтеза. Это модификация благоговения перед жизнью и еще одна попытка преодолеть «неслиянность и нераздельность» культуры иллюзорными средствами евангельской любви. Логика Достоевского – это интеллигентская болезнь религиозной Европы и религиозной России второй половины XIX – начала XX века, это религиозно-народнический призыв к соборному человеку быть гуманным.
Для Пушкина такой проблемы не существовало. Пушкин-поэт находится между Пушкиным-человеком и Другим (культурой). Поэт признает свою двойственность, хочет ее. Как субъект культуры, он, говоря словами Гегеля, «полагает себя как отличное от самого себя»[142]142
Гегель Г.В. Ф. Философия религии: в 2 т. М.: Мысль. 1977. Т. 2. С. 233.
[Закрыть]. Он сам раздваивает себя; отделяя от себя Поэзию-Музу-Лиру, заставляет ее анализировать и Другого, и себя самого. Он заставляет ее искать новое содержание между собой и культурной реальностью и в таком движении к новым смыслам преодолевать свою двойственность. В этом его богочеловечность, срединность, синтетичность и – принципиальное отличие от Достоевского, как Иисуса от Иова.
Попытка Достоевского обожествлять ценность личности и рассматривать идеального человека как целостное, нераздвоенное, непротиворечивое существо убивает в личности способность к самокритике и диалогу. Точнее, самокритика и диалог, исходящие из какой-то одной абсолютной ценности, пусть даже из «слезинки ребенка», из ценности «Бога» либо «народа», становятся слабо-конструктивными, ведут к абсолютизации монизма и новым заблуждениям.
Алеша Карамазов говорит, что надо «жизнь полюбить больше, чем смысл ее». Это основная идея и Чернышевского. Для Достоевского и Чернышевского главная ценность – жизнь, для Пушкина – ее смысл. Алеша считает, что за непосредственной любовью к жизни обязательно придет и понимание ее смысла. Пушкин расставляет иные акценты: «Пускай умру, но пусть умру, любя»; «Душе настало пробужденье… //…И для него воскресли вновь… // И жизнь, и слезы, любовь…» – здесь любовь является смыслом жизни и ценность жизни подчинена ценности смысла любви.
Герои Пушкина и Достоевского отличаются главным образом разным поведением в сфере между смыслами. У героев Достоевского основная ценность – право на то, чтобы быть услышанным в системе Я – Другой. Это похоже на Пушкина, но это не Пушкин. Потому что Достоевский помещает в «сферу между» мораль, беспредпосылочную этику, религию, а Пушкин – свою способность, свою рациональность, прагматику поиска новых смыслов.
Достоевский моралист, Пушкин – нет.
Герои Достоевского и в Другом, и в «сфере между» ищут добро, пушкинская мысль движется по ту сторону добра и зла.
Для Достоевского главное – право каждого на голос. Пушкину это тоже важно, но важнее – его способность к поэзии как движению между голосами в поисках нового голоса.
Достоевский пытается «исправлять» действительность, для Пушкина основная цель – его поэзия, которая, будучи истинной, сама уже является исправленной действительностью, потому что слова поэта суть уже его дела.
Сущность поэтики Достоевского – в полифонии смыслов, сущность поэтики Пушкина – в их гармонии. Поэтому диалог Пушкина результативен, ведет к небесно-земному, богочеловеческому третьему. А «неслиянно-нераздельный» полифонический преддиалог Достоевского не способен менять организацию отношений и не синтетичен. Полифония Достоевского – это диалог-статика, диалог-утопия, диалог-религия. Это форма застревания русской культуры.
Одно из значений Пушкина в том, что из его логики художественного видения реальности выросла логика художественного мышления Чехова. Пушкин предложил российскому обществу тему для обсуждения, которую можно определить как патологию российской культуры. Значение Чехова в том, что он сделал анализ этой патологии основной темой своего творчества.
Пушкин пришел к выводу об инверсионности, «пародийности» русского общества, цивилизационной незрелости, культурной незавершенности формирования русского человека. Его вывод проявился, пожалуй, не столько в Онегине, сколько в царе Борисе. Именно дух Бориса присутствует в неспособных к адекватной самооценке персонажах Тургенева, Гончарова, Достоевского, Чехова. Творчество последнего стало апофеозом неспособности русского человека к принятию эффективного решения. То, что у Пушкина было частью спектра мира, у Чехова стало целым. Иррациональность, неэффективность, раскол в культуре, ее неспособность к выживанию, царьборисовость России стали основными в чеховском творчестве, где умирание проанализировано как социокультурная проблема.
Чехов, следуя пушкинскому принципу «Цель поэзии – поэзия», развил другую сторону этой «цели». В чеховской логике преследование этой цели может привести к обнаружению неспособности рефлексии быть целью самой себя, т. е. неспособности быть мерой себя. Это понял уже пушкинский Борис, хотя не осознал еще причины этого.
Чехов открыл рефлексию абсурда как феномен культуры – рефлексию, суть которой в сознательном уничтожении рациональности, равнозначном неспособности к выживанию. Если Гоголь писал, что он «в добре не видит добра», то Чехов признавался, что «ничего не понимает из того, что видит». Вывод о том, что умом Россию не понять, принимает у него трагическую глубину. Писатель переходит на принципиально иной уровень анализа культуры: от философствования по поводу непознаваемости России к философствованию по поводу неспособности русского человека понять смысл своего непонимания себя, т. е. к осмыслению вырождения рефлексии русского человека. Чехов, как и Пушкин, устранив иллюзии из своего анализа, показал, что русская рефлексия опасно и хронически больна. Диагноз болезни – патологическая неспособность рефлексии быть рациональной, принимать эффективные и, следовательно, нравственные решения, т. е. быть собой.
От этой болезни, по Чехову, уже ничто не спасает. Оказывается, красота, любовь, вера, Бог, если они потусторонни и не образуются из рефлексии и рационального функционирования культуры, есть формы порабощения человека. Счастье ведет к несчастью. Красота создает уродство жизни. Любовь переходит в ненависть. Вера в Бога становится безбожной. Жизнь порождает духовную смерть человека при его биологическом функционировании.
Чехов подчеркивает глубокий раскол и инверсионность в самой логике существования потусторонней культуры. Пушкин увидел начало вырождения русского субъекта культуры, Чехов – писатель апофеоза этого вырождения. Чеховские персонажи не могут принять решения. Никакого. Все их решения половинчаты, противоречивы, взаимно исключают друг друга и отменяют предыдущие. Поэтому они трагично неэффективны. У каждого персонажа своя правда, поэтому монологизм чеховских героев достигает предела. Деградация русского субъекта культуры, начавшаяся в Борисе, достигла дна.
На первый взгляд кажется, что герои Чехова не претендуют на самоутверждение и самосовершенствование и преодолели инверсионную логику героев Достоевского. Создается впечатление, что они руководствуются нравственностью, основанной на объективном анализе и любви к ближнему. Но это не так. В основе их нравственной импотенции та же инверсия, но возведенная в абсолют. Россия, по Чехову, и сегодня населена «скифами», «эскимосами» и «печенегами». Они устремлены к добру, но необходимо порождают зло. Они – гоголевская статичность, лермонтовский фатализм, гончаровское бессилие в действии, традиционализм и эсхатологизм пушкинского Бориса. Все это вместе Чеховым экстраполировано на всю русскую культуру как логика ее воспроизводства.
Утверждение, что Чехов является писателем растерянности перед жизнью или страха перед смертью, неточно. Скорее, он писатель патологии рефлексии. Достоевский, так же как и Чехов, писатель заболевания русской культуры, но понимание глубины болезни у них принципиально разное. Герои Достоевского возмущены несправедливостью этого мира и ищут альтернативные пути для решения проблемы признания высокой ценности человека в России. Таким путем может быть бунт против Бога, церкви, самодержавия, общества, несправедливости, насилия, лжи, несовершенства мира или эгоизма. Его герои чувствуют свою правоту в момент принятия решения и страдают от неправоты других. У них есть надежда на спасение, пусть даже она иллюзорна, порождена их заблуждениями и ведет к новым заблуждениям. Они опираются на интерпретацию Бога, совести, традиции, морали, добра. Анализ Достоевского – это культурология на уровне ценностей добра и зла.
Чехов работал на ином уровне. Его герои не возмущаются несправедливостью Бога и людей. Они догадываются, что не способны жить. Но не потому, что боятся смерти либо растерялись перед жизнью, а потому, что бессильны перед патологией собственной рефлексии. Они не обладают инструментом самоанализа. Герои Достоевского не понимают, что они патологичны. Поэтому альтернатива в культуре, выдвигаемая Достоевским, несет существенный элемент утопии. Чеховские герои понимают, что они патологичны, «серы» (С. Булгаков)[143]143
Булгаков С.Н. Чехов как мыслитель // Булгаков С.Н. Сочинения: в 2 т. М.: Наука, 1993. Т. 1. С. 144.
[Закрыть], «полуживы» (В. Розанов)[144]144
Розанов В.В. Наш «Антоша Чехонте» // Розанов В. В. Мысли о литературе. М.: Современник, 1989. С. 304.
[Закрыть], «бессодержательны» и «ничтожны» как «мыльные пузыри» (Е. Трубецкой)[145]145
Трубецкой Е. Смысл жизни. М.: Республика, 1994. С. 328.
[Закрыть]. Они понимают, что их жизнь – это «умирание» (В. Мильдон[146]146
Мильдон В.И. Чехов сегодня и вчера («другой человек»). М.: ВГИК, 1996.
[Закрыть]), и именно поэтому чеховская альтернатива реальна, она в само́м этом понимании.
Чеховский индивидуализм вырастает из пушкинской середины. Соборно-религиозный гений Достоевского не вырастает из Пушкина, он происходит из российской традиционности. Пушкин стоит существенно в стороне от Достоевского. И в этих соотнесенностях с Чеховым и Достоевским историческое значение Пушкина. Сравнение Чехова с Достоевским необходимо именно на основе их отношения к народничеству, «народной правде». Достоевский верил в здравый смысл русского народа, который через веру, любовь, братство, труд, пользу способен предотвратить революцию. А Чехов показал, что здравый смысл в России невозможен, если он не преодолевает безрефлективности веры, любви, братства, труда, пользы, осмысливаемых через нерасчлененность, синкретизм народнического интеллигентского сознания. Религиозное народничество Достоевского противостоит индивидуализму Пушкина – Чехова.
Значение Достоевского в том, что он существенно углубил пушкинский анализ инверсионности русской культуры, неспособности русского человека выйти за рамки культуры. Достоевский сформулировал ряд факторов саморазрушения русской культуры. Первый – забитость «забитых людей», у которых самостоятельная мысль в силу специфики их исторического воспитания еще не сформировалась (Н. Добролюбов)[147]147
См.: Добролюбов Н.А. Забитые люди //Добролюбов Н.А. Указ. соч., 1935. Т. 3. С. 367–408.
[Закрыть]. Второй – вульгарный атеизм толпы, провозглашение человека Богом и девиз «все позволено». Третий – сознательная самоориентация субъекта, например «подпольного человека», на иррационализм, на уничтожение рационального содержания в своей рефлексии, на смерть. Это точно почувствовал Н. Бердяев[148]148
См.: Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства: в 2 т. М.: Лига, 1994. Т. 2. С. 53.
[Закрыть]. Четвертый – абстрактная, абсолютная любовь потустороннего Бога к человеку. Она хотя и спустилась на землю в образе сияюще-молчащего Иисуса, но не стала от этого более диалогичной и человечески постижимой и потому создает лишь иллюзию альтернативы. Об этом писал В. Розанов[149]149
См.: Розанов В.В. О легенде «Великий инквизитор» // Розанов В.В. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. М.: Республика, 1996. С. 11–113; Он же. Христос как судия мира // Розанов В.В. В темных религиозных лучах. М.: Республика, 1994. С. 74–79.
[Закрыть].
Достоевский указал на патологию: русский человек ищет нравственное решение, принимая при этом решения безнравственные, потому что его способность к рефлексии парализована. Этому выводу Достоевского поразился З. Фрейд[150]150
См.: Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Фрейд З. Сумерки богов. М.: Политиздат, 1990. С. 126.
[Закрыть]. Достоевский углубил анализ феномена инверсионной логики в русской рефлексии, открытый Пушкиным в образах Онегина и царя Бориса. Писатель еще не осознал общекультурного значения этой логики, но интуитивно установил ее фатально саморазрушительный характер.
Творчество Достоевского противоречиво. Он внес огромный вклад в изучение слабой рефлективности русской культуры, и его способ анализа был и до сих пор остается важным фактором ее гуманизации. Однако он свято верил в здравый смысл русского народа, в его способность не допустить катастрофы революции и в опоре на Бога победить дьявола разрушения в себе. Жизнь показала, что Достоевский заблуждался. «Сейчас даже можно прямо сказать, что Достоевский ошибся, что в русском народе не оказалось противоядия против антихристовых соблазнов той религии социализма, которую понесла ему интеллигенция», – писал в 1918 году Н.А. Бердяев[151]151
Бердяев Н.А. Духи русской революции // Из глубины: Сборник статей о русской революции. М.: Новости, 1991. С. 69.
[Закрыть].
В той степени, в какой Достоевский увлечен потусторонностью и мистикой, он не является наследником пушкинской методологии. Его идеалы мессианства, соборности, народничества, национализма, шовинизма и богоискательства были чужды Пушкину. Дуалистическая культурология Достоевского была гуманистической и высокохудожественной, но, углубляя пушкинский анализ русской традиционности, она, в отличие от пушкинского анализа, обладала слабым альтернативным потенциалом. Пропитанная духом потусторонности и иллюзий, она не была способна предложить России реальную меру культурного синтеза.
Достоевский предлагает народнический ответ на проблемы, поставленные Пушкиным. Чехов дает честный ответ и Пушкину, и Лермонтову, и Гоголю, и этот ответ заключается в том, что Россия не способна позитивно ответить на поставленные ими вопросы. Ответ Чехова от ответа Достоевского принципиально отличается тем, что чеховские герои утратили все надежды.
Чехов, анализируя русского интеллигента, не увидел в нем того здравого смысла, который Достоевский пытается обожествить у народа и выразителем которого пытается сделать религиозно-народническое интеллигентское сознание. Вот основные черты вырождения русской рефлексии, определенные чеховским анализом культуры: статичность, бессилие в действии, инверсионность в логике, фатализм, одновременное требование абсолютной справедливости и свободы, иллюзорные надежды на всесилие потусторонности – «божью правду» и «народную правду», слабая способность к объективному анализу, диалогу, принятию решения. Это неэффективность, двойственность, расколотость. Отсюда – низшие формы органического развития и изначально гипертрофированные до патологии социальные отношения. И отсюда же слабая сопротивляемость нарастающей сложности мира, фатально-всеобщая неспособность к осознанию неотвратимости надвигающейся гибели, неумение осмыслить нарастающую бессмысленность своего существования в существующих формах и, следовательно, неспособность к выживанию.
Достоевский анализировал человека, меряя его абсолютной ценностью Бога и народа, Чехов анализировал человека в смысловом пространстве между Богом и народом. Чехов, как и Пушкин, не был ни религиозным, ни народным писателем, но нес в своем творчестве элемент и того и другого. Определения «религиозность» и «народничество» содержат в себе абсолютизацию идей Бога и народа. Но религиозность и народность Чехова заключались в анализе и критическом освоении этих полюсов культуры, а не в их абсолютизации. Выдавливать из себя по капле раба – значит, по Чехову, выдавливать из себя веру в спасительность потусторонности, сложившихся смыслов культуры, веру в то, что красота спасет деградирующего субъекта от деградации, что любовь должна приноситься в жертву неспособности жить как спасение, что Бог спасет человека, который поверит в то, что Бог есть, что что-то или кто-то, например народ, спасет человека, если человек поверит в спасительность его, как в Бога.
Российская критика высказывается почти единодушно: Чехов – писатель социального коллапса, тупика в русской культуре, деградации и смерти. Но что значит сказать о безвыходности положения и о том, что культура умирает? Что значит заявить о патологии русской рефлексии? Это как раз и значит найти самую эффективную альтернативу ее умиранию. Заявление, что русский человек на традиционном пути своего развития не является представителем homo sapience в интеллектуальном понимании, есть великое достижение пушкинско-чеховской методологии поиска альтернативы. Такое отрезвление субъекта лишает его иллюзий и впервые вооружает рефлексией, т. е. рациональностью, цельностью и мужеством.
Гоголевский призыв к людям: «Не будьте мертвыми, а будьте живыми» – продолжился в чеховской мечте о «другом» человеке и о «Боге живого человека». Чеховский «Бог живого человека» – это посюсторонний Бог рефлексии, а не Бог Царства Небесного и не потусторонний Бог «мертвых душ». Из чеховских цитат можно было бы составить более десятка идеалов, которые автор противопоставил современной ему социальной действительности. Дело не в них. Чехов анализировал способность человека стать «другим» в сфере между Богом и человеком. И центральная проблема становления «другого» человека в России в том, что «Бог живого человека» как медиация не может утвердить себя в культуре, где господствует патология – потусторонняя нравственность «мертвых душ», инверсия. Идеи пушкинской медиации нашли себя в чеховском творчестве.
Чехов довел пушкинский анализ образа Бориса как социальной программы деградации русской культуры до конца, т. е. до признания деградации рефлексии субъекта культуры и вырождения русского человека как культурного типа. Критики, либреттисты и сценаристы знают, что Пушкин придавал особое значение «Борису Годунову», но стараются не замечать альтернативности, заложенной в катастрофизме Бориса. Но если образ Бориса поддается приукрашиванию, то все чеховское творчество, как от начала до конца анализирующее царьборисовский катастрофизм, приукрасить невозможно.
Пушкин исследовал в основном смысл полюса «божьей правды» – Чехов исследовал в основном интеллигентский, городской вариант «народной правды», народнические ценности, отрефлектированные в синкретичном интеллигентском сознании. Оба искали альтернативу абсолютизации значений этих полюсов, опираясь на ценность индивидуализма в сфере между Богом и народом. Пушкинско-чеховская методология анализа русской культуры с позиций современной науки должна рассматриваться как целое.









































