Текст книги "Неполитический либерализм в России"
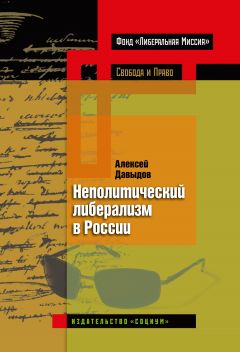
Автор книги: Алексей Давыдов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 65 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Значение пушкинской логики мышления как альтернативы в развитии России можно понять через принцип снятия противоположности смыслов, через взаимопроникновение и борьбу принципов снятия. Снятие в оппозиции, как говорилось ранее, это диалектика преодоления противоречий путем поиска и нахождения третьего смысла, альтернативного и одновременно в какой-то степени тождественного исходным полярностям. Осмысление принципа и механизмов снятия противоположных смыслов – это основной способ самопознания человека и развития культуры. Вопрос о принципе снятия в пушкинских оппозициях – центральный вопрос той эпохи, в которой жил Пушкин, ее отличия от предшествующей (XVIII столетие) и последующей (вторая половина XIX–XX век) и логики преодоления раскола в культуре России.
В XVIII веке в российском обществе противостояли друг другу два принципа снятия. Господствовал соборно-авторитарный принцип, в котором снятие происходило через одновременное функционирование полюса Бога (вождя), авторитарной «божьей правды» и полюса народа, соборной «народной правды», т. е. через традицию. Одновременно нарождалось осознание ценности разума, знания, просвещения, что вело к активизации второго принципа – снятия через рационализацию, модернизацию соборно-авторитарной традиции. Последнее формировало тенденцию конституционного ограничения самодержавия и освобождения народа от крепостничества в целях укрепления и «божьей правды», и «народной правды». Взаимопроникновение принципов шло таким образом, что «разум и знание» через критику архаики и просветительство все более ограничивали полюс Бога (вождя) и создавали некоторые условия для развития индивидуализма.
Эта просветительская тенденция, пришедшая в Россию с Запада и начатая Петром I, получила отражение в философии и особенно в литературе (Прокопович, Ломоносов, Сумароков, Новиков, Крылов, Фонвизин, Радищев, ранний Пушкин). В опоре на этот всезнающий, всеразрешающий и всепримиряющий разум содержалась утопия о пользе евангельской любви к людям. Поэтому воля к реализации этой утопии понималась как форма снятия противоположностей и ликвидации раскола в культуре.
Но изменив за столетие внешний облик светского общества и даже попытавшись в 1825 году захватить в стране господствующие позиции, разум (знание) не смог ответить на главный вопрос. Он оказался неспособен преодолеть социокультурное противоречие, принявшее в России форму раскола. Ценность разума навязывала России либеральные, несвойственные ей модели развития. Эти модели в условиях раскола не столько вели к модернизации традиционных полюсов культуры, сколько создавали угрозу их разрушения. Разум, выступивший против соборно-авторитарной статики и рассматривавшийся просветителями как панацея от всех бед России, как новый вариант добра, сам стал статикой. Образцы «правильной» жизни, пришедшие с Запада, стали новым Богом. Модернизировавшееся на основе ценности разума государство было призвано ликвидировать раскол между обществом и культурой, но кризис ценности разума как новой меры сущности и модернизированной формы снятия нарастал.
В ходе нараставшего кризиса все более проявлялась опасность активизации разума (знания) для принципов самодержавия и государственно-церковной симфонии. Одновременно становилось все более очевидным, что массовое российское сознание, которое вроде бы должно стремиться к свободе и просвещению, на самом деле нового уровня свободы не приемлет и знания о модернизации социальных отношений в России не хочет. На основе «знания» возникла не столько модернизация, сколько ситуация, когда, как выразился Гоголь, «в добре не видишь добра». Раскол не преодолевается – происходит адаптация к нему, на вид вроде бы модернизация, а на самом деле обман, худшая архаика. Возникает, по Гоголю, «просто плут» как обобщенный образ России, устремленной к цивилизации и одновременно от нее.
Такова была логика снятия противоположностей смыслов в допушкинский период. В XVIII веке оно оказалось малоэффективным, так как сама ценность разума, понятая через ценность знания, была двойственна, расколота между ценностями традиции и культурной инновации.
Пушкинское мышление возникло в первой трети XIX столетия, когда борьба индивидуализма, индивидуального творчества с соборно-авторитарными российскими ценностями нуждалась в новых формах. Потребность в новом принципе снятия противоположности смыслов была настолько сильна, что даже нарастание авторитаризма после событий декабря 1825 года не смогло ее подавить. Абсолютизация снятия через ценность Бога (вождя) была ослаблена антиабсолютистской критикой в обществе в XVIII столетии. Кроме того, ей противостояла довольно сильная религиозная оппозиция со стороны масонства и католичества и развитие элементов гуманизации культуры.
Вместе с тем и принцип снятия противоречий через такую архаичную ценность, как «народ», в конце XVIII – первой половине XIX века еще не набрал такой силы, как во второй половине XIX столетия. В это относительно благоприятное для диссидентской мысли время и родилось мышление Карамзина, Державина, Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Гончарова. «Как это ни парадоксально, но достаточно реакционная эпоха Николая I (1825–1856) была эпохой золотого века русской поэзии (Пушкин, Лермонтов, Гоголь), и она же была эпохой пробуждения русской мысли», – пишет эмигрировавший в 20-е годы XX века из России философ С. А. Левицкий[152]152
Левицкий С.А. Очерки по истории русской философской и общественной мысли. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1968. Т. 1. С. 38.
[Закрыть]. В первой половине XIX века возник тонкий слой элитарной культуры, в котором писательской мыслью был создан новый, «срединный», индивидуалистический принцип снятия противоположных смыслов.
Пушкин-мыслитель отказался от абсолютизации и «Бога», и «народа», и «разума», и «знания», и «красоты», и «любви», и «свободы», и «личности». Впервые в истории России в узком слое духовной элиты снятие противоречий происходило без отнесения их к какому-либо стереотипу. Возникла медиация как отпадение субъекта культуры от всех ее сложившихся стереотипов, как движение между идеями и смыслообразование в «сфере между», как «расколдование мира» и легитимация способности человека к самопознанию. Началось формирование нового для России культурного основания – смысла личности. Но понять это не было дано российской рефлексии ни в XIX веке, когда этот процесс начался, ни даже после кризиса 1905–1917 годов. Это начинает становиться более ясным только сегодня. Лишь после кризиса 90-х годов XX века впервые легитимированная Пушкиным способность человека развивать свою способность отойти от абсолютизации любого сложившегося стереотипа, искать новые смыслы в пространстве за пределами стереотипов и видеть в этом поиске проявление высшей нравственности стала постепенно проникать в российское элитарное сознание.
Появление Пушкина в истории русской мысли не случайно. В начале XIX века в результате накопления гуманистического потенциала общественная рефлексия в России взорвалась аналитической и полемической активностью. В XIX–XX столетиях активно участвуют в развернувшемся обсуждении проблем культуры и литература, и критика, и философия, и история. И за двести лет полемика выявила три основные тенденции в философствовании.
Одна тенденция – религиозно-демократическая (религиозно-либеральная). Ее выражали и деятели, внимательно изучавшие западный религиозный опыт (Чаадаев, Хомяков), и представители религиозной почвы (от любомудров, Киреевского и Хомякова до Д. Андреева и А. Меня). Эта тенденция позитивна, потому что в ней выделяется сущность (в данном случае «Бога») как самостоятельный объект познания и трансцендентная мера существования. Но ее негативное значение в том, что она мистически интерпретирует сущность и отрывает ее от существования. Отрывая трансцендентное (Бог) от имманентного (Я индивидуума), эта тенденция претендует на целостность. Но она дуалистична, так как пытается абсолютизировать ценности личности и религиозного и социального абсолюта. Эта тенденция глубоко инверсионна, так как отсутствие альтернативы потустороннему Богу неизбежно ведет в культуре к взрывам атеизма и к конфликту с рефлектирующим индивидуумом. Поэтому гуманизм этой тенденции не в состоянии преодолеть раскола в русской культуре.
Линия раскола в нравственном идеале этой тенденции проходит между мистической, потусторонней «божьей правдой» авторитарного мессии-Бога-вождя-спасителя, интерпретируемого как сакральная сущность, и Я индивидуума («Аз есмь червь, а не человек»), понимаемым как профанное существование. Главным в этой тенденции является отсутствие критики основной ее ценности – Бога, т. е. отсутствие самокритики. Отойти от крайностей «божьей правды» и радикально поднять ценность человека сумел выдающийся представитель этой тенденции в философии Н. Бердяев. Но и его экзистенциализм не смог окончательно порвать с потусторонней сущностью и ограничить анализ сущности динамикой существования. Эта тенденция не заметила ценности логики пушкинского мышления.
Вторая тенденция – революционно-демократическая, народническая – в XIX веке начиналась как либеральная, гуманистическая и западническая. От Белинского и Герцена она в XX веке плавно перешла в архаичную, почвенную, партийно-советскую. Позитивное значение этой тенденции состоит в интерпретации сущности как уровня существования, в данном случае как «народа». Но ее негативное значение в мистической интерпретации существования, в мистификации смысла народа. Отрывая трансцендентное («народ») от имманентного (Я индивидуума), эта тенденция заявляет о своей целостности. Но она дуалистична, так как пытается абсолютизировать и ценность личности, и ценность соборности. Эта линия глубоко инверсионна, потому что отсутствие альтернативы ценности «народа» порождает конфликт соборного народа с авторитарностью власти и с рефлектирующим индивидуумом. Поэтому гуманизм этой линии также не смог преодолеть раскола в культуре даже на до-большевистском этапе ее развития.
Линия раскола в нравственном идеале этой тенденции проходит между мистическими соборными ценностями «народной правды» мессии-народа-спасителя («Глас народа – глас божий»), интерпретируемого как сакральная сущность, и индивидуальными ценностями личности, понимаемыми как профанное существование. Главное в этой архаичной тенденции – отсутствие критики основной ее ценности, т. е. соборного человека, или, что то же самое, отсутствие самокритики. Атеизм этой линии как отрицание существования церковного Бога вульгарно переводит Бога – высшую нравственность – в «коллективное творчество масс». В крайних формах эта тенденция выразилась в физиологической теории нравственности Писарева, а на большевистском этапе – в теории народобожия Горького. Эта логика мышления несла угрозу бунта, бессмысленного и беспощадного, и использовала пушкинскую мысль в своих политических целях, но, по существу, извратила ее.
В «народной правде» и «божьей правде» имеется более духовной сытости, чем духовной жажды. Эти архаичные «правды» на протяжении всей истории России инверсионно переходят друг в друга. Они порождают катастрофу за катастрофой, фатально разъединяют, раскалывают сущность и существование человека.
У истоков третьей тенденции стоял Пушкин. Пушкинское мышление, его видение мира можно назвать новозаветно-гуманистическим, почвенно-либеральным, личностным, индивидуалистическим, медиационным, срединным. Осмелюсь утверждать, что Пушкин «добру и злу внимая равнодушно»[153]153
Пушкин А.С. Борис Годунов // Пушкин. Т. 5. С. 232.
[Закрыть], не анализировал содержание культуры в понятиях «добро», «зло», «правда», «неправда» и т. д. Он использовал слова из этого семиотического ряда как знаки художественной формы, а не культурного содержания, как признаки художественного видения мира, а не мировоззрения. «Поэзия выше нравственности, – возражал он П. Вяземскому, – или, по крайней мере, совсем иное дело. Господи Суси! какое дело поэту до добродетели и порока? разве их одна поэтическая сторона»[154]154
Пушкин А.С. П.А. Вяземскому. Ноябрь 1825 // Там же. Т. 10. С. 190.
[Закрыть]. Пушкин отличался от своих предшественников XVIII века, а также от Достоевского и Толстого, как и от большинства советских писателей, тем, что сумел подняться над добром и злом. Он положил в основу анализа действительности новую для российского сознания ценность – динамичную гармонию потустороннего и посюстороннего, трансцендентного и имманентного, имеющую новозаветное происхождение.
Суть пушкинского медиационного мышления – в повороте ценностного вектора от потусторонности к человеку. Пушкин, по существу, сделал попытку гуманизировать, раздогматизировать представление о традиционном сакральном как о высшей нравственности, переведя высшую нравственность из потусторонних мистических ценностей «божьей правды» и «народной правды» в ценности личностные.
Значение этого перевода и перехода трудно переоценить – через него закладывается основание ликвидации самой возможности раскола в русской культуре. Не служба и угождение Богу, царю и народу, а любовь, диалог, дело, эффективность, профессионализм, вера и свобода стали полем, на котором человек, ценою жизни защищая богочеловеческую тайну своей рефлексии, определяет для себя и реализует трансцендентные цели в своей повседневности. Но этот ренессансно-реформационный поворот разворачивается в силу исторических условий не через церковь, а в мире литературы и науки и в сознании элитарного слоя российской интеллигенции. Российская ренессанс-реформация – религиозно-нравственная по своему содержанию, но гуманистическая по средствам реализации.
Пушкинская богочеловеческая середина возникает не как кентавр и механическое объединение половинок: наполовину Бог, наполовину человек, принц и нищий, масло и вода. Она возникает как мера сущности. Известна экзистенциональная формула Сартра «Сущность человека в его существовании», где существование есть мера сущности. В условиях модернизирующей себя России эта формула требует поправки в духе пушкинской медиационной методологии: «Сущность человека, осознавшего себя как сущность, в его существовании» или «Существование, осознавшее себя как сущность, есть мера сущности». Эту же мысль можно выразить и по-другому: человек, устремленный к поиску трансцендентного в своей способности выйти за пределы сложившейся культуры, осознает свою устремленность как меру сущности и меру нравственности, т. е. как божественную истину. В формуле пушкинского творчества «сфера между» несет в себе возможность божественного, трансцендентного, небесного не только как поиск человеком Бога, но и как поиск Богом человека, как новозаветное движение Бога из потусторонности к человеку, как богочеловеческий феномен Иисуса, отрефлектированный в культуре. В результате эпицентр смысла в этой сфере передвигается из статичного существования на земле и небе в способность существования осознать себя как поиск богочеловеческой сущности середины, соотнося себя лишь со способностью нести в себе эту способность.
В российской исторической науке принято считать, что оригинальная российская мысль началась с западников и славянофилов. Это неверно, что «славянофильство – первая попытка нашего самосознания» (Бердяев)[156]156
Бердяев Н.А. Алексей Степанович Хомяков. Томск: Водолей, 1996. С. 5.
[Закрыть]. Но если первая половина XIX века была «эпохой, впервые сознательно на себя взглянувшей» (Достоевский), «великим ледоходом русской мысли» (М.О. Гершензон), то в ее эпицентре находилась ренессанс-реформационная мысль Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Гончарова, Тургенева, Чехова, Булгакова, создававших срединную культуру. Именно здесь находился фарватер «ледохода», а логики мышления – западническая, славянофильская, народническая, религиозная – располагались на его периферии.
В двухсотлетней российской элитарной культуре, от Пушкина до ученых, писателей и бардов конца XX – начала XXI века, прослеживается «связь времен», сложился целостный способ мышления. Противостоя и державно-симфонической религиозности, и соборно-державному атеизму, он ищет новую меру сущности и видит в пушкинской альтернативности своего предшественника. Это мышление по именам его основателей можно назвать пушкинско-чеховским. Диссидентская логика этого мышления сегодня все более проникает в методологию науки и художественного творчества. Она становится выразителем способности искать новую меру сущности, преодолеть раскол в культуре России, перейти к срединному, новозаветно-гуманистическому, почвенно-либеральному идеалу, к диалогу небесного и земного в повседневном человеческом.
Глава II
Поверить Лермонтову. Личность и социальная патология в России
1. Русский человек эпохи модернизации – образ социальной патологии («Герой нашего времени»)Лермонтов – поэт эпохи модернизации. В фокусе его внимания противоречие между архаикой и модерном. Во многих произведениях он следует примерно одной и той же логике: ведет анализ архаики вроде бы в рамках оппозиции «личность – общество», в неудачах личности обвиняя архаичное общество, но всегда переводит этот анализ в конструирование другого, более фундаментального противоречия – между попыткой русского человека стать личностью и неспособностью это сделать.
Лермонтов, противопоставляя личность и общество, не разделяет их абсолютно, как делает народническое литературоведение. Причинно-следственная связь совершенно определенная. Если человек не может стать личностью, значит и общество не может стать обществом личностей. Если личность патологически раздвоена, значит и общество патологично раздвоено. Следовательно, если российское общество гибнет, это означает, что гибнет в России в первую очередь личность. Конечно, поэт ассоциировал личность в основном с инновацией, а общество в основном с социальной патологией. Тем не менее конфликт между социальной патологией и личностью располагается не за пределами личности. Он главным образом в ней самой.
Конфликт между личностью и социальной патологией Лермонтов рассматривает как внутренний конфликт в русском человеке между различными способами мышления, между способностью быть личностью и нацеленностью на то, чтобы эту способность в себе разрушать. Этот тип конфликта порождает в российской ментальности, в русской культуре, в обществе раскол, грозящий катастрофой. Лермонтовский человек возникает как носитель логики саморазрушения.
Личность, попытка формировать личность – лермонтовский символ модернизации, и у Лермонтова этот сложный символ реализуется через образы Поэта, Пророка, Поэта-пророка, Демона. Социальная патология – символ антимодернизации. Этот резко негативный символ у Лермонтова всегда более или менее одинаков – застойность, архаичность, застревание между желанием модернизации и неспособностью измениться, патологическая раздвоенность, раскол ментальности, самообман, комплекс неполноценности. Социальная патология преследует, унижает, убивает личность и тем губит общество.
Анализ патологии общества не был сложной проблемой для Лермонтова, но анализ патологии личности у него неоднозначен. Потому что процесс формирования личности в России сложен, является результатом борьбы личностной и антиличностной тенденций в ментальности русского человека. Потому что в этой борьбе даже тенденция, которая вроде бы нацелена на борьбу с российской архаикой и формирование протестной личности, порождает неоднозначные и антиличностные явления.
Лермонтов создал образ патологически раздвоенной, застрявшей, сознательно обманывающей себя личности, показал логику раскола ее менталитета, неспособность российского общества стать обществом личностей, крах попытки русского человека стать личностью – таковы его основные методологические достижения в изучении российской архаики. Наиболее глубоко и системно патология личности в России проанализирована в романе «Герой нашего времени». Потом будет «Демон» и будет разрабатываться личностная альтернатива социальной патологии. И появится новый блок методологических достижений. Это другая, не менее блестящая страница творчества Лермонтова, но она не может быть понята без знакомства с анализом русского человека в «Герое нашего времени».
Лермонтовский анализ в романе – это открытие, дающее ключ к пониманию русской культуры. Вместе с ним появились новые возможности для изучения сущности русского человека как культурного феномена. Роман помогает понять причины неудач модернизации русской культуры и намечает новый способ преодоления этих неудач, который мыслится как изменение типа русской культуры. После «Героя» в русской художественной литературе развернулась и стала нарастать критика российской архаики, начался процесс переосмысления сложившихся оценок русскости. По этому пути пошли Гончаров, Тургенев, Достоевский, литература, формировавшаяся под влиянием творчества Достоевского, Чехов, Булгаков, Пастернак и чеховская традиция в русской литературе.
«Герой нашего времени» давно отмечен критикой как, возможно, лучший российский роман. За удивительную красоту стиля, динамичность сюжета, точность, лаконичность художественного слова. Но это роман, культурологический анализ которого не начинался. А ведь анализ души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа.
Пожалуй, одними из первых сделали попытку понять роман культурологи-чески западные литературоведы. У них роман не вызвал восторга потому же, почему не сумели они оценить по достоинству Пушкина: мол, Лермонтов в романе слишком европеец, недостаточно «русский», слишком общечеловечен, чтобы «удовлетворить требующий остренького вкус романских и англосаксонских русопатов»[157]157
Мирский Д.С. История русской литературы. С древнейших времен до 1925 г. (пер. с англ.). Лондон, 1992. С. 245.
[Закрыть]. Роман, видите ли, подверг критике русскую специфику, значит он западному специалисту неинтересен. Я же, напротив, вижу в критике русской культуры основное достоинство романа и величайшую гражданскую заслугу автора.
Роман захватывает глубокой минорной тональностью, какой-то обреченностью, ощущением надвигающейся катастрофы, от первой до последней строчки его пронизывает тоска автора. «Скучно жить на этом свете, господа!» – как будто эти слова произносит не Гоголь. Лермонтов как врач прописывает обществу «горькие лекарства», как аналитик культуры произносит «едкие истины», а мы видим страдания поэта-гражданина. Это роман – приговор русскому человеку, который хочет чувствовать себя личностью, но из его попытки подняться над общепринятым, стать кем-то вроде Дон Кихота российского общества ничего, кроме конфуза, не получается. За этой уродливой попыткой тянется кровавый след, цепь разрушенных надежд, изломанных судеб, мы ощущаем досаду героя романа на себя – нравственного калеку, человека «ни то, ни се», его нравственное опустошение, отчаяние. Самоанализ Печорина, нацеленный на то, чтобы увидеть личность в себе, раскрывает… его неспособность жить, потому что личность в России несет в себе черты социальной патологии. В этом выводе основной пафос романа «Герой нашего времени».
Вывод Лермонтова имеет общелитературное и общекультурное значение. Печорин не просто герой российского общества первой трети XIX века. Это портрет человека, которого мир называет русским.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































