Текст книги "Неполитический либерализм в России"
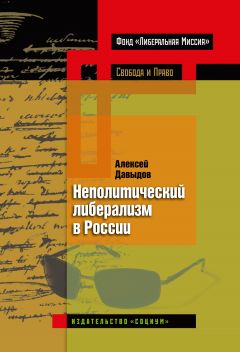
Автор книги: Алексей Давыдов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 65 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Свою интерпретацию социально-нравственного портрета пушкинского Григория я начинаю с анализа его вещего сна, когда он еще был монахом в Чудском монастыре.
Григорий
(пробуждается)
Все тот же сон! возможно ль? в третий раз!
Проклятый сон!..
Вот полный текст этого сна. Григорий – Пимену:
А мой покой бесовское мечтанье
Тревожило, и враг меня мутил.
Мне снилося, что лестница крутая
Меня вела на башню; с высоты
Мне виделась Москва, что муравейник;
Внизу народ на площади кипел
И на меня указывал со смехом,
И стыдно мне (курсив мой. – А. Д.) и страшно становилось —
И, падая стремглав, я пробуждался…
И три раза мне снился тот же сон.
Этот текст, навеянный библейскими сюжетами и реальной историей Смуты – прелюдия к жизненной драме Григория. В ней кратко, яркими мазками излагается все содержание дальнейшего повествования. И в этой прелюдии заключены две истории.
Одну историю можно назвать «Григорий-Лжедмитрий». Он – банальный охотник за престолом, традиционный носитель лжи и насилия, авантюрист, похитивший чужое имя. Как социальный тип он уподобляется Борису Годунову, обманом захватившему московский трон и поэтому лжецарю. Как социальный тип уподобляется он и Марине, делающей все, чтобы заставить его, лжецаревича, завоевать московский трон, а самой стать женой московского лжецаря и, следовательно, московской лжецарицей. Он несет в себе воспроизводственную логику исторически сложившейся русской культуры, основным вопросом которой является вопрос о власти. На Лжедмитрии ложь похищения чужого имени, грех гражданской войны и кровь людей.
Другую историю можно назвать «Григорий-Самозванец». Бросивший вызов себе охотнику за престолом, открытый, честный, влюбленный, восхищающийся демократическими ценностями, приверженцем которых был Андрей Курбский (как это следует из его переписки с Иваном Грозным), первый русский диссидент. В этой истории Григорий – Самозванец. Но не потому, что Лжедмитрий, а потому, что самозвано вызвал на дуэль родовую традицию борьбы за власть. Это не был вызов каким-то плохим людям. Это был вызов русской культуре. И это не был вызов партии русской культуры – это был вызов русскому способу жить, русскости как таковой.
Этот вызов, конечно же, безумие. Как это? Один и против всей культуры во всей ее мощи. Невозможно? Нет, возможно. Можно бросить вызов этому абсурду в самом себе. Вызов самому себе – авантюристу, архаику, потомку царя-палача, его тени в себе с позиции смысла личности, совершенно беззащитной перед неодолимой мощью родовой традиции и сильной лишь способностью быть независимой от этой мощи.
В тексте сна конфликт – между самоутверждением Григория через маску Лжедмитрия и его признанием, что стыдно ему носить чью-либо маску. Слово «стыдно» – ключевое.
Противоречит ли мой Самозванец пушкинскому Самозванцу? Формально – да, но по существу – нет. Пушкин называет своего героя то Гришкой, то Григорием, то Лжедмитрием, то самозванцем. Для него это разные имена одного и того же персонажа. Избыток названий. Но Григорий-то у него разный. Могу я называть Лжедмитрия самозванцем, охотящимся за московским престолом? Могу. Но зачем? «Лжедмитрий» – достаточно. У меня Лжедмитрий и Самозванец – разные образы Григория Отрепьева. Интерпретируя Григория то как борисоподобного, второго Бориса, то как диссидента, я иду по пушкинскому пути. Я присваиваю имя Самозванца-Антилжедмитрия такому образу Григория, который Пушкин детально разработал, всячески старался подчеркнуть его несовпадение с образом Лжедмитрия, но имени этому образу не дал. Я даю. «Стыдно мне» быть Лжедмитрием – сказал Григорий себе и стал русским европейцем. Как назвать этого изменившегося Григория, попытавшегося перестать быть Лжедмитрием? Я не нашел более точного имени, чем Самозванец.
Повторюсь: на первом этапе своей деятельности, когда Григорий замышляет и осуществляет свою авантюру, он – Лжедмитрий и примитивный самозванец, банальный охотник за престолом. На втором этапе своей деятельности, после того как влюбился в Марину, он в значительной степени Самозванец в том высоком, пушкинско-еретическом, Иисусово-античном, диссидентско-героическом смысле, который принят в нашей книге. Потому что, продолжая бороться за престол, он уже не хочет его. Он хочет любви. Но возлюбленная мечтает стать московской царицей. И он вынужден идти к своей любви через кровавую борьбу за трон, через глупость, которая его и губит.
Ересь и самозванство Григория-Самозванца – это вызов роду, поднявшему его на вершину власти, попытка человека почувствовать себя независимым от традиции в условиях, когда родовая культура требует от него возглавить традицию.
Поставив проблему отношения личности и культуры, Пушкин коснулся самого больного в ментальности русского человека и самого сокровенного в своем мышлении.
Анализ двойственности образа Григория Отрепьева я веду от его авантюрной мечты стать «царем на Москве».
Решение Григория: «Я – Дмитрий, я – царевич»[88]88
Пушкин А.С. Борис Годунов. Сцены, исключенные из печатной редакции // Пушкин. Т. 5. С. 324–325.
[Закрыть], как оно изложено в черновике пушкинской рукописи, родилось неслучайно. В тексте черновика есть персонаж – пожилой монах, который хотел выдать себя за чудом спасшегося царевича, но возраст не позволил. Состарившийся чернец передает мысль о самозванце юному Григорию, который был Дмитрию ровесник. И указывает ему на те основания русской культуры, которые помогут осуществить проект. Что это за основания?
Чернец – Григорию:
Слушай: глупый наш народ
Легковерен: рад дивиться чудесам и новизне.
Во-первых, чернец указывает на специфику русского народа – традиционную потребность решать свои проблемы, надеясь на чудо. Поэтому он уверен, что народ может поверить в чудо выжившего Дмитрия.
Во-вторых, Чернец говорит:
А бояре в Годунове помнят равного себе;
Племя древнего варяга и теперь любезно всем.
Бояре, защищая свои родовые права от посягательств центральной власти, могут поддержать претендента на престол, осмелившегося заявить, что Годунов – лжецарь. И неважно, будет этот претендент Дмитрием или Лжедмитрием – лишь бы он был ставленником бояр. Годунов не из Рюриковичей, а потомков Рюрика среди бояр много. Дмитрий, сын Грозного тоже из Рюриковичей. В конфликте между царем и боярской аристократией, принявшем междинастийную форму, поддержка бояр может стать решающей.
И третье.
Чернец:
Ты царевичу ровесник… если ты хитер и тверд…
Понимаешь? (Молчание).
Григорий:
Понимаю.
Чернец:
Что же скажешь?
Григорий:
Решено!
Я – Димитрий, я – царевич.
Чернец:
Дай мне руку:
Будешь царь.
Проект основывается на интриге, дворцовом заговоре, «хитрости и твердости» заговорщиков, лжи и насилии.
Но это не все основания для проекта «Лжедмитрий».
Григорий хочет прорваться к сакральности. Став царем, он хочет одним ударом сменить свой социальный статус: превратиться из отверженного в земного бога. Из изгоя, нищего, гонимого русских народных сказок – в прекрасного царевича. Из ничего – во всё. В нем работает инверсия, так характерная для традиционного мышления.
Инверсия ведет Григория из положения униженного и оскорбленного монаха в заговор, бунт, гражданскую войну и, следовательно, в чудовищную ложь. Но это его не смущает:
Ни король, ни папа, ни вельможи
Не думают о правде слов моих.
Димитрий я иль нет – что им за дело?
Но я предлог раздоров и войны.
Им это лишь и нужно.
Это же нужно и Григорию. Его ложь стала обслуживать Смуту. А он стал ее жрецом, знаменем, политическим лидером строительства властной вертикали.
Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла.
Это говорит не влюбленный юноша. Эти слова произносит актер, верящий, что он венценосец, охваченный страстью обладания неограниченной властью. И пониманием, что имеет силу ее взять. Это человек-монстр, которого в его актерском порыве поразили депрессивный невроз, паранойя, мания величия и способность идти к власти по трупам. Он загипнотизирован сиянием и мраком трона, сладостной мечтой о высшей власти и безграничной свободе. Тень Грозного его загипнотизировала, усыновила и бросила в братоубийственную войну. Дух палача природнил его. Григорий еще не царь, но уже земной бог: народы мира – вокруг и под ним и он – в центре и над всеми. Мессия и спаситель. И трупы людей – ступени, ведущие к его трону.
Смута смутила всех, породив игру чудовищ. Одна чудовищная ложь – война «своих» поляков, ведущих «своего» русского царевича, только что бывшего монахом православного монастыря, но принявшего католичество и благословленного и «чужими» отцами-иезуитами, и «своим» русским православным патриархом (боярин Пушкин, находящийся на службе у Самозванца, призывает народ: «Целуйте крест законному владыке; // Смиритеся, немедленно пошлите // К Димитрию во стан митрополита») на московский трон православного царя. Другая чудовищная ложь – война «своих» русских, защищающих московский трон, украденный «своим» Борисом, от «чужих» русских и поляков. Это война одной лжи против другой, где добро и зло, взаимопроникая, порождают игру чудовищ. Смута – это когда политическая ложь в образе «царей правды» выступает под различными партийными личинами, а соборный народ мечется между ними, порождая стихийную ложь толпы – «народную правду».
Что же движет Григорием-Лжедмитрием в этой игре чудовищ? Что дает ему силы носить маску другого человека?
А что дает силы православному русскому человеку верить, что русский народ – наиболее близко стоящий к Богу, единственный имеющий право славить Бога и поэтому самый духовный в мире? Единственное основание его веры – его вера. Григорий верит, что он – царевич. И единственное основание его веры – лишь его вера. Но вера не рождается на пустом месте. Православие родилось из представления об абсолютной истинности ранних христианских постулатов и преданности им православного человека. Отсюда его вера в свою религиозную непогрешимость и, следовательно, в высшую духовность свою и своей церкви. В нем работает историческая память. В нем работает память о счастливом детстве – золотом веке христианства. А историческая память, хотя она и предоставляет человеку аргументы, давно уже неадекватные современным реалиям, с точки зрения верующего сознания вполне рациональное основание веры.
Григорий так играет роль Дмитрия, что убеждает всех: он – Дмитрий. Верят все: и он сам, и «два народа», и зрители-читатели пушкинской пьесы в течение двухсот лет. Почему великому актеру удалась его мистерия? Потому что в вере Григория, как и в вере православного человека, работает рациональный фактор – историческая память. Что помнит Григорий? Он помнит эмоциональный мир своего счастливого детства.
Как родился этот исполнитель роли Дмитрия?
Причудливы пути юного воображения, пытающегося вырваться из монашества – «вечной неволи». Поверив в жизнеспособность проекта с чудом спасшимся Дмитрием, Григорий вошел в роль, почувствовал себя сыном Грозного и, как актер, получил право сказать о себе: «Тень Грозного меня усыновила // Димитрием из гроба нарекла». В мечтах он извлекал из небытия «тень Грозного», имя «Димитрия из гроба», из памяти родителей и биографии Пимена – «двор и роскошь Иоанна». В воображении «тешился в боях» и «пировал за царскою трапезой», играл с тенями царя и царевича в царя и царевича. Он полюбил и свою мечту о московском троне, и роль царевича, восстанавливающего в России справедливость, и игру своего воображения. Если бы он не любил идею трона, образ трона, себя, восседающего на троне, экзальтация и самовнушение не захватили бы его в такой степени, что стали его второй натурой, и он не перешел бы от игры к реальным действиям – не начал бы охоту за троном. Таково психологическое основание способности Григория быть собой-Дмитрием и жить ролью, о которой мечтает, которую любит, за которую давно борется, которую получает от судьбы как подарок и исполняет с мужеством, искренностью, легкостью и блеском. Успех обеспечен тем, что он не играет роль, а живет ею, купается в ней, наслаждаясь игрой. И абсолютно искренен в своем преступном актерстве.
Но есть вторая сторона психологии Григория. Он – «лже-». Лжет себе и знает, что лжет.
Почему Григорий себе лжет и почему ложь становится органической частью его актерства? Он не может не лгать, потому что, пытаясь приблизиться к мечте как к истине и совершив для этого бесчестный поступок – присвоив чужое имя, должен выглядеть перед собою и всеми честным человеком. Искренность лжи проистекает из трансцендентности придуманной им и санкционированной массовым сознанием истины, из ее кажущейся черно-белой простоты, из мифа об истине и о себе-мессии. Играя роль, он превращает свою жизнь не просто в сплошную ложь, но в сознательный и искренний самообман. Он актерствует не в театре, а в жизни, не во время спектакля с 19 до 22 часов, а всегда. Поэтому тотальность исполняемой роли и масштаб лжи, которую она несет, превращает самообман из средства в цель, в имманентный способ мышления, в образ жизни как миссию, в патологию менталитета.
Григорий, скрывая от себя правду о себе, знает ее. Но не обвиняет себя за ложь. Чтобы самооправдание построить на прочном основании, он, скрывая истину, обвиняет другого. Обвиняя Годунова в убийстве царевича, он оправдывает себя и за то, что похитил чужое имя, и за то, что развязал преступную войну. Это обвинение – способ снятия противоречия между тем, что он знает правду о себе, и тем, что скрывает ее от себя и всех.
Григорий (в черновике рукописи):
Без колебаний перекладывает свой грех на другого:
Но пусть мой грех падет не на меня —
А на тебя, Борис-цареубийца!
Обвиняя Бориса в лукавстве и грехе, Григорий говорит правду. Но, говоря правду, знает, что, называя себя Дмитрием, обманывает себя, и через это лукавое знание оправдывает свой самообман. Однако выстраиваемое им псевдо-здание самооправдания не рушится. Потому что и под самообманам, и под оправданием самообмана лежит неубиваемый козырь: статус Бориса в сознании народа как «лжецаря» и жажда народом чуда – поиск «царя правды». Опираясь на этот козырь, Григорий-Лжедмитрий оправдывает все – и свой самообман, и лукавый способ его оправдания. Этот способ оправдания оправдания работает на него до тех пор, пока массовое сознание, обуянное жаждой чуда-рая на земле, признает Григория символом своего поиска и образом «правды».
Самообман, поселившись в сознании Григория, изменяет его менталитет. Поверив в то, что он – избранный-уникальный-единственный и находящийся на вершине человеческого, Григорий на самом деле уподобляется тем, кто избранности-уникальности-единственности не несет:
– народу, жаждущему иметь «царя правды»;
– толпе, желающей прилепиться к трону;
– казакам, не столько воюющим с войсками Годунова, сколько грабящим русские села;
– полякам-интервентам, жаждущим московского трона и власти над Россией;
– боярам, ищущим в Смуте выгоду, чтобы решить вопрос о власти в России с пользой для себя.
Одним лишь фактом принадлежности к организованной им массе людей Григорий спускается на несколько ступеней ниже по лестнице цивилизации. В семье родителей он был носителем индивидуального сознания, образованным индивидом, независимым от инстинктов толпы, личностью. В соборно сплоченной массе он – варвар, существо, обусловленное первичными позывами, инстинктами. Он спонтанен, порывист, дик, обладает энтузиазмом и героизмом примитивных существ (Григорий – о запорожцах, которые, как он считал, были виновны в поражении в бою: «Я их ужо! Десятого повешу, //Разбойники!»; «Но кровь за кровь! И горе Годунову!»). В нем тени великих бунтовщиков. И кровавая «тень Грозного», которая сделала его Лжедмитрием в тот самый момент, когда он начал охоту за престолом.
Но Отрепьев не только Лжедмитрий, он – Антилжедмитрий. В нем – тонкая душа творческой личности. Это свойство его души требует анализа смысла Самозванца в антично-пушкинском, диссидентско-Иисусовом ключе.
Самозванство – ересь новизны, первый крик незаконнорожденного, диссидентское требование критики основ, отвага протеста против засилья традиционности и культурная инновация.
Но есть самозванство и самозванчество. К сожалению, нет у меня других средств для того, чтобы по-разному назвать различные явления. Самозванство – социальная форма диссидентства в России, самозванчество – попытка незаконным путем захватить престол.
Специфика самозванства в том, что оно, противостоя сложившимся стереотипам культуры, располагается за их пределами, в сфере между ними и из своей еретической середины само свидетельствует о себе. В образе Самозванца просвечивает двухтысячелетняя история схватки нравственного протеста личности против «народно-симфонической» традиционности. Фарисеи и саддукеи в евангелиях постоянно спрашивают Иисуса, кто может подтвердить, что он сын Божий. И Иисус неизменно отвечает, что сам свидетельствует о себе. Для фарисеев он лжемессия, лжебог, еретик, оборотень, сам отлучивший себя от традиционной церкви, самозванец. Иисус, Пушкин – самозванцы в том смысле, в каком принято говорить в нашей книге о личности. Они несут самозванство, но не несут самозванчества.
В России создана большая литература, которая анализирует самозванчество как культурно-исторический феномен русской истории. Об этом писали С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, М.М. Покровский, Б.А. Успенский, К.В. Чистов и многие другие. Однако сбор и изучение многочисленных фактов самозванчества мало помогают пониманию смысла, который Пушкин вложил в противостояние Самозванца и Бориса в своей трагедии, и пушкинского взгляда на развитие России. Успенский на большом фактическом и литературном материале показывает, что самозванчество – это попытка русского человека сакрализировать себя через узурпацию царской власти, которая в России всегда рассматривалась как божественная[90]90
См.: Успенский Б.А. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен… // Успенский Б.А. Избранные труды. Семиотика истории. Семиотика культуры: в 2 т. 2-е изд. М.: Языки русской культуры, 1996. Т. 1. С. 142–143.
[Закрыть]. Историко-культурный подход действительно присутствует в трагедии Пушкина. Но он объясняет лишь историческую специфику культурного факта и не отвечает на вопрос, поставленный в трагедии: почему русский человек, приученный воспринимать себя как грешного, стремится прорваться через обычай и слиться с божественным? Почему для Григория высшей ценностью сначала является обладание троном, но когда он встречает Марину – любовь? Что такое то божественное, которое он легко переводит из ценности обладания высшей властью в способность любить и быть любимым? Историческое самозванчество в России еще далеко не все самозванство как феномен русской культуры.
Пытаясь понять пушкинскую логику анализа культуры, В.Н. Турбин подошел к сокровенному в Пушкине и основному в содержании российского самозванства. Он считает, что у Пушкина почти все литературные персонажи (Онегин, Татьяна, Вальсингам, Гуан, Анна, Дубровский, Пленник, Борис и десятки других) так или иначе являются самозванцами. Это означает, что они в той или иной степени выдают себя не за тех, кто они есть на самом деле. Почему? Следуя логике П. Флоренского, Турбин видит в имени магическое свойство, благодаря которому в нем закодирована программа поведения человека как субъекта культуры. Поэтому причина самозванства, по Турбину, в стремлении человека избавиться от культурно-психологического стереотипа, который он невольно несет с рождения благодаря полученному имени. И это самообновление – его способ адаптироваться к меняющимся социальным условиям[91]91
См.: Турбин В.Н. Характеры самозванцев в творчестве Пушкина // Турбин В.Н. Незадолго до Водолея. М.: Радикс, 1994. С. 63–81.
[Закрыть].
Оценка Турбиным этого явления в данном случае не имеет значения. Главное, что Турбин заметил в мышлении Пушкина попытку личности в России избавиться от традиционного способа воспроизводства себя, ее стремление к новой логике с целью воспроизводить себя по-новому. Другими словами, Турбин рассматривает проблему не как культурно-историческую, а как социокультурную, которая возникла под влиянием столкновения культуры и социальных отношений. Это означает, что проблема поставлена так, как она стоит у Пушкина.
Справедливо не соглашается с таким тотальным всесамозванством И. Ронен. Она полагает, что нельзя всякое стремление человека присвоить себе новую символику считать самозванством. Самозванство, по Ронен, это очень высокий нравственный стандарт. Например, попытка Бориса обманом захватить престол еще не дает оснований считать его самозванцем, потому что она сродни попытке украсть, лишена открытого личностного вызова миру, романтизма[92]92
См.: Ронен И. Смысловой строй трагедии Пушкина «Борис Годунов». М.: ИЦ-Гарант, 1997.
[Закрыть]. Точное наблюдение. Хотя с позиции методологии Успенского царь Борис вполне мог бы считаться самозванцем.
Думаю, что методология Турбина, продвигая нас в понимании Пушкина, все же не отвечает на важнейший вопрос, к которому подходит, но который не пытается решить Ронен. Вот этот вопрос: в чем суть социально-нравственного конфликта двух программ, двух логик воспроизводства субъекта культуры, двух культур – Самозванца как образа личности и Бориса как носителя традиционности?









































