Текст книги "Вечный зов. Том II"
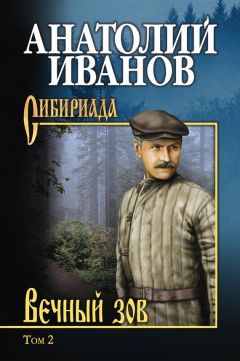
Автор книги: Анатолий Иванов
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 52 (всего у книги 57 страниц)
Так сидела Анна и думала, пока не стукнул кто-то в окошко. Она обернулась, в рассветном полумраке различила колхозную почтальоншу.
– Письмо тебе от сына, из Ленинграда, – сказала та, через открытую форточку передала конверт.
Письмо поначалу было обычным – Андрей сообщал о домашних делах, что сын и дочь, которыми он обзавелся к тридцати годам, здоровы, что служба идет у него нормально. А затем шли строчки, которые заставили Анну вскрикнуть:
– Дима, сынок! Проснись!
«Мама, – писал Андрей, – по-моему, мы с женой напали на след нашего Семена. Рая лечила одного норвежского туриста по имени Сигвард Эстенген, который приехал к нам в Ленинград из норвежского города Бреннёсунн и у него случился приступ острого аппендицита. Рая делала ему операцию и спросила, отчего у него все тело в рубцах? Это, говорит, от немецких плетей. Оказалось, что он сидел в концлагере возле финского города Рованиеми. А там, как рассказывал вам всем и мне в прошлом году, когда я приезжал к вам, Петр Викентьевич Зубов, сидел же наш Семен! Когда норвежец выздоровел, мы пригласили его к себе домой, показали фотографию Семена. Да, говорит, вроде бы он похож на одного человека, который был в этом лагере Рованиеми и которого вместе с Эстенгеном немцы угнали в сорок четвертом году в Норвегию, но точно утверждать не может, потому что лет-то сколько прошло, да и вид лагерников был понятно какой. Потом этот человек, по рассказам Эстенгена, организовал побег заключенных, участвовал в движении норвежского Сопротивления, был в каком-то небольшом партизанском отряде. Вот как, мама, и в Норвегии были партизаны! Но звали его, как говорит Эстенген, не Семен, а ''русский Савелий''. Он, к сожалению, погиб, близ города Бреннёсунн есть его могила. Мама, мне почему-то кажется, что это наш Семен, наш Семка! Норвежцы могли его и так звать. Что я предлагаю, мама? В июне у меня будет отпуск. Давайте поедем в Норвегию! Ты, я, жена Семена Наташа, Димка. Эстенген говорит, что жив еще один человек из норвежского партизанского отряда, в котором был ''русский Савелий''. Мы разыщем их, поговорим с ними. Надо захватить с собой все фотографии Семена, какие у всех у нас есть, ту газетную вырезку с его портретом… Где сейчас Димка, в Москве или там у вас? По весне он всегда ведь в Михайловку приезжает. Обговорите там все и сообщите мне, я постараюсь быстро оформить поездку в Норвегию на четырех человек, мне помогут в этом. Рая в связи с какими-то очень ответственными операциями с нами поехать не сможет, к сожалению, но на обратном пути мы ее захватим и махнем все вместе в нашу Михайловку, в гости к тебе, мама… Жду от тебя сообщения по этому вопросу. Если это наш Семен, будем хоть знать, где его могила…»
– Димушка, сынок! – сорвалась с места Анна, на ходу вытерла опять проступившие слезы. – Да проснись, проснись, вставай же!
* * *
Семен или не Семен лежит под строгим невысоким обелиском, стоящим у подножия отлогого плоскогорья близ города Бреннёсунн?
На темно-сером гладком камне строгими буквами было лишь высечено: «Rus-seren Saveli»[28]28
Русский Савелий.
[Закрыть]. И чуть пониже еще одна строчка: «Norge takker deg»[29]29
Норвегия благодарит вас.
[Закрыть].
Андрей Савельев, не очень высокий, широкоплечий, в гражданской одежде разительно похожий на Семена, Дмитрий, Наташа, Анна и норвежец Эстенген долго стояли перед этим камнем, все молчаливые и угрюмые. Отсюда видно было море и остров Ульвинген – длинный, черный, совершенно почти голый, на острове различались коробки небольших домиков, тоже черных, с красными двускатными крышами.
С моря дул влажный и теплый ветер, овевал этот невысокий обелиск, шевелил жесткую ярко-зеленую траву под ним и пестревшие в ней крохотные цветы, похожие на ромашки. Цветы эти никто не сажал, они выросли сами, и траву никто не сеял, не было никакого могильного холмика, просто стоял на земле камень – и все, и за ним вздымалось к низкому северному небу длинное плоскогорье, поросшее такой же травой. Анна смотрела на этот камень сухими глазами, в плотно сжатых губах ее была немая старческая тоска. Наташа держала ее под руку – то ли поддерживая на всякий случай Анну Михайловну, то ли опираясь на нее. Она постарела, Наташа, как-никак, а годы подходили к сорока, но сейчас на щеках от волнения ярко горел румянец, глаза блестели, она помолодела будто за недолгую дорогу от Ленинграда до Норвегии наполовину и теперь останется такой уж навсегда. И лишь плечи, хотя и не обмякшие еще по-старушечьи, как у Анны, словно говорили – нет, не останется. Ее плечи постоянно были под невидимым грузом, в эти минуты груз стал еще тяжелее.
– Таких могил в Норвегии много, они разбросаны по всей нашей стране, – негромко проговорил Эстенген. Это был улыбчивый и добрый человек лет под шестьдесят, ходивший с костылем, он хорошо говорил по-русски. – Есть у нас люди, которые хотели бы могилы советских людей уничтожить… чтобы их не было. Норвежский народ этого не позволит. Эти могилы должны нашим детям напоминать о совместной борьбе с фашизмом.
К могиле «русского Савелия» они отправились в тот же час, как сошли в Бреннёсунне с парохода, где их встретил Эстенген. А вечером сидели в его небольшом домике, сложенном из тесаного камня, жена Эстенгена с непривычным и красивым именем Ингрид поставила на стол большое блюдо с рыбой, тарелку с коричневатым козьим сыром, который был сладким на вкус, масло, тоненько нарезала белую булку, налила всем в крохотные чашечки кофе, а сам Эстенген между тем рассказывал:
– С вашим сыном, Анна Михайловна, я познакомился еще в Рованиеми, на заготовке торфа…
– Вы уверены, что это он, Семен? – в который раз уже спрашивала Анна. – Посмотрите еще!
И в который раз старый норвежец брал из ее рук фотографии Семена, долго и внимательно рассматривал. Их было не много, фотографий. На них он был еще мальчишкой, лишь две небольшие фотокарточки были сделаны в сорок втором году. Один раз он сфотографировался для каких-то военкоматских документов, Анна перед отъездом выпросила в Шантарском военкомате эту крохотную фотографию, в Ленинграде уже сделала с нее увеличенную копию. А другой – перед отъездом на фронт, вместе с Наташей. Будто зная, что расстаются они навсегда, она уговорила тогда его сняться на память. На этой карточке Семен был в распахнутой рубашке, рядом с Наташей он сидел скованный, но лицо его пропечатано было хорошо, эта карточка являлась основной. Портрет, напечатанный когда-то в дивизионной газете, тоже был неясный бумажный клочок. К тому же сильно истерт.
– Я думаю, это был он, – говорил Эстенген раздумчиво. – Он был худ до невозможности, как и все мы, на щеках грязная щетина… Но глаза… Я уверен, что это он… Торф этот мы копали до самой отправки в Норвегию. Можете представить, какие мы были тогда, если с утра до вечера ходили по колено в холодной болотной жиже. Какого-нибудь душа, а тем более бани нам не полагалось. От холода руки и ноги у людей неожиданно скрючивало – таких немедленно расстреливали, потому что работать они уже не могли. Мы с Савелием выдержали. Да, да, его еще в финском лагере называли «русским Савелием». Мы с ним выдержали, только я до конца жизни не вылечу свой ревматизм…
– А Зубова, Петра Зубова вы не знаете? – спрашивала Наташа. – У Семена в этом финском лагере был товарищ по фамилии Зубов. Они всегда были вместе…
– Не знаю, – качал головой норвежец. – Товарищ… Товарищи были там у каждого, но мы это скрывали… Немцы не любили, чтобы заключенные становились товарищами. Они немедленно принимали, понимаете, меры… разные. И товарищи навсегда разлучались. Савелий… или Семен был молчалив, но, по-моему, у них была в лагере своя подпольная русская секция, и они готовили побег или восстание, и Савелий в этом активно участвовал. У нас была своя, норвежская, руководители секций как-то были между собой связаны. Но руководителей секций мало кто знал, это было опасно. Однако восстание готовилось, это все знали…
– Да, и Зубов говорил же, мама, что готовилось, – сказал Дмитрий. – Когда наши фронт в Заполярье прорвали, особенно активно началась подготовка.
– Верно, так, – кивнул Эстенген. – И немцы об этом догадывались. Чтобы нарушить эту подготовку, все связи оборвать, они осенью сорок четвертого стали часто переводить большие группы заключенных из лагеря в лагерь. А нас, нашу группу, в которой оказались мы с Савелием, погнали в Норвегию. Разумеется, вначале мы не знали, куда нас ведут. Шли много дней, под ногами была такая же грязь, как в болотах. Знали только, что на север идем, кругом тундра. Я идти уже почти не мог, ноги не слушались, я боялся все, что их сведет судорогой. И тогда бы… Автоматчики с собаками всегда шагали рядом… Но последние несколько дней меня почти тащил на себе Савелий. Он спас мне жизнь таким образом… И однажды под вечер все мы увидели пограничный столб. На одной стороне столба надпись: «Суоми», на другой – «Норге». Сердце мое забилось, в ногах сил прибавилось… Это было где-то в середине октября. Савелий мне сказал…
– Почему вы все его Савелием называете? – спросил Андрей.
– Да, да, Семен… Но так его никто не называл.
– Что же он, Семен, сказал вам? – Андрей сделал на имени ударение.
– Он сказал: «Держись, Сигвард, ты на своей родине. Если все норвежцы такие славные люди, как ты, мы здесь не пропадем». Он так и сказал: «Если такие славные, как ты…»
– Я слышал, что даже ваш тогдашний король призывал к борьбе с фашистами, – опять проговорил Андрей. – Правда это?
– Да, да, – встрепенулся Эстенген, – король Хокон… Он жил тогда в Лондоне.
– При опасности короли первыми покидают свою страну, – усмехнулся Дмитрий.
– Это так, – кивнул Эстенген. – Я человек рабочий, рыбак. Я не монархист, как вы понимаете. Но скажу вам – Хокона простой народ уважает за то, что он сказал: «Долг каждого норвежца – оказывать советским союзникам самую большую поддержку».
– Союзникам, а не самим русским, выходит, – буркнул Дмитрий.
– А тем не менее слова короля норвежцы поняли как надо, – возразил Эстенген. – Никаких союзных войск в Норвегии не было. Лишь было немало советских пленных, многие из которых, как потом Семен, сумели бежать. Норвежцы укрывали их. Я не помню случая, чтобы норвежец, если он не квислинговец, выдавал беглецов.
– Ну, фашисты везде фашисты, хоть германские, хоть норвежские, – проговорил Дмитрий.
– Это так, – опять кивнул Эстенген. – И король, конечно, есть король. И все-таки эта речь короля по лондонскому радио в конце октября сорок четвертого года очень помогла нам в борьбе с оккупантами. Хокон говорил тогда, что в национальной борьбе норвежские коммунисты стояли в первых рядах боевых сил народа против угнетателей и против тех, кто не стремится к развитию Норвегии на основе конституции… И что путь демократической Норвегии – честное сотрудничество всех патриотических сил, в том числе и коммунистов.
– А он сам, случайно, не вступил в компартию, король ваш? – опять бросил Дмитрий.
– Перестань, – сказал Андрей. – Тут все ясно же. В Норвегии были могущественные силы, которые поддерживали Гитлера. Король боялся, что эти силы и придут к власти после войны, поэтому и заигрывал с народом.
– И это так, – в третий раз согласился Эстенген. – Но тогда эта речь, возможно, спасла жизнь Семену и мне.
– Да? – спросил Дмитрий все-таки насмешливо.
– Да. – Эстенген мягко улыбнулся, прося Дмитрия этой улыбкой успокоиться и быть благоразумным. – По Норвегии мы шли еще много дней. В конце октября нас пригнали в город Харстад. Ночью под проливным дождем погрузили в трюмы каких-то барж, стоящих в Анс-фьорде, куда-то повезли. Мы были голодны, немцы несколько дней нас уже не кормили. Но в трюме мы обнаружили большой ящик копченой рыбы. Понимаете, настоящей рыбы, которую мы не видели целую вечность. Не немцы же это туда поставили! И там же, в ящике, – нелегальную листовку норвежских подпольщиков с выдержками из этой речи короля Хокона. Я перевел ее Семену. Он ничего не сказал по поводу этой листовки, но… Баржи были старые, никому не нужные. Мы думали, что нас отвезут в открытое море и вместе с баржами пустят ко дну. Поднялась паника, и лишь Савелий…
– Семен, – поправил Андрей.
– Да, Семен… Он вышел на середину трюма и закричал, требуя перевести его слова всем. В барже были и норвежцы, как я, и финны, и голландцы, и поляки. И много других. Он потребовал спокойствия. «Если бы фашисты хотели нас уничтожить, – говорил он, – они бы сделали это еще в болотах тундры. Но не сделали – значит, мы им зачем-то нужны…» Логика в его словах успокоила всех. «Слушаться меня!» – потребовал он… Да-да, он, понимаете, он, оказывается, раньше других понял значение этой речи короля. Он спросил меня на другой день с улыбкой: «Норвежцы, Сигвард, слушаются своего короля?» – «Иногда…» – пошутил я. «Понятно, – сказал он. – Самое время теперь бежать, едва представится хоть малейшая возможность».
– И когда… она представилась? – спросила Наташа нетерпеливо.
– Дня через три, кажется, – подумав, ответил Эстенген. – Во время всего пути нас не кормили, рыбу мы, понятно, давно всю съели. Давно мы уже стояли где-то, сверху, по палубе баржи, слышны были шаги охранников. Судя по этим шагам, их было всего двое. «Где мы стоим, определить! – потребовал Семен. – В Норвегии или нет?» Трюм был глухой, без иллюминаторов, он освещался двумя керосиновыми фонарями. Но это было в начале пути, потом керосин кончился, мы плыли в темноте. Мы стучали снизу в крепкий люк, требуя еды и света, – нам никто не отвечал. Лишь один раз шаги сверху приблизились, люк отмахнулся, охранник полоснул вниз из автомата, и люк тут же захлопнулся. По счастью, никто не был убит… Да, Семен потребовал определить, где мы стоим… Его слушались уже беспрекословно, а как это сделать? И все же сумели… Я забыл сказать, что в ящике с рыбой лежал большой и крепкий нож, предусмотрительно оставленный там кем-то. Этим ножом мы просверлили небольшое отверстие в ржавой металлической стенке баржи, со спичечную головку всего. Я приник глазом к отверстию, вижу, что Норвегия, – огни во фьорде отражаются. Этого было достаточно. А стояли мы, оказывается, вот здесь, возле Бреннёсунна. – Эстенген показал за окно. – Я не мог этого определить, потому что до войны жил не здесь, а в Тронхейме. Я после войны поселился здесь…
– И как же вы… потом? – спросила Наташа, принимая от молчаливой жены Эстенгена новую чашку кофе взамен прежней, остывшей, но нетронутой.
– Семен… это был бесстрашный человек. Он всем объяснил, что ночью надо потребовать воды у охранников, для чего всем кричать, стучать в железные борта деревянными колодками. Вода у нас в бочке действительно кончилась. «Уж воду-то они должны дать, – сказал он. – А если вздумают опять утихомирить из автомата, переждать стрельбу и опять кричать и стучать. И так без конца. В конце концов они вынуждены будут дать воды. В этот момент важно как-то завладеть люком, ведь охранников всего двое. А там – в воду и к берегу вплавь. А дальше уж кому как повезет…»
– И что же? – спросил нетерпеливо теперь Дмитрий.
– Так все и получилось. – Эстенген отхлебнул из своей, тоже остывшей чашки. – Сначала Семен, постучав в люк, вежливо попросил воды. Немцы оставили это без внимания. Он попросил еще – тот же результат. Тогда мы подняли невообразимый шум, немцы, не открывая люка, ударили из автоматов, мы слышали, как стучат пули о железную палубу. Это они попросили нас замолчать. Мы умолкли. Немцы загремели ведром… Через некоторое время открылся люк, немец, не выпуская автомата, стал подавать сверху ведро с водой. Но Семен, беря будто бы ведро, схватил немца за руку и дернул вниз, а сам мгновенно очутился на палубе уже с немецким автоматом. Когда немец падал, он вырвал у него оружие.
– А другой… охранник?! – воскликнула Наташа испуганно.
– О-о! – улыбнулся норвежец. – Вы не знаете своего мужа. Что для него один охранник, если он уже был на свободе и в руках у него оружие. Он его убил.
– Убил…
– Да, я это видел… Я выскочил вторым. У того, у другого немца глаза вылезли из орбит, когда он увидел, что вместо своего товарища на палубе уже пленный. Немец попятился, стреляя в Семена, который бежал по длинной пустой палубе к рубке и тоже стрелял. Они стреляли друг в друга… И немец упал наконец. «Живо за борт!» – закричал Семен, снова подбегая к люку. Оттуда бесконечной цепочкой появлялись пленные, бежали к борту и прыгали в холодную воду. Берег был совсем близко, но там уже выла сирена и по фьорду шарили прожекторы. Потом от берега понесся к нашей барже катер с немцами. «Савелий! – крикнул я. – Пора и нам в воду!» Мы с ним прыгнули… Сначала плыли вместе, а потом…
Эстенген торопливо стал глотать свой кофе. На этот раз никто не проявлял нетерпения, в комнатке с белыми обоями стояла тишина.
– Вы представьте картину, – негромко проговорил Эстенген, допив кофе. – Черная ночь, на черной воде мечутся полосы прожекторов. Менаду ними с ревом крутится небольшой катер, и с обоих бортов немцы хлещут из автоматов по плывущим к берегу людям! Многие не доплыли… «Ныряй!» – каждый раз кричал Семен, когда катер приближался к нам. Это было последнее его слово, которое я слышал. В какой-то момент мы потеряли друг друга из виду. И уже навсегда. Навсегда…
Эстенген потом долго глядел на свою пустую чашку.
– Когда я, окоченевший, добрался до берега, меня укрыл в сарае портовый рабочий, отец Ингрид.
Жена Эстенгена, услышав свое имя, что-то сказала по-норвежски и закивала, улыбаясь.
– А Семена – Гюри Кнютсен, дочка старого рыбака. Кнютсены жили тогда на самой окраине Бреннёсунна, там, в камнях, Гюри и нашла его, увела в свой дом. Он в воде был ранен, оказывается, в голову и плечо. Она жила одна, отца ее замучили в концлагере на острове Ульвинген за то, что сын его Харальд был антифашистом и партизаном. Когда Семен немного окреп, Гюри отвела его в горы, к брату. Это все мне стало известно уже после войны. Но еще в феврале сорок пятого я узнал, что Семен жив. Здесь, в Бреннёсунне, той зимой был взорван кинотеатр, в котором погибло много немецких фашистов и наших квислинговцев. По городу было расклеено объявление, что сделал это «русский бежавший бандит по имени Савелий», за голову его немцы назначили награду в пятнадцать тысяч марок.
– Погодите! – сказал Андрей. – В этом объявлении был его портрет?
– Нет, портрета не было. Только, помню, приметы немцы указывали – рост средний, глаза серые, волосы светлые.
– Это он, он! – воскликнула Наташа, схватила Анну Михайловну за руку. Но та, все время молчавшая, как камень, и на этот раз ничего не ответила, лишь качнула головой не то утвердительно, не то отрицательно.
– Этого объявления, или листовки, у вас нет?
– Нет, – сказал Эстенген. – Там было еще написано, что этот русский Савелий… извините… обросший, как обезьяна. Так было написано… Может быть, у Харальда Кнютсена есть? Гюри умерла после войны, а он жив. Он живет сейчас в Тронхейме, мы к нему поедем, тут не очень далеко. Он был свидетелем, как погиб «русский Савелий»… или Семен.
* * *
Анна, как только все они сели на теплоход в Ленинграде, умолкла, весь путь до Осло не проронила почти ни слова, часто стояла одна на палубе, кутаясь от ветра в шерстяной платок, смотрела на белесые балтийские волны, о чем-то бесконечно думала. Сыновья и Наташа старались ее не беспокоить, но из виду не упускали.
Почти не разжимала губ она и в Норвегии. Ее не поразил ни живописный Осло-фьорд со снующими, как челноки, разноцветными маленькими суденышками, меж которых, словно расталкивая их, проплывали не торопясь огромными ледяными глыбами многопалубные теплоходы, ни сам Осло – шумный, пестрый, многолюдный. Равнодушно потом смотрела она, как за окном крохотного вагонного купе на двоих мелькают вывески с нерусскими буквами, белые – металлические – и красные – черепичные – крыши домов и домишек, большие лодки с полосатыми тентами на каких-то озерах. Лишь когда поезд, вырвавшись из города, врезался в лесной массив, она удивленно вскрикнула:
– Гляди-ка, Наташа, – березки!
Поезд шел долинами, по сторонам которых полого вздымались плоскогорья – знаменитые норвежские фельды, то совершенно голые, то поросшие всяким разнодеревьем: иногда к самой железной дороге подступали густые и мрачные, как в самой Сибири, еловые и сосновые леса. Но Анну это больше не волновало, она опять была задумчивой и одинокой какой-то.
До самого Бреннёсунна железная дорога не доходила, они высадились в Нам-сусе, небольшом и мрачном городке, сели в прокопченный и вертлявый на воде теплоходик, на котором и доплыли часа за три до Бреннёсунна. И сказочно красивые в это время года норвежские заливы-фьорды, которым даже за этот короткий отрезок пути не было числа, не произвели на нее никакого впечатления. Мрачно смотрел на эти заливы, на врезающиеся далеко в море высокие горные уступы и Дмитрий. Да и Наташа тоже. Лишь один Андрей весь путь простоял на крохотной палубе с широко открытыми от восторга глазами и перед самым Бреннёсунном сказал:
– Волшебство какое-то! Я все это и сам хотел посмотреть, и вам показать, а вы…
– Разве за этим мы едем сюда, сынок?
– Не за этим, мама, – смутился Андрей. – Но за эту красоту наш Семка жизнь отдал.
– Он отдал ее за свою Родину! – зло проговорил Дмитрий. – Понятно тебе?
– Понятно. Я же говорю в условном смысле…
– А я – в конкретном. Не люблю условностей.
– Дима, Андрюша! – попросила Наташа. – Не ссорьтесь.
– А мы не ссоримся, – ответил Дмитрий. И с какой-то угрозой кому-то пообещал: – Я стихи об этом напишу. Конкретные. О том чувстве, которое было здесь у Семена и у таких, как он.
В Тронхейм потом они ехали тоже морем, вдоль побережья. Харальд Кнютсен, предупрежденный Эстенгеном, встретил их в порту. Он оказался человеком тоже сердечным. Но русского языка почти не знал, если не считать отдельных слов, которым он, по его сообщению, научился от «русского Савелия». Эстенген был превосходным переводчиком.
Когда Анна подала Кнютсену фотографии Семена, он прямо весь вспыхнул.
– О да! Это он, наш «русский Савелий»! – Потом обмякнул, виновато опустил и без того покатые плечи. – Очень, очень похож…
– Похож или точно он? – спросила Наташа.
– Вы знаете, сначала мне показалось… Но с уверенностью я не могу сказать. Он, «русский Савелий», пришел к нам в горы небритый, моя сестра Гюри его привела. Он был сильно ранен. Раны у него еще болели. У нас была партизанская группа в семь человек всего. Он был восьмым. Он был странным, все время почти молчал. Мы думали – потому, что ранен. Но когда раны зажили, он продолжал молчать. И не брился почему-то, лишь немного подрезал бороду ножницами.
– Может быть, он вам… или вам, Сигвард, рассказывал что-либо о своей прежней жизни? – спросила Наташа.
– Нет, – сказали оба норвежца.
А Сигвард Эстенген добавил:
– Однажды он, кажется, сказал мне, что родом из Сибири. Да, это он сказал, а больше ничего.
– У вас не сохранилось листовки, в которой фашисты назначили цену за его голову? – спросил Андрей у Кнютсена.
– Нет, к сожалению.
– Расскажите все, что вы о нем помните. Все, все! – попросила Наташа.
– Я же говорю – он в основном сидел и молчал.
– Как же так – сидел и молчал? Вы же партизанами были.
– О-о! – протянул Кнютсен. – Я читал, читал о русских партизанах. Но у нас было не так. Все не так. Крупных отрядов у нас не было, у нас были небольшие группки, по шесть – двенадцать человек. Мы укрывались в горах. Мы не воевали, как русские партизаны, не сбрасывали с рельсов поездов. Мы нападали иногда на маленькие немецкие гарнизоны, это было. На автомашины. Если военнопленные где-либо работали, а охраны было мало, мы пытались отбить пленных. Но концлагеря были в основном на островах. Понимаете? И мы, партизаны, выпускали подпольные газеты и листовки, чтобы информировать население о положении на фронтах. Для нашей группы это была основная задача. Мы имели у себя в горах батарейный радиоприемник и небольшую типографию. Когда мы слушали радиоприемник и записывали сообщения, составляли листовки, Савелий сидел и молчал. Целыми днями так. А потом брал гранаты или взрывчатку, если это у нас было, вставал на лыжи и уходил.
– Зачем же вы его пускали?! – вскрикнула Наташа.
– Он не слушался.
– Да вы же командир!
– Но он был русским… Мы не могли его заставить остаться. Он возвращался через несколько дней, и мы не знали, откуда, он ничего не объяснял.
– Хороши партизаны! – усмехнулся Дмитрий.
– Да, у нас так было, – виновато сказал Кнютсен. – И мы по радио лишь потом узнавали, куда и зачем он ходил и что сделал… Немцы сообщали, что бандит по имени «русский Савелий» взорвал кинотеатр в Бреннёсунне или поджег теплоход с немцами в порту, испортил несколько паровозов в депо Тронхейма. Оказывается, он всегда посылал потом по почте в немецкую комендатуру письмо: «Сделал это русский Савелий. Я еще доберусь и до тебя, свинья Требовен…»
– Требовен – это рейхскомиссар оккупированных областей Норвегии, – пояснил Эстенген. – Савелий-Семен всегда делал такую приписку… Зачем он вообще посылал эти письма немцам, я не знаю. Не надо было этого делать, наверное.
– Да, но он это делал…
– Как погиб… он? – задала Анна вопрос, который никто задавать не решался. Она в Норвегии ни разу ни у кого и ничего не спрашивала, задала только этот один-единственный вопрос.
– Это случилось в начале марта сорок пятого на том месте, где стоит ему памятник. Мы возвращались из Бреннёсунна и попали в засаду. В город мы ходили за батареями для своего приемника и за продуктами. Была ночь, мела пурга, нас было четверо. Немцы нас окружили неожиданно. Мы отстреливались, пока были патроны. Во время перестрелки двое наших товарищей были убиты, остались мы с ним только. И патронов нет… Одна граната лишь осталась у Савелия. Противотанковая. Он взял ее у бреннёсуннских подпольщиков для какой-то своей новой диверсии… И он мне сказал: «Я сейчас отвлеку их, а ты, Харальд, прикинься пока убитым, а потом иди к товарищам в отряд. Отомстите потом за меня…» Я не понял, как он собирается их отвлечь. А он закричал: «Schießen Sei nicht! Ich bin Russe, ich heiße Sawjeli. Ich ergebe mich».[30]30
Не стреляйте! Я – русский Савелий. Я сдаюсь.
[Закрыть] Эти слова произвели магическое действие, немцы стрелять перестали. А Савелий повторил: «Ich bin allein. Ich ergebe mich».[31]31
Я остался один. Я сдаюсь.
[Закрыть] Он встал, поднял руки, пошел сквозь пургу. Я до сих пор вижу, как он идет с поднятыми руками, а вокруг него крутятся тучи снега… Он шел будто окутанный дымом, на спине у него был парусиновый мешок…
– И что же… дальше? – с трудом выговорил Андрей.
– А дальше… когда немцы окружили его… раздался чудовищный взрыв.
Едва он это произнес, послышался стон Наташи, короткий и мучительный. Он затих, и в квартире Кнютсена установилась долгая тишина.
– Так это было… В начале марта, во время сильной пурги, – нарушил Кнютсен наконец безмолвие. – Взрыв был настолько сильным, что я думаю… у Савелия была еще какая-то взрывчатка в мешке. Пламя чуть до меня не достало… Что же мне было делать? Я воспользовался тем взрывом, отполз в темноте за камень, а потом побежал сквозь ветер и снег. Немцев там в живых почти не осталось, они не видели, как я уполз и побежал… Вот так произошло это. Пурга дула еще дня три или четыре. Немцы хоронить своих погибших солдат не стали, да и мы своих не смогли – все замело снегом. Мы похоронили их уже весной, когда трупы вытаяли. Это уже в конце апреля было. В Бреннёсунне еще тогда немцы были, но война шла к концу, немцы собирались из Норвегии уходить, родственники тех двух наших погибших товарищей привезли их в город в открытую, похоронили на городском кладбище, фашисты этому воспрепятствовать не осмелились. А Савелия мы похоронили именно там, где он погиб.
– Что же… от него осталось? – опять спросил Андрей.
– Да почти ничего, – неопределенно проговорил Кнютсен. Помолчал, вздохнул и еще раз промолвил, будто уточняя: – Совсем почти ничего… А через год поставили на могиле тот скромный каменный памятник…
* * *
На другое утро Анна, поглядев в узкое окошко отеля на матово-синий залив, на поднимающиеся с водной поверхности лоскутья тумана, на черные и как будто мокрые каменистые кручи, уходящие далеко в море, проговорила, обращаясь почему-то к Дмитрию:
– Поедем отсюда, сынок. Мне здесь тяжело.
Из Тронхейма до Осло снова ехали в скрипучем и тесном вагончике, в Осло пересели на теплоход. Теплоход был советский; ступив на палубу, Анна обессиленно вздохнула и посветлела лицом:
– Вот уже будто и дома…
Когда подплывали к Ленинграду, она неожиданно спросила у Дмитрия:
– Ты стихи хотел, сынок, какие-то написать?
– Я их написал, мама, – ответил Дмитрий.
– Ну, почитай.
Они все вчетвером стояли на палубе, теплоход шел по Финскому заливу, уже замедляя ход, впереди виднелись очертания города, медленно поднимавшегося, казалось, прямо из воды.
– Стихотворение называется «Чувство Родины», – сказал Дмитрий, глянув на Андрея.
– Это те, конкретные? – спросил тот.
– Те самые, – подтвердил Дмитрий и негромко начал читать:
Родина, суровая и милая,
Помнит все жестокие бои…
Вырастают рощи над могилами,
Славят жизнь по рощам соловьи..
Что грозы железная мелодия,
Радость или горькая нужда?!
Все проходит.
Остается Родина —
То, что не изменит никогда.
С ней живут,
Любя, страдая, радуясь,
Падая и поднимаясь ввысь.
Над грозою торжествует радуга,
А над смертью
Торжествует жизнь.
Медленно история листается,
Летописный тяжелеет слог.
Все стареет.
Родина не старится,
Не пускает старость на порог.
Мы прошли столетия с Россиею
От сохи до звездного крыла.
А взгляни —
Все то же небо синее
И за Волгой так же даль светла.
Те же травы к солнцу поднимаются,
Так же розов неотцветший сад,
Так же любят, и с любовью маются,
И страдают, как века назад.
И еще не мало будет пройдено,
Коль зовут в грядущее пути.
Но светлей и чище чувства Родины
Людям никогда не обрести.
Медленно
История листается…
Все пройдет,
А Родина останется.
Он читал негромко, не спеша и почти без всякого выражения, делая иногда еле заметные акценты лишь на отдельных словах. Но именно такая манера чтения подчеркивала огромный глубинный смысл стихотворения, взволнованность самого Дмитрия. У Наташи заблестели глаза. Андрей думал о чем-то, опустив голову. А потом поднял ее, произнес почти шепотом:
– Молодец ты у нас, Димка.
Анна, глядя на приближающийся город, лишь кивнула, то ли соглашаясь со словами младшего сына, то ли одобряя новое стихотворение сына среднего.
* * *
Конец июня и начало июля в маленьком домишке Анны Савельевой было тесно и весело от голосов. Тут жили Андрей с женой, Димка, Наташа с дочерью Леной, которая закончила второй курс Новосибирского педагогического института и приехала на каникулы. Женщины спали в доме, Андрей с Дмитрием – в старом прохладном сарае, стоящем в огороде. Днем все уходили на Громотуху купаться или ловить рыбу, лазали на Звенигору, добывая в ее ущельях огромные охапки горных цветов.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































