Текст книги "Твоя Антарктида"
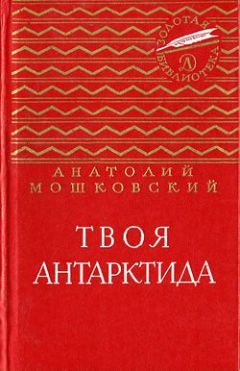
Автор книги: Анатолий Мошковский
Жанр: Советская литература, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
Катыш
В солнечный день Катыш лежит, свернувшись возле чума, и дремлет; в дождь и сильный ветер его место под грузовыми нартами, а в холодные зимние ночи он вползает в чум, подбирается к железной печке, и его никто оттуда не выгоняет. Обедая, бригадир бросает ему жилистые куски мяса и кости с высосанным мозгом, а убив оленя, дает Катышу кишки и, если другие собаки, что помоложе, пытаются утащить его еду, гортанно кричит на них, хлещет тынзеем, и собаки отбегают.
Катыш поест, оближет передние лапы, зевнет и опять спокойно уляжется на траву перед чумом.
Он стар. Ему уже за пятнадцать лет. Человек в таком возрасте считается подростком и не очень-то разбирается в жизни, а для собаки это преклонный возраст, и далеко не каждая доживает до таких лет. Вот почему у Катыша седые усы, щеки дряблые, отвисли, глаза постоянно слезятся и смотрят печально и тускло. И когда, лежа возле чума, он видит, как молодые оленегонные лайки по приказу пастуха с заливистым, ошалело радостным лаем подгоняют к чуму стадо, Катыш не может улежать. Он вскакивает и тявкает на приближающихся оленей. Но это стариковское, хриплое тявканье не доносится до них. Катыш порывается броситься на помощь молодым лайкам, но в ногах – слабость, ломота: они плохо подпирают его. Да и трудно ему подолгу высоко держать голову.
Он тяжело опускается, и только желтый хвост его нетерпеливо бьет по земле: до чего ж бестолковые эти псы! Лая много – дела мало: надо сбить оленей в плотное стадо, а они раскололи его на несколько кучек и беспорядочно гоняют. «Ох, и не вовремя постарел ты, Катыш!» – думает он. Так и хочется куснуть за загривок одного-другого несмышленыша.
Он щелкает зубами, взвизгивает и тоненько воет. Наконец он устает от своих раздумий, медленно опускает на лапы голову и грустно смотрит на тундру, где когда-то родился, беспомощный и слепой, где вперевалку, неуклюже ходил на кривых лапах. Потом у него прорезались глаза, и он играл на травке у чума с другими щенками, кусался, повизгивал, боролся, прыгал. Когда чуть подрос и окреп, его стали пускать в стадо, но он был глуп I непонятлив. Почуяв простор, носился он по тундре, гонял и хватал зубами задние ноги быков и ликовал от одного чувства, что олень, такой большой и сильный, закинув на спину рога, удирает от него, крошечного и безрогого. И однажды он загонял белоногую важенку: она в колдобине сломала ногу. Хозяин дико гаркнул на него и так исхлестал кожаным тынзеем, что на спине вспух багровый рубец, и Катыш тоненько скулил и два дня не мог уснуть. После этого случая его привязали за ремешок к старой, опытной лайке Жучке, и, когда та повторяла все приказы пастуха – собирала или гнала в нужную сторону стадо, – Катыш катился за ней и помаленьку набирался ума-разума. Шли дни, недели, годы… Из маленького щенка Катыш превратился в крупную, сильную собаку с широкой, твердой грудью, мускулистыми лапами и острыми клыками. Летом, когда чумы стояли недалеко от моря, он слушал тяжелые, равномерные удары прибоя и смотрел на странную сине-зеленую, без единого деревца и кустика, тундру, которая при сильном ветре вся покрывается крутыми сопками, а при затишье становится гладкая, как столик, за которым хозяин пьет чай. Зимой чумы стояли в лесу, и Катыш бегал, утопая в снегу, от дерева к дереву, пригоняя далеко ушедших оленей, и среди деревьев было тепло и тихо. А потом волки… При одном воспоминании о волках дыбом встает на загривке шерсть. Он кидался на них грудью, норовя клыками поймать горло. И немало на старом, сухощавом теле Катыша глубоких, затянувшихся ран, заросших рубцов, и, если хорошенько погладить его по шерсти, пальцы нащупали бы эти бугорки, ямки и рубцы. Но хозяин его – человек строгий, неразговорчивый и редко гладит собаку.
Катыш лежит у чума, смотрит в тундру, и в его желтоватых, выгоревших и помутневших глазах светится спокойная, устоявшаяся мудрость. Вот хозяин, сидевший рядом с ним, ножом разбил оленью кость. Темно-розовая палочка мозга задрожала в его ладони. Он поднес ее ко рту, но, заметив Катыша, бросил ему вместе с костью.
– Кушай, старик, кушай. Ты у нас на пенсии сейчас, можно сказать. Кушай.
И Катыш послушно глотает мозг, потом с достоинством берет кость, ложится и начинает медленно грызть ее.
1959
Граница
Всю жизнь я прожил среди русских люден и только здесь, в далеком ненецком стойбище Малоземельной тундры, почувствовал, что значит жить среди людей другого языка.
Я вставал, мылся из рукомойника, усаживался за низкий столик завтракать, вокруг меня звучала нерусская речь, и я ничего не понимал в ней. Она звенела возле самого моего уха, то воркующе веселая, то гортанно резкая, сердитая, то спокойно-плавная. Но для меня она ничего не значила. Ее понимал годовалый мальчишка, едва державшийся на кривых ножках, и полуглухая древняя старуха, тоже едва стоявшая на ногах; даже собаки и те, кажется, понимали отрывистые окрики.
Я же был в глупейшем положении. Я сидел с ними за столиком, ел оленье мясо, пил чай и по лицам пытался догадаться, о чем они, черт побери, говорят…
Они говорили быстро, энергично, иногда подкрепляя сказанное резким взмахом руки, иногда захлебываясь от смеха, иногда темнея от злобы.
Лишь я один не мог разделить ни их радости, ни их горестей. Я сидел, равнодушный ко всему, и занимался самым презренным делом: ел да пил. Что я мог еще делать? Правда, когда все за столиком безудержно хохотали, трудно было сохранить спокойствие на лице. Но все мои улыбки или даже смешки скорее говорили о желании войти в их жизнь, чем о поддержке или осуждении того, что обсуждалось в чуме.
– Чего это вы так смеетесь? – спрашивал я иногда у бригадира Ардеева.
И он объяснял мне по-русски, что пастух соседней бригады, Панкрат, нечаянно заснул ночью; олени, испугавшись выскочившего из-под куста зайца, рванули н опрокинули его вместе с нартами в яму с водой, и он, сонный, нахлебался болотной грязи, едва вылез оттуда и добрался до стойбища. Рассказывал пастух очень смешно. Все ненцы давно уже вытерли глаза, смеялся я один, и этот запоздалый смех тоже, верно, казался не очень уместным.
Я часто спрашивал у ненцев, о чем они говорят, но постоянно приставать к ним с расспросами было неловко, и я терпеливо ждал, когда ненцы сами найдут нужным рассказать мне о том или ином случае.
Когда я был один со своим хозяином, он без умолку сыпал по-русски, но стоило среди нас появиться хоть одному ненцу, как они заговаривали по-своему, и мне не оставалось ничего другого, как гадать по их лицам и отдельным понятным словам, о чем они говорят. Если в их речи повторялись слова «тынзей», «важенка», «пелей», – значит, говорили они об оленьих, пастушеских делах; если в их речи встречалось слово «универмаг», – верно, говорили об универмаге в Нарьян-Маре, где можно купить сукно для узоров на паницы и меховую обувь, рубахи и белье.
И все же я чувствовал себя иностранцем в этом стойбище. Невидимая граница пролегла между мной и этими людьми – людьми другого языка, и я не знал, как ее стереть, переступить, как очутиться с ними в одном мире.
Вначале я даже обижался: ну что им стоит говорить при мне по-русски? Ведь это, в конце концов, невежливо – изъясняться так, что один из присутствующих ничего не понимает. Но скоро я понял, что обижаться не на что. Ведь они ненцы: когда они говорят на своем языке, им не нужно напрягаться, подыскивать нужное словечко. Зачем же им мучить себя? Обо всем, что касается меня, они охотно говорят по-русски…
И все же я чувствовал себя довольно скверно. Между ними и мной пролегла граница. И вскоре мне это надоело. Я решил стереть ее.
В свободное время я подсаживался к ним и рассказывал о самом интересном, что довелось видеть: о Падун-ском пороге на Ангаре, где строят крупнейшую в мире ГЭС, о рыболовецких тральщиках Баренцева моря, о горняках Кировска и матросах подводных лодок.
Слушали ненцы внимательно, ахали и охали, покачивали головой и хохотали. И говорили при мне только по-русски. Но скоро речь с горняков и подводных лодок сползала на тундру, на олений мох – ягель и рыбную ловлю в озерах, и постепенно в их языке все меньше становилось русских слов, и кончалось тем, что я тупо смотрел на их губы, на блеск разгоряченных глаз и решительно ничего не понимал.
Я хлопал дверью и выходил из чума, собирал на пригорке голубику, клал в рот упругие сочные ягоды и думал, как стереть эту ненавистную, разобщающую нас границу. «Наверно, я все-таки не очень внимателен к ним, – подумал я. – Они люди дела, и никакими россказнями не завоюешь их расположения и доверия…»
С этого часа я повел себя по-другому. Сознаюсь честно, я просто решил понравиться хозяевам чума, в котором жил. Я с подчеркнутым вниманием смотрел им в глаза, часами возился с их ребятишками, по вечерам, при свете керосиновой лампы, читал вслух прихваченные с собой рассказы Чехова, а когда в подвешенной к шестам люльке начинал орать младенец, долго раскачивал ее, строил рожицы, щелкал пальцами, издавал нечленораздельные, фантастические звуки.
На младенца это чаще всего действовало, хозяйка смотрела на меня благодарными глазами и, как я это чувствовал, во время обеда говорила обо мне мужу. Ардеев поглядывал на меня своими лукавейшими раскосыми глазками, улыбался, и слабая надежда перешагнуть разделяющую нас границу потихоньку разгоралась во мне.
Я лез из кожи вон. Мне самому уже претила собственная доброта. Ненцы все чаще и чаще подходили ко мне и расспрашивали о Москве, о Выставке народного хозяйства и ягельных пастбищах в Кольской тундре. Но вот наступало чаепитие, и опять меня окружали за столом незнакомые слова, непонятные улыбки. Я сидел с постным лицом и все на свете проклинал.
«К черту все это! – решил я и ушел из чума. – Не хотят, чтоб я понимал их, – и не надо. Может, так им выгодней: подтрунивают надо мной, а я и не знаю; скрывают от меня незавидные дела в бригаде, боясь, что я напишу об этом». Я сидел на нартах и думал, что делать, как вести себя дальше.
В это время мужчины вышли из чума и поехали в стадо. Вскоре внутри раздался детский плач. Может, хозяйки нет в чуме, а ребенок вывалился из люльки? Я просунул в дверь голову. Хозяйка вынула из люльки дочку и, баюкая ее на руках, что-то напевала. У печки стояли два пустых ведра.
– Капризничает все? – спросил я.
– Купать пора, – ответила мать. – Сама понимает, что купать пора.
Я взял ведра и пошел к озеру.
– Зачем принес? – сердитым вопросом встретила меня хозяйка. – Сама справлюсь.
Я хорошо знал, что она со всем справляется сама, но ценой чего? С пяти утра до одиннадцати ночи снует она по чуму, готовит еду, кормит взрослых и детей, вытряхивает шкуры, моет грязные латы, шьет из оленьих шкур одежду и обувь, рубит и носит хворост для печки и воду.
Хозяйка налила в большой котел воду, поставила его на огненный круг печки и подбросила в дверцу ворох мокрых сучьев. Дров в чуме оставалось мало.
– Где топор? – спросил я.
Она кивнула на ящик, стоявший у входа.
Я взял топор и пошел к зарослям карликовой ивы и березки; другого топлива в этих местах нет. Я нарубил большую охапку, перевязал куском старого тынзея и взвалил на спину. С трудом втащив вязанку в чум, я вывалил ее у печки и, зная, как быстро сгорают эти дрова, пошел за новой вязанкой. Я рубил топором тонкие деревца и кустики и думал: пора кончать игру, бродить возле них с блокнотом и записывать все! Хватит упрашивать их изъясняться со мной по-русски! Попробую на собственной шкуре почувствовать, что такое ненец, как ему работается и живется. А потом уеду. Попробую и уеду.
Когда я приволок новую кучу хвороста в чум, хозяйка накричала на меня:
– А жить где станем? Чума не хватит. На дворе оставляй.
Я оставил хворост «на дворе» и бросил мокрый топор в ящик.
К вечеру в чум вернулся Ардеев с пастухом. Пока на печке закипал чай, жена о чем-то по-ненецки говорила мужу. Я порядком устал, сушил у огня портянки, потому что кирзовые сапоги оказались никуда не годными и промокали даже от обильной тундровой росы на травах и кустарниках. Я устал, и мне не было никакого дела, о чем они там говорят. Пусть говорят о чем хотят, пусть смеются, ругаются, сходят с ума – какое мне дело? Ни слова больше не попрошу перевести.
– Иди пить чай, – сказала хозяйка.
– Сейчас…
Я досушил вторую портянку, по холодным латам на пятках подошел к столу и уселся на низенькую скамеечку – она, как и столик, была карликовая. Пастух что-то спросил у бригадира по-своему. Ардеев ответил ему по-русски:
– Хорошо. Я тоже заметил двух оленей с копыткой. Придется забить их.
Я втыкал вилку в куски мяса и молча ел.
Пастух опять что-то спросил по-ненецки, и бригадир снова ответил ему на языке моего народа, на языке той земли, откуда я приехал в их тундру. Я не верил своим ушам. Я не спешил верить им. Может, это случайно? Или вдруг что-то произошло?
В люльке сам с собой разговаривал ребенок, собака стучала когтями о латы, вилки скрежетали о дно миски, а посреди чума торжественно и решительно гудела печка, полная хвороста, печка, в которой, как скоро я понял, догорала последняя граница, разъединявшая нас.
1959
Третий пелей
Я жил в чуме бригадира Ардеева, и с каждым днем все ближе становились мне тундра и люди, веками кочующие по ней. Я многое видел своими глазами, но есть вещи, которые случаются редко, и, чтобы знать их, надо годами жить с ненцами. И все же я кое-что узнал, потому что мой хозяин оказался на редкость словоохотливым и доброжелательным человеком.
Он помнил тысячи случаев из своей жизни, сказок, обычаев; он весь прямо-таки был набит шутками и присловьями. И, честное слово, каждый его рассказ был для меня откровением. Жаль только, поговорить с ним удавалось редко: с утра до ночи ездил он по тундре – то выискивал пастбища, то инструктировал пастухов, то сам дежурил в стаде. В чуме я почти не видел его.
Вот почему все наши разговоры проходили в открытой тундре, на бегущих нартах. Он сидел у передка, спиной ко мне, держа в одной руке вожжу, в другой – хорей; я усаживался сзади, с правой стороны нарт, стараясь не мешать ему, и голос его не умолкал.
Временами свой рассказ он прерывал гортанным, подстегивающим оленей возгласом «Охэй!», иногда, если мы подъезжали к глубокому болоту, он соскакивал с нарт, бежал вперед, измерял хореем глубину, сожалеюще цокал языком, и мы по скату сопки далеко объезжали болото. Он продолжал рассказ точно с прерванного места. Нас поливал дождик, сек по лицу крупный осенний град, я болезненно ежился, а он как ни в чем не бывало говорил и говорил… Он был неистощим, и запаса его энергии и жизнелюбия хватило бы на десяток людей.
Стараясь особенно не надоедать ему, я все же не терял случая попасть на его нарты.
Вот и сегодня мы ехали с ним в стадо, и навстречу нам мчались карликовые березки, холмики, болотца… Ардеев говорил и одновременно хлестал вожжой по боку передового, иногда устрашающе кричал и тыкал хореем в крупы остальных пелеев, посылая их через высокие заросли осоки и камыша.
Он удивительно хорошо правил упряжкой, выбирал единственно верный путь, потому что в тундре нет дорог и всякий раз приходится выбирать ее на ходу. Ардеев отлично помнил каждый кустик, бугорок и ручей в тундре. Если для меня все они были, в общем, одинаковы, то для него каждое озерцо и сопка имели свое лицо, свою душу. До войны он окончил совпартшколу в Нарьян-Маре, был начитан, когда-то работал председателем оленеводческого колхоза. Но его любовью, его жизнью была тундра, ее просторы. Полвека прожил он здесь, более пятнадцати тысяч дней, а каждый день что-нибудь да случается, и о каждом подчас можно говорить двое суток.
Бывало, мне казалось: все рассказал Ардеев, исчерпался. Но нет. Наступал новый день, новая поездка, и он заводил речь о чем-то новом, неслыханном. В нем жила мудрость его народа, малого по числу, но великого по упорству и трудолюбию, – мудрость, переданная ему отцом, дедом, прадедом… Может, мудрость десяти поколений спрессовалась и отстоялась в нем, смешливом и коренастом ненце с веселым нравом и крепкой душой…
Внезапно он замолк. Отчего – понять я не могу. Оттого ли, что устал говорить, оттого ли, что просто захотел помолчать, подумать о чем-то другом. А может, потому, что я не задаю вопросов, и он решил, что слушать его мне неинтересно.
Он замолк, и теперь все его внимание было поглощено оленями. Под их ногами звучно чмокала топь, потом глухо застучала тандара – место бывшего стойбища. Когда олени пытались на бегу ухватить свежие листки березок, он покрикивал на них и безжалостно гнал вперед: пастись так пастись, а ехать так ехать! Иногда перед крутым подъемом Ардеев спрыгивал с нарт, приободрял быков криками, хлопал ладонью по теплым спинам и что-то говорил по-ненецки.
– Что вы говорите им, Андрей Петрович? Бригадир усмехнулся:
– Что говорю? «Ничего, олешки, говорю, потерпите, скоро в стадо приедем. Отработали вы на сегодня свое. Будете траву кушать. Перегоню стадо на хорошее место. А для работы других быков возьмем».
Ненцы любят оленей с северной сдержанностью. Они знают их повадки и прихоти до мельчайших мелочей. До сих пор остается для меня загадкой, как Ардеев может быстро отыскать в стаде одного-единственного нужного ему черного оленя, хотя там сотни других, точно таких же, как он.
Я люблю оленей. Да их и трудно не любить. Удивительно ладно скроены они: гордо поставлены рога, ноги стройные и крепкие, а морда невероятно симпатичная. В каждом их движении, в каждом повороте головы – изящество и благородство.
Олень неприхотлив и по-северному скромен. Он никогда не напомнит о себе и редко издает какие-нибудь звуки. Шесть дней может он стоять без корма и не погибнет. Двести километров может пробежать он, тяжело дыша и вывалив изо рта язык, и с ним, как говорят, ничего не случится.
Однажды мы, перекочевывая на другое место, ломали чумы, и нам пришлось самим метров на пятнадцать перетащить по сухой земле нагруженные нарты. Мы, три мужика, с трудом проволокли их, и я, едва дыша, спросил: «А оленям-то каково? Сотни километров тащат…» Ардеев ответил: «Сказать олень не умеет, каково ему. А умел бы – сказал бы…»
Так мы ехали в стадо, молчали, и перед нами, широко раскидывая задние ноги, бежала пятерка оленей. Они то скакали галопом, то переходили на мелкую рысь. Из-за туч показалось солнце и желтым светом залило тундру. Стало теплей.
Ардеев откинул с головы пыжиковый капюшон малицы, и ветерок гулял в его спутанных черных волосах. Он молчал; не вступал в разговор и я. Но все же, видно, бригадир не мог долго молчать: большую часть жизни провел в тундре, где и поговорить-то не с кем, и поэтому при малейшей возможности хотел наговориться на неделю вперед, на месяц, на год.
– Вот мы о разных людях толкуем, – начал он. – А возьмем оленя – он ведь тоже очень разный. Двух одинаковых не встретишь. Глянь на нашего передового – умница, ученый олень. Хорошо чует вожжу. Только и ждет приказа. Куда дерну, туда и потянет и четырех пелеев за собой поведет, и они будут послушно держаться в ногу ему. Потому и зовется – передовой. Он, видишь, не привязан к нартам, как остальные, а только к первому пелею. Тянет меньше других. Его дело – быстро соображать и пастуха слушаться. Своим оленьим чутьем чует он, глубока ли речушка, можно ли ее перейти вброд. Помнит он, где чум стоит, за двадцать километров унюхает стадо. Едешь, бывало, ищешь в тумане оленей, а он вскинет голову, хватанет ноздрей ветерок и гонит прямо к стаду. Редко когда ошибется. И четыре других верят ему: вроде командира он у них…
А вон видишь – справа от него бежит первый пелей, черный, с обломанным пальцем рога. Добрый бык! Исправно работает в упряжке, добросовестно. Всегда следит за передовым, не отстает ни на шаг; куда тот, туда и он тянет остальных за собой. Даю отдых – он отдыхает, хватает ягель или зеленый лист, а как махну хореем – сразу вскачь. Отличный пелей, что и говорить. Все бы такими были. Недаром стоит первым.
А вон второй, что бежит рядом с ним. Это великий хитрец. Редко бывает натянута его постромка: все норовит за счет товарищей выехать, тащить не любит, а пожрать – перво-наперво. Лодырь из лодырей. Не жалею на него хорея, да и он привык к нему: лучше получить удар, чем тащить, выбиваясь из сил. Ох, сволочуга!
А теперь четвертый… ну, вон тот, самый крайний. Сильный, да норовистый больно, все прыгает, играет, шалит. То на дыбы вскочит, то соседа рогом боднет, то бегущую рядом собаку лягнет. Забавляться бы ему, а не работать. Этому тоже от меня достается…
– А почему вы о третьем пелее ничего не сказали? – спросил я, кивая на черного, самого худого быка, который тащил нас, изо всех сил отталкиваясь ногами от топкой земли. Его розоватый язык торчал наружу, изо рта густо струился пар.
– А ты заметил, что я пропустил его? И правильно сделал. О третьем пелее нарочно не сказал ни слова. Особая речь о нем. Редкий это олень. Если б все такие были – как самолет, летели бы нарты по тундре.
– Почему? – удивился я. – Разве он такой сильный?
– Не сильный. Дурной он. Не жалеет он себя, этот олень. Не считается ни с чем. Ни со своими силами, ни с погодой, ни с местом, по которому его гонят. Тянет и тянет. Нет-нет, не подумай, что он глупый какой-нибудь или там верный служака… Нет. Он просто слишком доверчив и серьезен, чтоб обманывать. И слишком знает себе цену, чтоб дешевить. Ему кажется, что товарищам трудней, чем ему, что он тянет в треть силы. Вот и старается работать так, чтоб больше ему этого не казалось.
Он тянет за добрых троих своих товарищей, и те волей-неволей пользуются этим. Смотри, как он исхудал! Он тащит, пока есть силы, пока держится на ногах. Такие долго не живут.
– А случается, что олени погибают в упряжке?
– Бывает… Этот не первый у меня. Ехал, помню, лет пять назад. Был в упряжке такой же. Часов семь нес без передышки. Потом гляжу – упал. Думаю, запутался в упряжке; кричу – ни с места. Трогаю хореем – лежит. Тогда я подошел к нему, схватил за уздечку, а он мертв. Сердце, поди, разорвалось, не выдержало. Р-раз – и готово! Пропал.
Ардеев замолк. Не было желания говорить и у меня.
Вокруг без начала и конца простиралась тундра. Было очень тихо, и в этой тишине особенно отчетливо раздавался стук оленьих копыт: мягкий – о зыбкую, болотистую землю, тупой – о твердую почву сопок и едва слышный – о прибрежные пески речушек и ручьев. Разные мысли приходили в голову. Их было много, и они не походили одна на другую. Потом мы сделали остановку. Ардеев отошел в сторонку за кустики, а я слез с нарт и, неуверенно ступая замлевшими от долгого сидения ногами, медленно подошел к оленям. Они с жадностью хватали кустики яры, низкую травку, сухой сизоватый ягель и стаскивали нарты с места. Менее охотно, как мне показалось, ел третий пелей – тот самый, о котором только что рассказывал бригадир. Он был горяч и худ. Я тронул его за теплую холку, и он посмотрел на меня огромными измученными глазами с белой каемкой белка. Глаза у него были темно-карие и странно, не по-звериному глубокие, преданно-печальные. Иногда их закрывали веки, и тогда мне казалось, что олень хочет чем-то поделиться со мной. В его глазах, выпуклых и блестящих, отражалось неяркое солнце, жидкая белизна первого снежка. В них я видел самого себя в длинной ненецкой малице, смешного и уменьшенного в десятки раз.
Я провел рукой по его теплой, в слипшихся волосках морде, и он не шарахнулся в сторону, не отвел морду.
– Эх ты, дурной! Дуралей… Не думай слишком плохо о всех нас, о тех, кого ты возишь. Ведь и мы, люди, если говорить честно, тоже немножко олени и такие же непохожие друг на друга, такие же разные…
1959
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































