Текст книги "Прах и пепел"
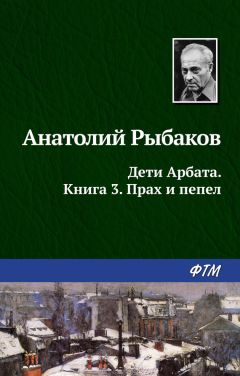
Автор книги: Анатолий Рыбаков
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 32 страниц)
11
Машины промчались по ночной Москве. С заднего сиденья Сталин смотрел в спины водителя и охранника, сжимал в кармане френча пистолет. Чуть отодвинул край занавески, но за окном ничего не было видно, Москва затемнена. На перекрестках мелькали чьи-то фигуры, наверное, милиционеры-регулировщики.
Отворились ворота, машина подъехала к дому, охранник открыл дверку. На даче, в караулке, во дворе – ни огонька. Темно, мрачно. Сталин быстро прошел к себе, зажег свет, на окнах висели синие шторы затемнения, но в комнате проветрено, есть чем дышать. Все же он приоткрыл форточку: хотелось больше воздуха.
Вошла Валечка справиться насчет ужина: что подавать? Увидела приоткрытую форточку, забеспокоилась:
– Комары на свет налетят, Иосиф Виссарионович, спать вам не дадут, покусают. Ужасть, сколько комаров в этом году.
Он нетерпеливо дернул плечом: болтает, болтает.
– Ужин потом, скажи Власику, пусть зайдет.
И опустился в кресло, закрыл глаза.
Неужели все потеряно? Великие люди кончали жизнь на гребне успеха, на вершине славы, потому они и бессмертны. Наполеон потерпел поражение после того, как покорил Европу, и остался в памяти человечества величайшим полководцем. Робеспьер, мелкий адвокат, якобинец, неудачливый террорист, погиб на гильотине. Неужели и ЕГО ждет такой бесславный конец?! «Соратники» свалят на него неудачи войны, оклевещут, опозорят, инсценируют народный гнев, спровоцируют толпу на расправу.
За спиной послышался шорох.
Он испуганно оглянулся. В дверях стоял Власик.
– Ты что… твою мать, крадешься, как мышь, – прошептал Сталин.
– Вызывали, товарищ Сталин? – растерянно пробормотал Власик.
– Никого не принимать, к телефону не звать! – приказал Сталин.
– Слушаюсь!
– Иди!
Сталин снова закрыл глаза, ему казалось, он дремал, потом пробуждался. Как, почему это произошло? Он создал государство незыблемое, на века, уничтожено все, что могло угрожать его существованию, его будущему, выжжено до основания, дотла, истреблена даже способность к инакомыслию. Выросли новые поколения, не знающие и не желающие знать никакой иной идеи, кроме привитой им с детства, поколения, для которых советское государство – самое лучшее, самое справедливое, идеальное, а все остальные – несправедливые и враждебные, они не желают знать никакого иного образа жизни, кроме советского. Неужели пять миллионов немецких солдат смогут покорить двести миллионов таких людей?! Неужели может рухнуть могучая империя, основанная на энтузиазме и беспрекословном подчинении, на страхе перед вождем и на беззаветной любви к нему? И все же Гитлер вонзается в страну, как нож в масло, за шесть дней дошел до Минска, двигается дальше, солдаты сдаются в плен, командиры бездействуют.
ОН услышал вдруг в коридоре грохот сапог… Идут?! Идут заговорщики! Арестуют его или придушат, как придушили Павла Первого.
Сталин вскочил с кресла.
Дверь открылась. В дверях стоял Власик, бросил ладонь к козырьку фуражки.
– Разрешите доложить?
Сталин испуганно смотрел на него. Кто там за его спиной?! Никого за спиной Власика не было.
– Ты что… твою мать, топаешь, как слон?!
– Разрешите доложить, товарищ Сталин. Звонит генерал армии товарищ Жуков.
– Сказал ведь: ни с кем не соединять!
– Слушаюсь, товарищ Сталин!
Власик по-солдатски повернулся, вышел.
Жуков звонил… Что ему нужно, Жукову? Хочет сообщить, что немцы взяли Смоленск, что немцы под Москвой?! Начальник Генерального штаба бездарный! ОН и его охрана будут биться до конца, а последний патрон для себя. Лучше, чем быть растерзанным толпой. Или, того хуже, оказаться у Берии, в его подвалах на Лубянке. «Соратники» могут договориться с Гитлером, отдать Украину, Белоруссию, Прибалтику, Кавказ с бакинской нефтью, лишь бы сберечь свою шкуру, а ЕГО сделают виновником поражения, костоломы будут мучить в лубянских подвалах, выбивая показания, что он предал Советский Союз. Берия переметнется мгновенно, старый провокатор!..
Он представил себя голым, истерзанным, на каменном полу. При одной мысли о пытках и мучениях его чуть не стошнило. Не посмотрят, что он, в сущности, старик, ему уже за шестьдесят. Кто это жаловался, что его, старика, били… Многие жаловались, писали, но именно эти слова запомнились… «Меня, старика, били…» Мейерхольд писал, режиссер, народный артист, расстрелянный в прошлом году.
Сталин встал, подошел к шкафу, выдвинул ящик, вынул папку, где хранились письма, которые он не отдавал в архив, иногда и перечитывал. Десятка полтора-два из того миллиона писем, которые писали ему осужденные на смерть.
Была здесь «мольба о прощении» Бухарина, написанная им за несколько часов до расстрела:
«В моей душе нет ни слова протеста. Я должен бы быть десять раз расстрелян за мои преступления. Я стою на коленях. Разрешите новому Бухарину жить. Этот жест пролетарского великодушия будет оправдан». Вот ведь как писал.
Ежов:
«Судьба моя очевидна, жизнь мне, конечно, не сохранят… Прошу одно – расстрелять меня спокойно, без мучений… Передайте Сталину, что умирать я буду с его именем на устах…»
Были здесь письма и других расстрелянных членов Политбюро. ОН хранил их для истории – пусть знают: казненные были виноваты, это они писали перед смертью, а перед смертью не лгут.
Письмо Мейерхольда было адресовано не ему, Молотову. Берия доложил, что такое письмо Молотову передано, он и спросил у Молотова:
– Тебе Мейерхольд писал?
– Писал.
– Что писал?
В ответ Молотов передал ему письмо. Оно попало в эту папку. Взял с делами на дачу, так здесь и осталось? Или слова «меня, старика, били» запомнились?..
Сталин вынул из папки письмо Мейерхольда, перечитал: «Меня здесь били, больного шестидесятилетнего старика, клали на пол лицом вниз, резиновыми жгутами били по пяткам, по спине, по ногам… И когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-сине-желтым кровоподтекам снова били этим жгутом, и боль была такая, что казалось, что на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток… Этой резиной меня били по лицу, размахами с высоты… Я кричал и плакал от боли… Лежа на полу лицом вниз, я обнаруживал способность извиваться, корчиться и визжать, как собака, которую плетью бьет хозяин…»
Сталина снова чуть не стошнило. Нет, этого он с собой делать не позволит, этого он не допустит. Пусть его здесь убьют немцы. Впрочем, почему немцы его убьют? Зачем немцам его убивать? Кого из руководителей покоренных стран они тронули? Никого. Ни королей, ни президентов, ни премьер-министров. Во Франции маршал Петен – глава правительства. Ну и что же? Сохранил хоть часть Франции. А уйдут немцы, Петен окажется спасителем страны.
Главное – сохранить жизнь, уцелеть. Не дадут, изменники, предатели! Будут спасать свою подлую жизнь.
Он позвонил. В коридоре послышались шаги. Нормально наконец идет, болван. В дверях появился Власик, замер.
– Немцы забрасывают к нам парашютистов, – хмуро проговорил Сталин.
Власик таращил глаза, напряженно слушал.
– Парашютистов, – повторил Сталин, – переодеты в нашу форму, выдают себя за сотрудников НКВД, хорошо говорят по-русски.
Он помолчал, посмотрел на Власика, тот по-прежнему пучил глаза.
Сталин снова заговорил:
– Диверсионную группу могут выбросить сюда, чтобы обезглавить партию и правительство. Надо усилить охрану.
– Слушаюсь, товарищ Сталин, сейчас вызову еще войска.
– Нет! Никуда не звони, никого не вызывай! У тебя достаточно охраны. Надо повысить бдительность. Чтобы никто не мог сюда проникнуть. Понятно?
– Понятно, товарищ Сталин, будет выполнено.
– Иди!
Он снова сел в кресло, снова задремал, снова разбудил шорох. Но то был знакомый шорох – Валечка принесла ужин. Он что-то пожевал, есть не хотелось.
Валечка посмотрела на почти нетронутую еду, укоризненно покачала головой, все унесла. Перед уходом хотела закрыть форточку, знала: Иосиф Виссарионович не любит спать при открытых форточках. Но Сталин велел не закрывать.
Он снова дремал в кресле, надо бы лечь, но он боялся раздеваться. Только сапоги снял.
Так и просидел ночь, то задремывал, то пробуждался. Мысли по-прежнему путались, возникали, забывались. Только одна была отчетлива: двести миллионов. Двести миллионов. Двести миллионов. Неужели такое можно преодолеть? Если встанут все до единого, кто может сквозь это пробиться? Мужчины, женщины, дети, миллионы, миллионы, миллионы. Море людей, готовых по ЕГО приказу идти на смерть, – кто их может покорить?
Утром его разбудил птичий гомон на веранде. Раньше спал при закрытых форточках, ничего не слышал. Он встал, подошел к веранде, раздвинул шторы. За деревьями вставало солнце, забыл, что такое рассвет, теперь вспомнил.
Все тихо. И вдруг захотелось спать. Снова задернул занавески, лег на диван, укрылся кителем, мгновенно уснул.
Проснулся, посмотрел на часы. Половина первого. В доме, за окном все та же гнетущая тишина. Валечка принесла завтрак. Опять почти ничего не ел, велел убрать, уселся в кресле. И снова страх овладел им. Он не знал, что делается в стране, не включал радио – зачем, ничего утешительного не услышит и всей правды тоже не услышит. И ничего не хотел слышать. И ни о чем не мог думать, каждая мысль доставляла боль и страдание. Только одно сверлило мозг – двести миллионов, двести миллионов! Сквозь такую громаду Гитлер не продерется. Но ЕГО предали, предали, предали…
Наступил вечер. В углах столовой стемнело, он опять задремал.
Очнулся, услышав вдруг шум в коридоре.
Идут!
Хотел вскочить, взять пистолет. Но не было сил подняться. Закрыл глаза. И когда открыл, увидел перед собой Молотова, Ворошилова, Маленкова, Берию, Микояна и Вознесенского… Казалось, заполнили собой всю комнату, обступили со всех сторон.
– Зачем… Зачем пришли?.. – выдохнул Сталин.
– Коба, – сказал Молотов, – надо действовать. Страну надо поставить на ноги, создать могучий центр – Государственный Комитет Обороны, отдать ему всю полноту власти, передать ему функции правительства, Верховного Совета, Центрального Комитета партии. Во главе Государственного Комитета Обороны должен стать ты, Коба, твое имя внушит народу веру, силу, обеспечит руководство военными действиями.
Сталин молча слушал. Сознание постепенно возвращалось к нему. Эти люди без НЕГО ничего не могут, боятся брать власть, не способны даже толком предать. Они по-прежнему покорны ЕМУ, и только ЕМУ, и народ покорен только ЕМУ. Смотрят на НЕГО, ждут ЕГО слова. Но сумел выдавить из себя только одно:
– Хорошо.
Теперь ОН смотрел на них. Да, они покорны ЕМУ, и народ покорен ЕМУ. Двести миллионов покорных ЕМУ людей. Вся дорога от Минска до Москвы будет выложена телами этих миллионов, немецкие танки не продерутся через горы трупов, немцы задохнутся в этом смраде, задохнутся в огне и дыму пожарищ. Париж был объявлен открытым городом, в России Гитлер не встретит открытых городов, все будет сожжено, разрушено и уничтожено – города, села, деревни, урожай на полях, заводы и фабрики, немцы не получат украинский хлеб и донецкий уголь, только кровь, кровь, кровь, Гитлер захлебнется в этой крови. Это будет кровь миллионов, десятков миллионов людей. Ничего, история простит это товарищу Сталину. Если же ОН проиграет войну, отдаст Россию во власть Гитлера, история не простит ЕМУ этого никогда.
Молчание прервал Берия:
– Я думаю, состав Государственного Комитета Обороны должен быть небольшим. Во главе товарищ Сталин, члены: Молотов, Ворошилов, Маленков, Берия.
– Хорошо, – опять проговорил Сталин и неуверенно добавил: – Может быть, включить Микояна и Вознесенского? – Натолкнулся на них взглядом.
Берия возразил:
– Кто же будет работать в Совнаркоме, в Госплане? Пусть товарищи Микоян и Вознесенский занимаются делами правительства.
Вознесенский сказал твердо:
– Я думаю, ГКО должен состоять из семи человек. Я думаю, названные товарищем Сталиным лица должны войти в состав ГКО.
Что стоит за этими разногласиями? Чего они не могут поделить? Хитроумный Микоян с досадой произнес:
– Мне кажется, мы теряем время. Считаю спор неуместным. Пусть в ГКО будет пять человек. И у меня, и у Вознесенского и без того достаточно обязанностей.
Они не едины, они по-прежнему разобщены. Это хорошо.
Сталин натянул сапоги, встал, прошелся по комнате, шел медленно, немного вразвалку – затекли ноги в кресле за сутки. Подошел к веранде, стоял, смотрел на цветущий летний сад. Не оборачиваясь, сказал:
– Ну что ж, это будет разумно, а там поглядим. Готовьте указ о создании Государственного Комитета Обороны. Какое завтра число? Первое июля. Завтра и опубликуйте.
Он по-прежнему смотрел на сад, на свой сад, на цветы, за которыми ухаживал, на лес, видневшийся за забором. Много садов будет теперь вытоптано, много лесов будет сожжено. Выжженную землю, сожженные города и села, кровь и горы трупов – вот что получит Гитлер. Теперь ОН знал, что ОН должен сказать народу.
– После образования ГКО народ будет ждать выступления его председателя, – услышал он за спиной голос Молотова.
– Я выступлю по радио третьего июля, – ответил Сталин.
* * *
И все же Сталин волновался, садился голос, пил воду, и во всех репродукторах и радиоточках страны был слышен дребезжащий стук стакана о стекло графина. Впервые в жизни он произнес слова: «…Братья и сестры… К вам обращаюсь я, друзья мои…»
Конечно, он говорил неправду, будто причина неудач – внезапность нападения, будто лучшие дивизии врага разгромлены. Но главное было не это. Главным было объявление войны на истребление, войны на уничтожение…
«Наша страна вступила в смертельную схватку… Мы должны беспощадно бороться со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов… Не оставлять противнику ни одного килограмма хлеба… Ни одного литра горючего… Угонять весь скот… Все, что не может быть вывезено, должно, безусловно, уничтожаться… Создавать партизанские отряды, диверсионные группы для взрыва мостов, дорог, почт, телефонных и телеграфных проводов, поджога лесов, складов, обозов… Создавать невыносимые условия для врага, преследовать и уничтожать их на каждом шагу… Вперед за нашу победу…»
Если ЕМУ суждено погибнуть, ОН погибнет не один. С НИМ погибнет весь народ. До единого человека.
12
Война застала Сашу в Пронске – маленьком городке на юге Рязанской области. Работал шофером в геодезической экспедиции на строительстве новой шоссейной дороги. В воскресенье с утра жители городка высыпали на центральную площадь к репродуктору. Не у всех было радио, а у кого было, те надеялись здесь, на площади, принародно, узнать больше того, что услышат, сидя дома. Речь Молотова выслушали молча и разошлись молча. В тот же день в магазинах скупили всю соль, спички и мыло.
А на следующий день по главной улице Пронска маршировали призывники – парни, молодые мужчины, местные и из окрестных сел и деревень, в гражданской одежде, с узелками или заплечными мешками, рядом с колонной шли матери, невесты, жены, выглядывали своих, окликали, переговаривались.
Саша ездил по трассе на своей полуторке «ГАЗ-АА», собирал работников экспедиции с их материалами и инструментами. В деревнях стояли стон и вой – провожали ребят на войну. Местные власти пытались придать мобилизации «культурный вид» – с митингами, речами, но деревня провожала их по-старинному, по-русски – с плачем, песнями, плясками, водкой, обильной закуской. В общем, «последний нонешний денечек»…
С очередной партией изыскателей Саша возвращался в Пронск, помогал упаковывать хозяйство экспедиции.
В комнате весь день не умолкало радио. К сводкам с фронта относились недоверчиво. «Ожесточенные бои на Брестском направлении» означало, что Брест в руках врага. «Противнику удалось потеснить наши части» – значит наши отступают, или окружены, или уничтожены. «За сутки взято в плен пять тысяч германских солдат и офицеров» – где же такое могло произойти, если бои идут уже в районе Минска?! Это не наши берут в плен германцев, а германцы берут в плен наших.
В Рязани ввели светомаскировку, повесили на окна синие бумажные шторы, заклеили стекла, во дворах рыли щели, по улицам колоннами шагали призывники. Как и в Пронске, рядом шли матери, жены, сестры, в военкомате, отделениях милиции, школах занимались строевой подготовкой добровольцы. Саша позвонил маме, предупредил, что его скоро мобилизуют в армию. Мама говорила спокойно, понимала, что с войной начинается для Саши новая жизнь, то особенное, что сопровождало его, осталось в прошлом.
Зашел Саша к Евгению Юрьевичу, единственному человеку в Рязани, с кем поддерживал дружеские отношения. Был он ему приятен, напоминал своего брата Михаила Юрьевича, Сашиного арбатского соседа, такой же мягкий, интеллигентный, и похож на него: пенсне, редкие русые волосы, тот же тихий смешок, добрая улыбка. Любил музыку, сидел вечерами у большого радиоприемника, теперь приемник пришлось сдать, обходится, как и все, радиоточкой.
– Что, Саша, – говорил Евгений Юрьевич, – будем воевать?! Я попытался записаться в народное ополчение, не берут. – Он показал на пенсне. – Щели роем и на службе, и дома. Как думаете, помогут эти щели при бомбежке?
– Наверное, помогут.
– Меня поражает и утешает сплоченность народа. Столько несправедливо пострадавших, а перед лицом опасности забыли свои обиды. Газеты пишут, что немцы забрасывают в наш тыл шпионов, диверсантов, это, безусловно, так, но измены в России не будет. Ни в одной войне среди русских не было изменников.
– А если Гитлер распустит колхозы, освободит крестьян?
– Если Гитлер разрушит колхозы, он не получит хлеба. Пока будут делить землю, пока будут устраиваться, пройдет время. А Гитлеру хлеб нужен сейчас.
– Он может пообещать им землю.
– Милый Саша, если бы Ленин в семнадцатом году только обещал землю, обещал мир, он и неделю бы не удержался у власти. Он дал все это в один день, одним декретом и потому выиграл. Обещаниям никто не верит. Нет, Саша, русский человек не потерпит захватчиков. Я думаю, наши руководители оценят это, будут больше доверять людям. Я, Саша, надеюсь, что после войны наступят новые, лучшие времена.
Саша слушал. Таково сейчас общее умонастроение: патриотическое, воинственное. И для него самого все отступает перед главным – надо защищать страну.
– Жду повестку из военкомата, – сказал Саша, – можно, я оставлю у вас кое-какие вещи, они не займут много места? Один чемодан и связка книг.
– О чем вы спрашиваете?! Ради Бога! Вернетесь, заберете. Только смотрите, возвращайтесь с победой!
– Постараюсь, – улыбнулся Саша.
Через неделю Саша получил предписание явиться в военкомат с паспортом и военным билетом.
Усталый, задерганный лейтенант забрал у Саши паспорт, положил в ящик, перелистал Сашин военный билет, разыскал его учетную карточку.
– Ваша гражданская специальность – шофер?
– Шофер.
– Водительские права есть?
Саша протянул ему права.
Лейтенант взглянул на них, даже в руки не взял, заполнил бланк повестки, вручил Саше:
– Предъявите на работе, получите расчет и все, что положено, а завтра… Завод «Сельмаш» знаете?
– Знаю.
– Туда и явитесь к восьми утра.
На заводе «Сельмаш» формировался автомобильный батальон. Начальник штаба раскрыл Сашины права, уважительно качнул головой:
– Водительский стаж одиннадцать лет. А образование?
В кармане у Саши лежало полученное в Москве свидетельство об окончании института с пометкой: диплом не защитил ввиду ареста. И Саша ответил:
– Незаконченное высшее.
– Где учились?
– В транспортном институте.
– Пройдемте к командиру батальона.
Командир батальона капитан Юлдашев, невысокий худенький татарин, прищурился, разглядывая Сашу:
– Почему институт не закончили?
– По семейным обстоятельствам.
– С какого курса ушли?
– С четвертого.
– Принимаем машины, требуются специалисты, грамотные люди. Поступите временно в распоряжение помощника по технической части, воентехника первого ранга Коробкова.
Саша сходил в баню, пропустил свою одежду через дезкамеру, на вещевом складе получил комбинезон, обмундирование еще не прибыло, выдали талоны на питание здесь же, в заводской столовой. Общежитие – большой пустой цех или склад, уставленный койками с голыми досками без матрасов, подушек, постельного белья.
– Выбирай любую, – сказал дневальный, – кто машину получил, спит в кабине, а тут свободно. Какие вещички есть, сдай в каптерку, целее будут.
Машины принимали во дворе.
Коробков, толстогубый неуклюжий парень в сапогах и комбинезоне, под которым виднелась гимнастерка с медными пуговицами и кубарями в петлицах, узнав, что Саша учился в Московском транспортном институте, расплылся в улыбке:
– Слушай, а ведь мы с тобой однокашники!
Не хватало ему здесь однокашника! Впрочем, он чего-то не помнит такого Коробкова. Да и какое это имеет значение. Прошлая жизнь кончилась, началась новая.
– Наш факультет преобразовали в МАДИ – Московский автодорожный институт – и перевели на Ленинградский проспект, – продолжал Коробков. – Верчусь тут один, комбат у нас – бывший кавалерист, так что вся техника, как понимаешь, на мне. Вот только механик один помогает, опытный.
Он окликнул стоящего у машин пожилого человека в потертом пиджаке:
– Василий Акимович!
Тот, вытирая руки обтирочными концами, подошел.
– Познакомьтесь, красноармеец Панкратов, будет машины принимать.
– Принимай!
Василий Акимович скользнул по Саше безразличным взглядом и вернулся к машинам.
– Давай-ка не терять времени. – Минуя очередь ожидающих приемки машин, Коробков подошел к двум блестевшим свежей краской полуторкам. – Вот с этих и начинай…
Возле машин стоял мордастый парень в гимнастерке без петличек, перетянутый командирским ремнем, в щеголеватых хромовых сапогах, в такой форме ходят нынче ответственные работники, однако на боку брезентовая сумка, ремешок от нее перекинут через плечо вроде портупеи. По этой сумке Саша определил: снабженец.
– Ну что, Горторг, – кивнул ему Коробков, – нашел краску?
– Все сделано, как приказано, товарищ воентехник первого ранга, – молодцевато отрапортовал снабженец.
– Я эти машины смотрел позавчера, – пояснил Коробков, – приличные машины, но вид был безобразный, я велел покрасить, отговаривались – краски нет. А вот достали. Достали, Горторг?
– Родина требует, страна должна дать, – ухмыльнулся снабженец.
– Ладно, Панкратов, действуй, – сказал Коробков, – я пошел.
Саша приказал шоферу завести мотор и поднять капот.
– Слушай, начальник, помпотех уже осматривал машины, – начал снабженец, – признал исправными.
– Теперь я посмотрю.
Саша прослушал мотор на разных оборотах, махнул рукой шоферу: глуши!
– Машину принять не могу, мотор стучит, – сказал Саша, опуская капот.
Вторую машину Саша тоже забраковал – большой люфт руля, передок разболтан, надо перетянуть.
– А где новые шкворни достанешь? – возразил шофер.
– Ваша забота.
– Придирки строишь, начальник, – угрюмо произнес снабженец и направился в штаб, видимо, пошел жаловаться Коробкову.
Ни одной машины Саша в этот день не принял: неисправности, лысая резина, не покрашены, слабые аккумуляторы.
Неприятное занятие! Одни сдатчики хамили, другие лебезили, третьи смотрели умоляюще. Этих Саша жалел, знал, нет у них возможностей для ремонта, а за несдачу машин могут пойти под суд, но принимать для фронта негодные машины не имел права.
Коробков был огорошен.
– Ни одной исправной машины? Может быть, ты чересчур требователен? Ведь те машины я сам смотрел.
– Пожалуйста, – сказал Саша, – можем вместе посмотреть.
Но смотреть вместе Коробков не пожелал, озабоченно проговорил:
– Положение серьезное, сроки жесткие. Будем чересчур придирчивы сейчас, придется принимать что попало, лишь бы вовремя выехать. Новых машин нам никто не даст. Считаю так: если машина прошла технический осмотр в автоинспекции и сейчас на ходу, надо принимать.
– Я таких актов подписывать не буду, – ответил Саша.
Коробков нахмурился:
– Ну что ж, погуляй пока.
«Гулять» не пришлось. Утром побудка, завтрак, потом занятия: строй, устав, винтовка, граната, порядок движения на маршах и в боевых условиях, поведение при бомбежке, при артобстреле, тушение загоревшейся машины, маскировка на местности, подача сигналов, оказание первой помощи, пользование индивидуальным пакетом, правила перевозки снарядов, оружия, горюче-смазочных материалов и личного состава. Занятия вели младшие воентехники Корнюшин и Овсянников, молодые ребята, только что окончившие автоучилище, на днях прибывшие в батальон на должности командиров взводов. В свободное от занятий время Саша толкался в цехе, служившем гаражом. Шоферы матерились – машины негодные, где их понабрали, ремонтировать нечем, ругались с командирами: «Сам на нее садись и поезжай!» К Саше относились хорошо, знали, что он отказался от приемки, одобряли: молодец! И обращались за советом – в автомобиле Саша разбирался.
Были еще политзанятия, проводил их политрук Щербаков, из запаса, местный, рязанский, работник Осоавиахима. Читали «Правду», «Красную звезду», Щербаков приказывал красноармейцам своими словами повторить прочитанное. Городские шоферы кое-как пересказывали, но деревенские не могли. Щербаков раздражался, вручал красноармейцу газету: «К завтрашнему дню выучи!»
Саша, естественно, отвечал без запинки. Это настораживало Щербакова: чересчур, видно, грамотный. Подозрительно косился в его сторону.
Дня через два Сашу из казармы вызвали к комбату. В кабинете Юлдашева находились Коробков, механик Василий Акимович, воентехники Корнюшин, Овсянников и вновь прибывший командир первой роты старший лейтенант Березовский, как казалось Саше, кадровый военный, лет, наверно, сорока, с проседью в черных волосах, подтянутый, хмурый и требовательный.
Саша доложился: красноармеец Панкратов по вашему приказанию прибыл.
Юлдашев указал на стул, Саша сел.
Вслед за ним вошел политрук Щербаков, сухо всем кивнул, уселся рядом с Юлдашевым.
– Проведем техническое совещание о ходе приема материальной части. Пожалуйста, товарищ Коробков.
Коробков доложил. По графику намечалось принимать каждый день двадцать машин. Однако имеет место отставание от графика. Будем наверстывать.
– Вопросы? – объявил Юлдашев.
– Разрешите, товарищ капитан? – сказал Щербаков. – У меня вопрос к красноармейцу Панкратову. Красноармеец Панкратов!
Саша вопросительно смотрел на него.
– Красноармеец Панкратов! – повторил Щербаков. – Надо встать, когда к вам обращается старший по званию.
Саша встал.
– Красноармеец Панкратов! Вам было поручено принять машины. Вы их все забраковали. Они были не на ходу?
– Они были на ходу, но…
– Ах, на ходу, – перебил его Щербаков, – почему не приняли?
– Человек с одной ногой, с протезом или на костылях – тоже на ходу. Но в армию его не берут.
Старший лейтенант Березовский усмехнулся, задержал на Саше взгляд.
– Не остроумничайте, пожалуйста! – злобно проговорил Щербаков. – Вы в армии, не забывайте, и эти свои интеллигентские штучки бросьте. Какой пример подаете водителям? Они отказываются от своих машин, требуют новые.
Саша знал, что водители требуют не новые, а исправные машины, но ответил так:
– Я рядовой водитель, и не моя обязанность принимать технику.
– Вам поручили принимать, и вы обязаны принимать.
Саша молчал. Что он мог ответить этому обалдую?
– Садитесь, Панкратов, – сказал Юлдашев. – Можно устранить недостатки в машинах, которые вы не приняли?
– В батальоне нельзя, нечем. Но в Рязани есть автобазы, ремонтные мастерские, автосбыт, все можно достать и сделать.
Юлдашев обратился к механику Василию Акимовичу:
– Ваше мнение, товарищ Синельщиков?
– Захотят хозяйства устранить какие есть недостатки, управятся. Помочь надо, конечно, через тот же горком партии.
Старший лейтенант Березовский сказал:
– Я бегло осмотрел машины моей роты. Машины в плохом состоянии, аккумуляторы слабые, резина лысая.
Коробков запротестовал:
– Надо учитывать обстоятельства, товарищ старший лейтенант. Основная масса машин сдана в армию в июне и в июле. Мы подбираем остатки.
– Обстоятельство есть только одно, – отрезал Березовский, – на фронте нужны исправные машины, там воевать надо.
Вошел начальник штаба, положил перед Юлдашевым бумагу. Тот прочитал, сказал:
– Пришла телеграмма: срочно прибыть в Москву для получения машины технической помощи! Кого пошлем?
– Я могу съездить, – мгновенно отозвался Коробков.
– Батальон без технического руководства оставаться не может. – Взгляд Юлдашева остановился на Овсянникове. – Возьмете водителя, товарищ Овсянников, и поедете. Есть у вас во взводе водители?
– Пока только один, – он показал на Сашу, – красноармеец Панкратов.
– Красноармеец Панкратов с вами и поедет. – Он вернул телеграмму начальнику штаба. – Выдайте им документы.
Саша встал:
– Разрешите доложить, товарищ капитан, я еще обмундирования не получил.
– Распорядитесь выдать, – приказал Юлдашев.
– «Бэу», – не то сказал, не то спросил начштаба. – Выдайте из энзэ.
Значит, есть новое обмундирование, наверное, немного, потому зажимают.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































