Текст книги "Проза Александра Солженицына"
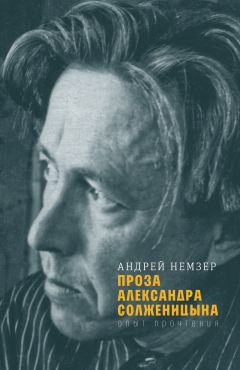
Автор книги: Андрей Немзер
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Нержин-персонаж ничего не знает о человеке, звонившем в американское посольство. О нем знает Нержин – скрытый автор романа «В круге первом», Нержин, поэтически угадавший неизвестного, наделивший его именно такой биографией, такими семейными связями, такими чувствами и думами, увидевший в нем своего «брата». Он делает неведомого дипломата своим ровесником: Нержин празднует тридцатилетие, Володин на Лубянке трижды отвечает на протокольный вопрос: «Год рождения? – Тысяча девятьсот девятнадцатый» (665, 671, 680). Володин буквально «рожден революцией»; о происхождении Нержина в романе не сообщается, но стоящий за героем Солженицын, безусловно, понимал, что мезальянс его родителей (пусть не столь разительный, как у матроса и барышни из хорошей семьи, пусть выросший из истинной любви, а не из большевистской нахрапистой причуды) если не прямо обусловлен бурей 1917 года, то многим ей обязан (этот мотив ощутим в «Апреле Семнадцатого»). Как и Нержин, Володин в 1949 году сирота. Для того чтобы искупить грех отца, потребен не разрывный отказ от него (что может быть передано примерно так: «я не отвечаю за это погубившее мою мать и мою родину чудовище»), но глубокое сыновнее чувство. Не меньшее, чем у тех, кому посчастливилось родиться в достойной семье, а платить досталось только лишь за грехи отечества (от которых, как известно, тоже совсем нетрудно отмахнуться). Приводит же Нержин угаданного (сотворенного) им Володина к провалившемуся, но наделенному огромным духовно-историческим смыслом подвигу своим путем – через восстановление связи времен, воссоздание и осмысление истории семьи, слитой с историей страны. Той продолжающейся истории, узловую (поворотную) точку которой автор романа «В круге первом» смог разглядеть в застывшем безвременье 1949 года. Весьма вероятно, что благодаря неизвестному, которого должны были выявить узники «круга первого». Пройдя гулаговский ад, Нержин тоже выявляет этого неизвестного – воскрешает писательским словом того, кто, казалось бы, бесследно сгинул в бездне. И это не отступление от заветного замысла (книги о русской революции), но внутренне необходимый шаг к его воплощению. Роман «В круге первом» строится на сложном переплетении нержинской (автобиографической) и володинской (созданной писательским воображением) линий, рассказов о том, как люди, «рожденные революцией» и оставшиеся сиротами, историю ищут, восстанавливают и стремятся вывести из якобы предопределенного небытия. Не прихоть автора, спешащего «проговорить всё», но внутренняя логика текста – его смыслообразующая тема и рожденная ею поэтика – обусловливает постоянное появление в романе «В круге первом» ключевых проблем, мотивов, психологических, исторических, философских контраверз и даже (в какой-то мере) героев «Красного Колеса».
И последнее. Уже не о «колесе в круге», но о «круге в колесе».
Пути последнего ночного провожанья часто ложились через Александровский сад.
Как-то Ксенья сказала:
– Здесь я люблю гулять. Во время самой революции тут гуляла.
А уже вот недавно, изменясь голосом:
– Я здесь… мечтала… Смотрела на маленьких детишек, и…
Призналась.
Но ведь и Саня хотел – именно! именно сына!
И открылось говорить о нём – как уже о сущем.
О непременном нашем…
Помолившись в Иверской часовне Божьей Матери о соединении «прочно и навсегда», юная чета вновь идет мимо Александровского сада:
И опять – о том же, о нашем.
Как они будут жить – для него.
Как будут его воспитывать. Вкладывать всё лучшее. Доброе.
‹…›
Война, – но от любви, от веры в продолжение жизни – такая крепость!
Есть ли что-нибудь на свете сильнее – линии жизни, просто жизни, как она сцепляется и вяжется от предков к потомкам?
(XVI, 367, 369)
Завершая «Красное Колесо» роковым «Апрелем Семнадцатого», писатель ввел в этот Узел мотив чаемого рождения сына Ксеньи Томчак и Сани Лаженицына. Думаю, здесь позволительно, нарушая литературоведческие приличия, сказать: Солженицын написал о своем будущем рождении. О рождении мальчика, которому не дано будет увидеть отца, у которого будет совсем не такое детство, что грезилось его родителям, которому выпадут все главные злосчастья русского XX века. Этот мальчик впитает то доброе, чем держится могучая линия жизни, и поведает миру историю своей семьи и своей страны – напишет «Красное Колесо». Мне видится здесь отчетливая перекличка с романом о том, как этот (в «Апреле Семнадцатого» еще не родившийся) выросший и много горя изведавший мальчик в непроглядной советской ночи обрел свой путь – покинул «круг первый», чтобы стать писателем.
ГЛАВА VI. Девять этюдов к монографии о повести «Раковый корпус»
По сюжетной организации «Раковый корпус» резко отличается от романа «В круге первом» (написанного раньше, но обретавшего окончательную редакцию по завершении работы над повестью – 1968). Если в романе сцепление историй никогда не видевших друг друга Нержина и Володина строит собственно сюжет, то контрастные линии главных героев повести – Костоглотова и Русанова – идут строго параллельно. Испытывающие взаимную неприязнь персонажи многажды резко спорят, но сюжетного взаимодействия между ними не происходит, ни тот ни другой не вмешиваются в жизнь антагониста (так, Русанов, владея «материалом», дважды не доносит на Оглоеда, то есть снимает возможный сюжетный ход). Столь же автономно протекают более или менее подробно представленные истории примерно двух десятков персонажей: больных (Поддуев, Дёмка, Вадим, Федерау, Шулубин, Сибгатов, Ахмаджан, Прошка, Азовкин, Ася – единственная из женщин-пациенток, что наделена именем и биографией) и врачей, медсестер, санитарок (Вега, Зоя, Елизавета Анатольевна, Нэля, Мита, Лев Леонидович, Орещенков; Донцова принадлежит обеим группам, по ходу действия перемещается из второй в первую; среди больных преобладают мужчины, а среди врачей – женщины[160]160
Даже если взять в расчет персонажей-медиков без историй или с историями минимализированными (главврач, Тургун, Халмухамедов, Евгения Устиновна, Анжелина и др.), картина принципиально не изменится.
[Закрыть], что, вероятно, мотивировано не только житейской реальностью). И в этих случаях сюжетное взаимодействие отсутствует: персонажи спорят, советуются, выражают друг другу сочувствие, но не влияют на жизнь окружающих. (Ясно, что вмешательства медицинские – операции, облучения, уколы и т. п. – носят иной характер: это не личные действия – независимо от чувств врача к пациенту.) Понятное исключение – истории любви (треугольник Костоглотов – Вега – Зоя; история Аси и Дёмки), но и здесь сюжетность ослаблена. Соперничество Веги и Зои обозначено, но не развернуто. Отношения «детей» между знакомством и после(пред)операционным свиданием не описаны; продолжение их любви в принципе возможно, но автором не обещано – как, впрочем, и расставание персонажей.
Повесть Солженицына напоминает цикл рассказов, основанный на единствах места («раковый корпус», расширяющийся в главах о врачах и двух финальных до большого среднеазиатского города) и времени. Истории персонажей разрезаны и – при соблюдении хронологического порядка – перетасованы. Такое построение предвещает, с одной стороны, композицию «Красного Колеса» (особенно в личных линиях как вымышленных, так и исторических персонажей), с другой же – «двучастные рассказы» (1993–1998). Согласно записи автора в «Дневнике Р-17» от 8 декабря 1968, зерно «Ракового корпуса» – наметившийся в пору пребывания в ташкентской клинике (1954) замысел рассказа «Два рака» (450; цит. по комментарию В. В. Радзишевского). Если в порядке эксперимента извлечь из повести истории пребывания в больнице Костоглотова и Русанова, мы получим этот «двучастный рассказ». Сходный результат даст другой эксперимент: монтирование вычлененных из повествования главы «Дети» и финальной части главы «Всюду нечет» даст «двучастный рассказ» о любви пораженных недугом подростков.
Ослабленная сюжетность и связанная с ней центробежность повествования не превращает, однако, «Раковый корпус» в собрание отдельных историй. Поэтическое единство повести обусловлено непрестанным варьированием уже знакомых читателю ситуаций, этических коллизий, мотивов в меняющихся контекстах, неожиданными сопряжениями повествовательных фрагментов (от главы до фразы), зачастую далеко отстоящих друг от друга. Эпизод, характеристика персонажа, реплика, сперва воспринимаемые как служебные или фоновые, по мере продвижения по тексту обретают новые – более сильные – смыслы; сложившиеся представления о персонажах, их проблемах и перспективах, подвергаются корректировке; позднейшие ситуации бросают новый свет на представленные ранее. Для понимания «Ракового корпуса» необходимо одновременно видеть (или, скорее, слышать) весь текст. Парадигматика здесь не менее значима, чем синтагматика. Если не более.
В предлежащей работе я пытаюсь показать высокую внутреннюю связность солженицынского текста, выявить взаимоотражения эпизодов, коллизий, высказываний персонажей, отнесенных автором к разным фрагментам одной главы (сцепленность близко соседствующих элементов текста далеко не всегда бросается в глаза) и/или разным главам, нередко входящим в разные (первую и вторую) части повести. Анализируются, по мере надобности – комментируются и интерпретируются «при свете целого» небольшие фрагменты девяти глав, как отчетливо маркированные (зачин главы «Вообще не рак», то есть всей повести), так и при беглом чтении кажущиеся проходными. Восемь глав были выбраны без умысла – это начальные главы повести. Завершает работу анализ фрагмента последней главы первой части – «Тени расходятся». Как я пытался показать в других работах, «промежуточные финалы» объемных произведений Солженицына (романа «В круге первом», четырех Узлов «Красного Колеса») по огромной смысловой нагрузке сопоставимы с собственно финалами. Меж тем о вершащем «Раковый корпус» диптихе («Первый день творенья» – «И последний день») подробно говорится при анализе фрагментов первой части.
1. Вообще не рак
Раковый корпус носил и номер «тринадцатый корпус». Павел Николаевич Русанов никогда не был и не мог быть суеверен, но что-то опустилось в нём, когда в направлении ему написали: «тринадцатый корпус» (9).
О том, что Родичев, былой друг и сосед Русанова, на которого тот в 1937 году дал «материал», появился в городе К. и «ре-а-би-ли-тирован» (161), Павел Николаевич узнает в главе с тем же «дурным» номером 13 «И тени тоже». Название русановской главы диалогически подхватывает предшествующее – глава 12-я. «Все страсти возвращаются». Двенадцать – число счастливое: в соответствующей главе речь идет о пробуждении любви Костоглотова к Зое. (Ср. название главы 28-й – «Всюду нечет», где Костоглотов узнает о весьма вероятных тяжелых последствиях гормонотерапии и происходит свидание Дёмки с обреченной на операцию Асей.) Действие 13-й главы разворачивается в воскресенье – когда же, как не в этот день, подниматься из небытия тем, кто считался мертвыми?
Мотив суеверия возникает как при первом, так и при последнем появлении Русанова (33. «Счастливый конец»):
Когда выезжали из медгородка, Капа отвертела стекло и, выбрасывая что-то мелкое через окно назад, сказала:
– Ну, хоть бы не возвращаться сюда, будь он проклят! Не оборачивайтесь никто.
(388)
Рекомендация противоречит уже свершенным действиям как жены Русанова, так и – еще раньше – его младших беззаботных детей. Вертит головой «гуднувший» на «классового врага» Костоглотова Лаврик.
– Ты – не смей головой вертеть! – испугалась Капитолина Матвеевна.
И правда, машина вильнула.
– Ты не смей головой вертеть! – повторила Майка и звонко смеялась. – А мне можно, мама? – И крутила головку назад то через лево, то через право.
(387)
Счастливый конец дискредитирован заранее. Выздоровление Павла Николаевича мнимо. В предшествующей главе, выслушав благодарность считающего себя выздоровевшим (освободившегося от «несуразных» страхов) Русанова, «Донцова неопределённо кивнула. Не от скромности так, не от смущения, а потому что ничего он не понимал, что говорил. Ещё ожидали его вспышки опухолей во многих железах. И от быстроты процесса зависело – будет ли вообще он жив через год» (381). Проклято отнюдь не здание, в котором пытаются спасти даже Русанова.
2. Образование ума не прибавляет
– …На какой же ты факультет хочешь?
– Да вот не решил. На исторический хочется, и на литературный хочется.
– А на технический?
– Не-а.
– Странно. Это в наше время так было. А сейчас ребята все технику любят. А ты – нет?
– Меня… общественная жизнь очень разжигает.
– Общественная?.. Ох, Дёмка, с техникой – спокойней жить. Учись лучше приёмники собирать (26–27).
Сходные диалоги возникают еще дважды. В главе 15 «Каждому своё» Дёмка беседует с Вадимом Зацырко:
– Да я мечтаю в Университет.
– На какой факультет?
– Да или филологический, или исторический.
– А конкурс пройдешь?
– Думаю, что да. Я – никогда не волнуюсь. Спокойный очень.
– Ну и хорошо. И чем же тебе протез будет мешать? И учиться будешь, и работать. Даже ещё усидчивей. В науке больше сделаешь.
– А вообще жизнь?
– А кроме науки – что вообще?
– Ну, там…
– Жениться?
– Да хотя бы…
– Найдё-ошь! На всякое дерево птичка садится…
(173)
Для Вадима личная жизнь сводится к удовлетворению физиологических потребностей. Эту мелкую проблему всегда можно решить. Она не стоит внимания, как и гуманитарные склонности простодушного подростка, на лице которого Вадим не примечает «светлой печати таланта» (219). Поэтому он сворачивает разговор о любви и не отговаривает Дёмку от овладевшей им мечты (по Вадиму – бессмысленной).
Пытается это сделать Костоглотов – третий диалог о выборе стези происходит после перенесенной подростком операции. Но тщетно.
Топила, топила ему опухоль жизнь, а он выруливал на своё.
– И в университет?
– Надо постараться.
– На литературный?
– Ага.
– Слушай, Дёмка, я тебе серьёзно: сгубишься. Займись приёмниками – и покойно жить, и подшибать будешь.
– Ну их на фиг, приёмники, – шморгнул Дёмка. – Я правду люблю.
– Так вот приёмники будешь чинить – и правду будешь говорить, дура!
Не сошлись. Толковали и ещё о том о сём. Говорили и об Олеговых делах. Это тоже была в Дёмке совсем не детская черта: интересоваться другими.
(332)
Взрослый интерес к другим той же стати, что страсть Дёмки к «общественной жизни», «правде», гуманитарии (литературе) и его скрытая мечта о настоящей любви. Поэтому следующий за диалогом с Костоглотовым отчетливо плотский эпизод (утешая Асю, Дёмка говорит, что готов жениться на ней, а потом целует ее обреченную, но еще прекрасную грудь (336–337)) не подтверждает циничное суждение Вадима, а его опровергает. Так корректируется и название главы («Всюду нечет»), и, на поверхностный взгляд, жестко выдержанная в повести антитеза «любовь земная – любовь небесная». Напомню, что при первой встрече с Дёмкой Ася демонстрирует аффектированное – подчеркнуто плотское – жизнелюбие и хвастается (скорее всего – без основания) своим сексуальным опытом:
– А ты – что?.. – полушёпотом спросила Ася, готовая рассмеяться, но с сочувствием. А ты до сих пор не… Лопушок, ты не…?
‹…›
– А ты?..
Как под халатом была у неё только сорочка, да грудь, да душа (курсив мой. – А. Н.), так и под словами она ничего от него не скрывала, она не видела, зачем прятать:
– Фу, да у нас – половина девчёнок!.. (заметим, что далее Ася рассказывает о других! – А. Н.) ‹…› Да чем раньше, тем интересней!.. И чего откладывать? – атомный век!..
(119)
Цитированная глава 10-я называется «Дети» – в главе «Всюду нечет» акцентирована Дёмкина взрослость, а заклинания Аси – «Ты – последний, кто ещё может увидеть её и поцеловать! Уже никто больше не поцелует!» (336) – вовсе не доказывают, что кто-то уже ее грудь целовал.
Сопряжение мотивов любви и литературы, присутствующее в главах «Каждому своё» и «Всюду нечет», возникает уже в главе «Дети». Именно Ася дает Дёмке правильный ответ на мучающий его вопрос:
– Ну а правда, как ты думаешь? Для чего… человек живёт?
‹…›
– Как для чего? Для любви, конечно!
Для любви!.. «Для любви» и Толстой (которого Дёмка понять не может. – А. Н.) говорил, да в каком смысле?
(118)
Смысл (как бы его ни изворачивали адепты идейности и алчные материалисты) один. И путь к нему указывает истинное знание о человеке, обществе, истории – истинная (искренняя, а не удостоенная сталинских премий) литература. Когда Костоглотов в главе 2, удивляясь Дёмкиной «гуманитарности», оглядывается назад («Это в наше время так было!» – прошедшие страшные годы, по мысли Олега, должны были бы отвратить новое поколение от истории и литературы, строящихся только на лжи), автор, несомненно, еще и указывает на будущее, на современность своих первых читателей – 1960-е годы с их наивным «техническим» сциентизмом (ср. линию Вадима Зацырко). Эта тема возникает во внешне необязательном, словно бы с сюжетом не связанном, эпизоде рассказа «Для пользы дела» (1963):
– Конечно, ребятки, не в нашем техникуме, где вы изучаете телевизоры, мне вас агитировать против телевидения, но всё же помните: телевизионная программа – мотылёк, живёт один день, а книга – века»!
(Ср. восторги «писательницы» Авиеты в 21-й главе «Ракового корпуса»:
В Москву съездишь – как заглянешь на пятьдесят лет вперёд! Ну, во-первых, в Москве все смотрят телевизоры
‹…›
– …Ведь прямо жизнь по Уэллсу: сидят, смотрят телевизоры!
(243)
Полувека не потребовалось – меньше чем через десять лет, так будет и в областном городе)
– Книга? И книга – один день! – возразил взъерошенный Чурсанов в серой рубашке с вывернутым и уже подлатанным воротником.
– Откуда ты взял? – возмутилась Лидия Георгиевна.
– А я в одном дворе с книжным магазином живу. Знаю: их потом складывают и назад увозят. На макулатуру, под нож.
– Так надо ж ещё посмотреть, какие книги увозят
‹…›
(Чурсанов. – А. Н.) Прищурился:
– Я и смотрел, пожалуйста, вам скажу. Многие из этих книг в газетах очень хвалили. (Недавно! Вот и Дёмка «положил… прочитывать все книги, получившие сталинскую премию. Таких было в год до сорока…» (109). – А. Н.)
Тут и другие стали забивать. Здоровяк с фотоаппаратом через плечо протеснился и объявил:
– Лидия Георгиевна, давайте говорить откровенно. Вы нам на прощанье дали длиннючий список книг. А зачем они нам? Человеку техническому, а таких в нашей стране большинство, надо читать свои специальные журналы, иначе болван будешь, с завода выгонят, и правильно.
– Правильно! – кричали другие. – А спортивные журналы когда читать?
– А «Советский экран»?
– Но поймите, ребята, книга запечатлевает нашего современника! наши свершения! Книга должна нам дать глубины, которых…
– Насчёт классиков дайте скажу! – тянул руку сутулый, почти с горбом, серьёзный мальчик.
– Насчёт сжатости дайте скажу! – ещё кричали.
– Нет, погодите! – смиряла Лидия Георгиевна бунтарей. – Я вам этого так не оставлю! Теперь у нас будет большой актовый зал, устроим диспут, я вытащу на трибуну всех, кто сейчас…
(I, 214–215)
«Большого актового зала» герои рассказа, как известно, не получат. И еще раз убедятся, что литература (в том числе классика) с ее «нравственными нормами», «идеями» и «высокими чувствами» – это одно, а жизнь – другое. Следующая стадия развития советской молодежи запечатлена в рассказе «Пасхальный крестный ход», написанном в пору работы над «Раковым корпусом» (10 апреля 1966):
Крестный ход без молящихся! Крестный ход без крестящихся! Крестный ход в шапках, с папиросами, с транзисторами на груди – первые ряды этой публики, как они втискиваются в ограду, должны ещё обязательно попасть на картину!
‹…›
Что ж будет из этих роженых и выращенных главных наших миллионов? К чему просвещённые усилия и обнадёжные предвидения раздумчивых голов? Чего доброго ждём мы от нашего будущего?
Воистину: обернутся когда-нибудь и растопчут нас всех!
И тех, кто натравил их сюда, – тоже растопчут.
(I, 267)
Тем весомее звучат слова из предотъездного (прощального) письма скептика Костоглотова идеалисту Дёмке: «На тебя – надеюсь!» (442). В «Раковом корпусе», в отличие от рассказа «Матрёнин двор» и романа «В круге первом», отсутствует «автопортрет» писателя. (Солженицын не зря энергично настаивал на своем несходстве с Костоглотовым.) Но намек на возможное появление настоящего писателя (совсем не такого, как московские покровители Авиеты Русановой и она сама) в повести есть. Потому как жизнь требует запечатления в слове. Впрочем, прежде всего, Костоглотов просто выполняет просьбу Дёмки: «Нет, ты обязательно пойди (в зоопарк. – А. Н.)! Я прошу тебя: пойди! И знаешь что – напиши мне после этого открытку, а? Ну что тебе стоит?.. А мне какая радость будет! Напишешь, кто сейчас из зверей есть, кто самый интересный, а?» (333). Долг платежом красен: именно из-за Дёмки Костоглотов отправился в зоопарк, где увидел не только несчастных жертв и наказанных за свирепство хищников, не только Сталина-тигра и погубленную двойником верховного людоеда макаку-резус, но и «чудо духовности после тяжёлого кровожадия» – антилопу Нильгау, в которой узнал Вегу (426). И понял, что Вега его любит. О чем почти проговорился в письме Дёмке. Не будь обязательства послать открытку с отчетом о зоопарке, может и не решился бы Олег написать двум женщинам, что хоть и по-разному, но возвращали его к жизни – «земной» Зое (чувство к которой стало чисто дружеским) и «небесной» Веге, губы которой он теперь, теряя ее навсегда, целует без разрешения (442–444).
3. Пчёлка
При выписке он (Сибгатов. – А. Н.) руки целовал Людмиле Афанасьевне, а она его только предупреждала: «Будь осторожен, Шараф! Не прыгай, не ударяйся!» Но на такую работу его не взяли, а пришлось опять экспедитором. Экспедитору – как не прыгать из кузова на землю? Как не помочь грузчику и шофёру? Но всё было ничего до одного случая – покатилась с машины бочка и ударила Шарафа как раз в больное место. И на месте удара загноилась рана. Она не заживала. И с тех пор Сибгатов стал как цепью прикован к раковому диспансеру (31).
Ср. в главе «Дети»: «И только в футбол – в футбол он изредка бегал с ребятами. И за это одно маленькое удовольствие судьба его наказала: кто-то в суматохе с мячом не нарочно стукнул Дёмку бутсой по голени, Дёмка и внимания не придал, похромал, потом прошло. А осенью нога разбаливалась и разбаливалась, он ещё долго не показывал врачам, потом ногу грели, стало хуже, послали по врачебной эстафете, в областной город и потом сюда» (111).
Оба эпизода вызывают ассоциации с рассказом Толстого «Смерть Ивана Ильича»:
Он так был занят этим, что сам часто возился, переставлял даже мебель и сам перевешивал гардины. Раз он влез на лесенку, чтобы показать непонимающему обойщику, как он хочет драпировать, оступился и упал, но, как сильный и ловкий человек, удержался, только боком стукнулся об ручку рамы. Ушиб поболел, но скоро прошел – Иван Ильич чувствовал себя все это время особенно веселым и здоровым. ‹…› когда за чаем Прасковья Федоровна спросила его, между прочим, как он упал, он засмеялся и в лицах представил, как он полетел и испугал обойщика. – Я недаром гимнаст. Другой бы убился, а я чуть ударился вот тут; когда тронешь – больно, но уже проходит; просто синяк[161]161
Толстой Л. Н. Смерть Ивана Ильича // Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. М.: Художественная литература», 1964. Т. 12. С. 77, 78.
[Закрыть].
Случайный роковой удар в повести Солженицына получает не Русанов (аналог толстовского грешника – оба профессионально и с удовольствием судят ближних), но персонажи безвинные, душевно чистые и вызывающие глубокое сочувствие автора, – ссыльный (лишенный родины) крымский татарин Шараф Сибгатов и оставшийся без отца, ушедший от «скурвившейся» матери (110) Дёмка. Солженицыну необходимо присутствие в его повести рассказа об Иване Ильиче (и других сочинений Толстого), но не удвоение толстовского художественного решения. О причинах заболевания Русанова не говорится вовсе. В отличие от Ивана Ильича, Русанов до появления опухоли совершенно доволен своей жизнью; благополучие заботит его больше, чем карьера («…в 1939 году не решился, хотя его звали, надеть чекистскую форму. Жаль, а может быть, по неустойчивой обстановке двух последних лет, и не жаль. Может быть, покой дороже» (157); ср. сжигающее честолюбие Ивана Ильича); приязнь Русанова к жене и детям сохраняется и в «раковом корпусе» (глубокое и постоянное недовольство Ивана Ильича семейной жизнью начинается задолго до случившейся с ним беды, во время болезни он все больше проникается ненавистью к жене и собирающейся замуж дочери). Несовпадения эти объясняются в первую очередь глубоким различием исторических ситуаций, в которых находятся персонажи Толстого и Солженицына, пропастью, разделяющей имперскую и советскую системы, по-разному пестовавших своих верных слуг (по сравнению с «выдвиженцем», любой ценой рвущимся к недополученным благам, и пресыщенный судейский чиновник может показаться «благообразным»). Впрочем, нам не дано знать, как будет относиться Русанов к Капе и детям, когда его настигнет ремиссия. Окрашиваются же в первый больничный вечер его размышления о семье (попытка утешиться) в черные тона: «Но вся дружная образцовая семья Русановых, вся их налаженная жизнь, безупречная квартира – всё это за несколько дней отделилось от него и оказалось по ту сторону опухоли. Они живут и будут жить, как бы ни кончилось с отцом. Как бы они теперь ни волновались, ни заботились, ни плакали – опухоль задвигала его как стена, и по эту сторону оставался он один» (21). Когда же болезнь, как кажется обреченному, отступает, Русанов с удовольствием рассказывает Федерау «о квартире, которую он задушевно любил ‹…› После сорока лет о человеке, чего он заслужил, вполне можно судить по его квартире. И Павел Николаевич рассказывал, не в один даже приём, как расположена и чем обставлена у него одна комната, и другая, и третья, и каков балкон, и как оборудован. У Павла Николаевича была ясная память, он хорошо помнил о каждом шкафе и диване – где, когда, почём куплен и каковы его достоинства. Тем более подробно рассказывал он соседу о своей ванной комнате, какая плитка на полу уложена и какая по стенам, и о керамических плинтусах, о площадочке для мыла, о закруглении под голову, о горячем кране, о переключении на душ, о приспособлении для полотенец. Всё это были не такие уж мелочи, это составляло быт, бытие, а бытие определяет сознание, и надо, чтобы быт был приятный, хороший, тогда и сознание будет правильное» (318–319). Несчастье настигло Ивана Ильича именно в ту пору, когда он упоенно занимался устройством новой квартиры. Да и «марксистский» финал рассуждений Павла Николаевича принял бы Иван Ильич вполне – даром что, как все государственные служащие Российской империи, исправно говел, исповедовался и причащался.
Все-таки похожи. Прав Костоглотов, когда кроет обличителей «остатков буржуазного сознания»: «И до буржуазии жадные были, и после буржуазии будут» (343). Не об одной жадности тут речь – о всяком зле. Справедливое осуждение которого необходимо, но не достаточно. Наговорив «почти на статью», Костоглотов «зевнул вслух и пошёл на свою койку. И ещё зевнул. И ещё зевнул.
От усталости ли? от болезни? Или от того, что все эти споры, переспоры, термины, ожесточение и злые глаза внезапно представились ему чавканьем болотным, ни в какое сравнение не идущим с их болезнью, их предстоянием перед смертью?» (347). Их – ушибленного во время футбола Дёмки, ударенного бочкой Сибгатова, Вадима, философа-доцента, Костоглотова, Русанова, оступившегося Ивана Ильича…
А хотелось бы коснуться совсем чего-нибудь другого. Незыблемого.
Но где оно такое есть – не знал Олег.
(347)
Тут-то и читает он в письме доктора Кадмина пересказ легенды о Китоврасе, что сломал себе ребро, вняв просьбам вдовы – пощадив ее домик. «И промолвил тогда: “Мягкое слово кость ломит, а жестокое гнев вздвизает”» (348). Глава 29-я, в которой идет спор о жадности, а прежде Русанов корит сына за «доверчивость и наивность» (сбивчивое движение к человечности), и называется «Слово жёсткое (NB! – А. Н.), слово мягкое». Жёсткое значит жестокое.
Не в мягком, насквозь проникнутом духом милосердия и надежды «Раковом корпусе», но в тайно создаваемом параллельно повести сокрушительно-набатном «Архипелаге…» читаем:
В толщине этой книги уже много было высказано прощений. И возражают мне удивлённо и негодующе: где же предел? Не всех же прощать!
А я – и не всех. Я только – павших. Пока возвышается идол на командной своей высоте и с властительной складкою лба безчувственно и самодовольно коверкает наши жизни – дайте мне камень потяжелее! а ну, перехватим бревно вдесятером да шибанём-ка его!
Но как только он сверзился, упал, и от земного удара первая бороздка сознания прошла по его лицу, – отведите ваши камни!
Он сам возвращается в человечество.
Не лишите его этого божественного пути.
(VI, 384–385)
Но как быть, если в письме доктора Кадмина говорится не только о Китоврасе, но и об убийстве Жука? (348). Если «злой человек сыпнул табака в глаза макаке-резус»? (424). Если Русанов (и не он один!) не хочет выходить на божественный путь? Если Иван Ильич прозревает лишь с приходом смерти?
4. Тревоги больных
Ефрем в своей бинтовой, как броневой, обмотке, с некрутящейся головой, не топал по проходу, не нагонял тоски, а, подмостясь двумя подушками повыше, без отрыву читал книгу, навязанную ему вчера Костоглотовым. Правда, страницы он переворачивал так редко, что можно было подумать – дремлет с книгой (44).
Что Ефрем не дремлет, автор понять дает (на это и указывает оговорочное «можно было подумать»). Что книга на него сильно действует – тоже. Для того перечислены с отрицанием описанные прежде «занятия» Ефрема: статика сменила динамику, отделенность от всех – агрессивную экстравертность. Но какая книга заставила Ефрема изменить поведение (как поймем позже, измениться внутренне), мы все еще не знаем. Как не знаем в главе «Образование ума не прибавляет», когда видим глазами Русанова ее впервые:
Наискось по тёмно-синему переплёту, и такая же по корешку, шла тиснённая золотом и уже потускневшая роспись писателя. Чья это роспись, Павел Николаевич не разобрал, а спрашивать у такого типа не хотелось ‹…›
Оглоед угрюмыми глазищами смотрел на книгу и объявил беззастенчиво громко на всю комнату:
– Если б не Дёмка эту книгу в шкафу выбирал, так поверить бы нельзя, что нам её не подкинули ‹…›
– По всему городу шарь – пожалуй, нарочно такой не найдёшь. ‹…› Ефрем! Хватит скулить. Возьми-ка вот книжку почитай.
Ефрем остановился как бык, посмотрел мутно.
– А зачем – читать? Зачем, как все подохнем скоро?
Оглоед шевельнул шрамом:
– Вот потому и торопись, что скоро подохнем. На, на.
(18–19)
Читателю (но не Ефрему и не слышащему разговор Русанову) ясно, что в книге речь идет о жизни и смерти, но не более. Часть аудитории, знакомая с наследием Толстого, разгадывает загадку, увидев название главы 8-й – «Чем люди живы», помещенный в ней перечень рассказов, первый из которых «Труд, смерть и болезнь», а последний – «Ходите в свете, пока есть свет» (92), и процитированный зачин особо захватившей Ефрема истории (93), но имя автора по-прежнему не называется. Важен смысл текста, а не его носитель. Когда Русанов, возмущенный «не нашей моралью», интересуется авторством, Ефрем искренне недоумевает:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































