Текст книги "Проза Александра Солженицына"
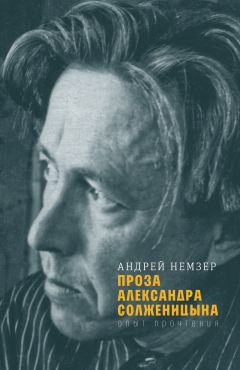
Автор книги: Андрей Немзер
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Верхнего света не было в нашей большой комнате, как лесом заставленной фикусами. От настольной же лампы свет падал кругом только на мои тетради – а по всей комнате глазам, оторвавшимся от света, казался полумрак с розовинкой. И из него выступала Матрёна. И щёки её померещились мне не жёлтыми, как всегда, а тоже с розовинкой.
‹…›
Я невольно оглянулся. Этот старый серый изгнивающий дом вдруг сквозь блекло-зелёную шкуру обоев, под которыми бегали мыши, проступил мне молодыми, ещё не потемневшими тогда, струганными брёвнами и весёлым смолистым запахом.
(132–133)
А чуть позже прошлое предстанет рассказчику как въяве – он увидит «июль четырнадцатого года». Выше говорилось о связи ее фактуры и семантики с поэмами Некрасова, но выводит рассказчика на некрасовскую линию описанная Тургеневым метаморфоза Лукерьи. И она же мотивирует присутствие в вечернем (открывающем прошлое) эпизоде обертонов Гоголя[83]83
Игра света и цвета в темной комнате, вероятно, пришла из видения пана Данилы («Страшная месть»): «…и опять с чудным звоном осветилась вся светлица розовым светом ‹…› тонкий розовый свет становился ярче, и что-то белое, как будто облако, веяло посреди хаты; и чудится пану Даниле, что облако то не облако, что то стоит женщина; только из чего она: из воздуха, что ли, выткана? Отчего же она стоит и земли не трогает, и не опершись ни на что, и сквозь нее просвечивает розовый свет и мелькают на стене знаки». Это колдун мучает душу пани Катерины (ср. власть Фаддея над Матрёной). Преображение дома напоминает другое видение – Левка в «Майской ночи»: «С изумлением глядел он в неподвижные воды пруда: старинный господский дом, опрокинувшись вниз, был виден в нем чист и в каком-то ясном величии. Вместо мрачных ставней глядели веселые стеклянные окна и двери. Сквозь чистые стекла мелькала позолота ‹…› “Вот как мало надо полагаться на людские толки, – подумал он про себя. – Дом новехонький; краски живы, как будто сегодня он выкрашен”». По-другому (без фантастической огласовки) этот мотив проведен в главе VI «Мертвых душ», рассказе о былом (веселом, многолюдном, деятельном) бытии оскудевшего и захламленного дома Плюшкина. – Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 1. С. 196, 130; Т. 7. Кн. 1. С. 112. Гоголевские реминисценции появляются в двух тревожных и загадочных (коли не сказать – мистических) эпизодах «Матрёнина двора». «Пальто из железнодорожной шинели», построенное портным-горбуном, получилось таким славным, «какого за шесть десятков лет Матрёна не нашивала» (128). Верно указав на отсылку к «Шинели», Р. Л. Джексон не обратил внимания на то, что эта удача Матрёны (как и прочие – с трудом выхлопотанная пенсия, деньги, которые стала она получать от постояльца и школы, купленные на них новые телогрейка и валенки, возможность сделать похоронную заначку) предвещает ее страшный конец. Точь-в-точь как сбывшаяся мечта Акакия Акакиевича. Или неожиданный уход в лес кошечки («Старосветские помещики»), верно понятый ее хозяйкой как знак скорой смерти, – ср. в «Матрёнином дворе» исчезновение колченогой кошки, случившееся между демонтажем горницы и гибелью Матрёны (136). В этом контексте похищение котелка со святой водой видится «гоголизированно» – бесовской проказой.
[Закрыть] и оказавшейся пророческой «баллады с тенденцией» («Порой веселой мая…»)[84]84
«В то лето… ходили мы с ним в рощу сидеть, – прошептала она. – Тут роща была, где теперь конный двор, вырубили её…» (133); ср.: «Она ж к нему: «Что будет / С кустами медвежины, / Где каждым утром будит / Нас рокот соловьиный?» // «Кусты те вырвать надо / Со всеми их корнями, / Индеек здесь, о лада, / Хотят кормить червями». – Толстой А. К. Полн. собр. стихотворений и поэм. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 2004. С. 221. Напомню о соловьином пении в «Живых мощах».
[Закрыть]. Наконец, зря что ли корили Матрёну за «рабское» смирение советские и пост(анти)советские публицисты? Странно только, что не вспомнили эпиграф к «Живым мощам»: «Край родной долготерпенья – / Край ты русского народа!»[85]85
Тургенев И. С. Указ. соч. Т. 3. С. 326; ср.: Тютчев Ф. И. Полн. собр. стихотворений. Л.: Советский писатель, 1987. С. 191. Тютчевскую межстрочную запятую Тургенев заменил на тире.
[Закрыть].
Тургеневская Лукерья и некрасовские крестьянки (Дарья и Матрёны) – важнейшие литературные прототипы солженицынской героини, но сквозь них просвечивают другие (разные, но в том или ином схожие) русские женщины – хозяйка леса Яга, сказочные «младшие сестры» (долго страдающие, но обретающие счастье), жена Добрыни Никитича (о чем ниже), лесная дева Феврония, гоголевская старосветская помещица, Настя из лесковского «Жития одной бабы» (тут важны трансформированные и рекомбинированные мотивы злосчастья семейной жизни, смерти младенца и черной немочи)[86]86
Ср. восторженную оценку первой части повести, впервые прочитанной будущим автором «Матрёнина двора» в тюрьме (1945 или 1946): Солженицын Александр. Из «Литературной коллекции». Николай Лесков // Солженицынские тетради. <Вып.> 1. С. 17; ср. также: Мелентьева И. Е. Солженицын читает Лескова // Там же. С. 118–134. Своей приязнью к повести Лескова Солженицын наделил Веру Воротынцеву, для которой «живыми спутниками» остаются «пронзительно обречённые Варвара и Настя из “Жития одной бабы” – “беда у нас смирному да сиротливому”» (XIV, 128; «Март Семнадцатого», гл. 556). Трудно, однако, предположить, что Вера (все же библиограф, а не историк литературы) могла отыскать всеми забытую раннюю повесть Лескова, опубликованную в 1863 году («Библиотека для чтения», № 7) и впервые переизданную Б. М. Эйхенбаумом: Лесков Н. С. Избр. соч. М.; Л.: Academia, 1931. Видимо, Солженицын читал в тюрьме этот однотомник, в котором вслед за «Житием одной бабы» помещен столь дорогой героине «Марта…» рассказ Лескова «Тупейный художник».
[Закрыть], Анна Каренина[87]87
Эта параллель подробно описана и внятно истолкована Р. Л. Джексоном.
Джексон Роберт Луис. «Матрёнин двор»: Сотворение русской иконы // Солженицын: Мыслитель, историк, художник: Западная критика. 1974–2008. М.: Русский путь, 2010. С. 551, 552, 553. Последнее наблюдение серьезно колеблет главную мысль статьи, согласно которой Солженицын ищет идеал в дореволюционном прошлом. Меж тем для Солженицына злосчастья России (олицетворением которой можно счесть Матрёну) начались задолго до революции, что и обусловливает его обращение к классике, запечатлевшей не только красоту русского человека, но и его трагедию.
[Закрыть].
В этом «едином и тесном» ассоциативно-поэтическом ряду (кажется уместным, использовать здесь метафорический термин Ю. Н. Тынянова) значимое место отведено той героине нашего культурного пантеона, чьи имя, образ и сюжет крепко встроены в миф о русском поэте. «Может, кому из деревни, кто побогаче, изба Матрёны и не казалась доброжилой, нам же с ней в ту осень и зиму вполне была хороша: от дождей она ещё не протекала и ветрами студёными выдувало из неё печное грево не сразу, лишь под утро, особенно тогда, когда дул ветер с прохудившейся стороны» (120). В деревенском доме, худо защищающем от непогоды (на что сетовать недавнему зэку неловко), при слабом свете (что отмечено позднее, в эпизоде исповеди Матрёны), под угадываемое (хоть и неназванное) завывание дважды помянутого ветра обретаются равно одинокие изгнанник (писатель) и старуха с голосом, «как у бабушек в сказках» (122)[88]88
Так метонимически замещаются сказки, которые в поэтическом источнике были превращены в песни.
[Закрыть]. Эта вариация «Зимнего вечера» будет продолжена во второй главе, где просторечное словцо Матрёны занимает позицию смысловой рифмы и обретает пушкинскую окраску: «Но в тот же день началась мятель – дуель, по-Матрёниному» (136). Горницу не могли вывезти из Тальнова две недели – похоже, дуель случилась в день пушкинской дуэли (или близ него)[89]89
М. В. Захарова погибла 21 февраля, что отделено от 8 февраля (27 января по старому стилю) тринадцатью днями. Солженицын всегда был склонен примечать символичность дат и их совпадений. Ср. приведенный в «очерках литературной жизни» его разговор с Твардовским 10 февраля 1970 года: «А. Т.! Тут какая-то мистика в датах. Вчера был день моего ареста, даже 25-летие. – (Да покрупней: 9 февраля нового стиля умер Достоевский.) – Сегодня – день смерти Пушкина, и тоже столетие с третью. – (А завтра, 11-го, разорвут Грибоедова.) – И в эти же дни вас («Новый мир». – А. Н.) разгромили…» (XXVIII, 276).
[Закрыть].
«Пушкинизация» фрагментов текста, посвященных однообразной осенне-зимней жизни в тальновской избе и февральской непогоде (задержке с перевозом горницы), открывает и усиливает смыслообразующий пушкинский подтекст описаний ночных (поздневечерних) бдений Игнатьича. Сперва о них говорится обобщенно: «По ночам, когда Матрёна уже спала…» (121), затем – в двух сюжетно сильных позициях – перед исповедью Матрёны и в первые часы после ее гибели (рассказчику еще не открывшейся). По сути, описывается повторяющаяся (неизменная) ситуация: ночь, тьма (или полутьма), странные звуки, связанные с нечеловеческим таинственным миром и движением времени. «Редкое быстрое шуршание мышей под обоями покрывалось слитным, единым, непрерывным, как далёкий шум океана, шорохом тараканов за перегородкой» (121); «…писал своё (именно здесь рассказчик показывает себя писателем. – А. Н.)… под шорох тараканов и постук ходиков» (132) – мыши не названы (о них читатель и так помнит), но введен новый значимый звук; «…я заметил, что очень уж, как никогда, развозились мыши: всё нахальней, всё шумней они бегали под обоями, скребли и попискивали» (138). Резко возросшую активность мышей можно объяснить двояко: рационально (из-за катастрофы прекратилось движение поездов, воцарилась непривычная тишина, в которой любой звук становится более ощутимым, чем обычно) и мистически (мыши почуяли гибель хозяйки и его неизбежное следствие – конец дома)[90]90
Так же двояко (по законам романтической фантастики) мотивировано бегство колченогой кошки.
[Закрыть]. Хотя рассказчик погружен в себя[91]91
Ср. сходное состояние в часы, предшествующие рассказу Матрёны о ее прошлом: «Я и о Матрёне-то самой забыл, что она здесь, не слышал её…» (132).
[Закрыть], он фиксирует движение времени: «Прошёл час, другой. И третий» (138) – ясно, что Игнатьич не на циферблат смотрит (это действие человека озабоченного), а в забытьи слышит бой ходиков.
Три взаимодополняющих эпизода воссоздают атмосферу «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы»: «Мне не спится, нет огня; / Всюду мрак и сон докучный. / Ход часов лишь однозвучный / Раздается близ меня. / Парки бабье лепетанье, / Спящей ночи трепетанье, / Жизни мышья беготня… / Что тревожишь ты меня? / Что ты значишь, скучный шепот? / Укоризна или ропот / Мной утраченного дня? / От меня чего ты хочешь? / Ты зовешь или пророчишь? / Я понять тебя хочу, / Смысла я в тебе ищу…»[92]92
Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 3. С. 186. Для первого (обобщенного) «мышиного» эпизода, вероятно, значимо и стихотворение единственного относительно дозволенного в сталинскую эпоху русского модерниста: «В нашем доме мыши поселились / И живут, и живут! / К нам привыкли, ходят, расхрабрились, / Видны там и тут. ‹…› Свалят банку, след оставят в тесте, / Их проказ не счесть… / Но так мило знать, что с нами вместе / Жизнь другая есть» («Мыши»). – Брюсов Валерий. Стихотворения и поэмы. Л.: Советский писатель, 1961. С. 147, 148. Ср. о шорохе соседей и двойников мышей – тараканов: «…в нём не было ничего злого, в нём не было лжи. Шуршание их – была их жизнь» (121). О знакомстве Солженицына с поэзией Брюсова свидетельствует его вариация «Каменщика» в одноименном лагерном стихотворении (позднее отозвавшаяся в «Одном дне Ивана Денисовича»: «Вот – я каменщик. Как у поэта сложено, / Я из камня дикого кладу тюрьму. / Но вокруг – не город: Зона. Огорожено. / В чистом небе коршун реет настороженно. / Ветер по степи… И нет в степи прохожего, / Чтоб спросить меня: кладу – кому?» (XVIII, 229); ср.: «– Каменщик, каменщик в фартуке белом, / Что ты там строишь? кому? / – Эй, не мешай нам, мы заняты делом, / Строим мы, строим тюрьму» (Брюсов Валерий. Указ. соч. С. 212).
[Закрыть] Солженицын, разумеется, не стремится буквально повторить Пушкина. Он говорит о вечной связи: ночь – поэзия – воспоминания и предчувствия – инобытие, вдруг вмешивающееся в жизнь, окликающее человека на непонятном ему языке, – неостановимый ход времени – смерть[93]93
Это сцепление мотивов характеризует большую традицию «ночной» (надгробной) поэзии, сложно претворенную Пушкиным в «Стихах, сочиненных ночью…». Закономерно, что в описание поминок включена инвертированная цитата из едва ли не самого известного русского стихотворения о неожиданной смерти и общей нашей обреченности: «Столы, составленные в один длинный, захватывали и то место, где утром стоял гроб» (146); ср.: «Где стол был яств, там гроб стоит». В той же оде «На смерть К. Мещерского» поэт задает отчаянные и безответные вопросы: «Здесь персть твоя, а духа нет. / Где ж он? – Он там; – Где там? – Не знаем. / Мы только плачем и взываем: / О горе нам, рожденным в свет!» О том же (и даже со сходными синтаксическими конструкциями, с той же напряженной антитетичностью) «строго» говорит, унимая «вторую» Матрёну, старуха, «намного старше здесь всех старух и как будто даже Матрёне чужая вовсе»: «– Две загадки в мире есть: как родился – не помню, как умру – не знаю» (144). Начинается же ода с того звука, что раздавался в ночи, когда Игнатьич «писал своё»: «Глагол времен! металла звон! / Твой страшный глас меня смущает, / Зовет меня, зовет твой стон, / Зовет, – и к гробу приближает». – Державин Г. Р. Соч. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 2002. С. 124, 125.
[Закрыть]. Аккуратно сближая рассказчика с Пушкиным[94]94
Все пушкинские реминисценции прикровенны, фамилия поэта не произносится (ср. называние Тургенева; бросающаяся в глаза «литературная» цитата из Некрасова примыкает к первой картине ночного – поэтического – бытия Игнатьича) – как и имя рассказчика, называемого только по отчеству. Невозможно предположить, чтобы Солженицын не задумывался о том, что он тезка Пушкина.
[Закрыть], а Матрёну – с Ариной Родионовной, Солженицын акцентирует две важнейших взаимосвязанных темы «Матрёнина двора» – тему памяти (сохранения в слове того, что ушло, – погибшего человека, утраченных ценностей, истинного русского мира)[95]95
В этой связи перестает казаться случайной реминисценция «…Вновь я посетил…» в раздумьях рассказчика о Высоком Поле (Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 3. С. 314). В стихотворении Пушкина речь идет о единстве природного и человеческого миров, о победе над временем (и конечностью человеческого бытия), о глубинной связи памяти и бессмертия. Первым свидетельством об одолении смерти становятся строки об умершей Арине: «Вот опальный домик, / Где жил я с бедной нянею моей. / Уже старушки нет – уж за стеною / Не слышу я шагов ее тяжелых, / Ни кропотливого ее дозора». Пушкинское «не слышу» опровергается следующими далее строками, «весомая» лексика которых заставляет нас ощутить присутствие умершей в длящейся без нее жизни. Выше говорилось, что «трех Матрён» Некрасов поминает вслед за Пушкиным. Стоит добавить, что той же народной прибауткой начинается откровенно игровой (сооруженный в паре с Вяземским) гостинец старшему другу (всеобщему, а не только адресантов, пестуну, наставнику, учителю), поэту, чьи самые проникновенные строки посвящены светлой силе воспоминания, побеждающего смерть, – Жуковскому. Шуточный характер стихов, где причудливо перемешаны имена разномастных персонажей (живых и ушедших, друзей и недругов, великих мира сего и безвестных) не отменяет его внутреннего серьезного смысла: «Надо помянуть, непременно помянуть надо: / Трех Матрён / Да Луку с Петром; / Помянуть надо и тех, которые, например: / Бывшего поэта Панцербитера, / Нашего прихода честного пресвитера, / Купца Риттера, / Резанова, славного русского кондитера, / Всех православных христиан города Санкт-Питера, / Да покойника Юпитера» (эти строки записаны рукой Вяземского). – Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 3. С. 313, 366.
[Закрыть] и тему единства многообразной и эволюционирующей русской словесности, смысловым центром и воплощением которой мыслится Пушкин.
«Матрёнин двор» не только продолжает русскую литературу, но и буквально ее возрождает. Солженицын поминает (возвращает из небытия) Матрёну вместе с безымянными сказителями и национальными классиками, а история жизни и смерти невидимой праведницы доказывает, что якобы переведенный на «торфопродукт» русский язык по-прежнему остается «великим, могучим, правдивым и свободным».
Дать исчерпывающий список реминисценций русской литературы в «Матрёнином дворе» – задача едва выполнимая. Оборотной стороной их густоты и разнообразия (не присущих прочей малой прозе Солженицына[96]96
Широта литературных горизонтов романа «В круге первом» обусловлена, во-первых, его жанровой – металитературной – природой (роман о романе), во-вторых, обилием героев-интеллектуалов, а в-третьих, объемом. Эти особенности романной прозы Солженицыны будут явлены и романной составляющей «Красного Колеса».
[Закрыть]) оказывается их неуловимость и/или случайность. Солженицыну чаще важны не столько обязательные для распознавания отсылки к конкретным текстам (хотя есть и такие случаи), сколько напоминание об общем – едином – языке русской словесности, органично сочетающей национальное и универсальное (всемирное) начала. Это сопряжение особенно ярко выступает в финалах всех трех глав.
Первая – условно говоря, очерковая, портретирующая Матрёну, какой ее видел чуть со стороны рассказчик, – завершается музыкальным эпизодом. Матрёна неприязненно реагирует на шаляпинское исполнение «русских песен» («Чудно поют, не по-нашему ‹…› Не. Не так. Ладу не нашего. И голосом балует»), но растепляется до слез от «камерных романсов Глинки», то есть музыки, принадлежащей высокой культуре, музыке, в которой европейский лад позволяет выявиться национальному духу: «А вот это – по-нашему… – прошептала она» (130).
Душевная тонкость Матрёны, ее эстетическая чуткость и бессознательная включенность в мировую культуру обнаруживаются таким же образом, как у персонажей «Певцов». Жиздринский рядчик, подобно Шаляпину (не только в восприятии Матрёны), «балует голосом», а возникающий в сознании читателя контраст его «высочайшего фальцета» и легендарного шаляпинского баса убеждает в сходстве исполнительских стилей тургеневского персонажа и прославленного артиста: оба работают на краях вокального диапазона, выходят за пределы привычного звукового поля.
…Он играл и вилял этим голосом, как юлою, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытягивал с особенным стараньем, умолкал, и потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской, занозистой удалью. Его переходы были иногда довольно смелы, иногда довольно забавны; знатоку они бы много доставили удовольствия; немец пришел бы от них в негодование. Это был русский tenore di gracia, ténor léger. Пел он веселую плясовую песню, слова которой, сколько я мог уловить сквозь бесконечные украшения, прибавленные согласные и восклицания были следующие:
В пении рядчика Тургенев отмечает формальную «русскость» (Шаляпин в рассказе Солженицына поет не «Блоху» или арию Бориса, но «русские песни») при близости (если не тождестве) манеры с ее западными версиями (амплуа называются по-французски и по-итальянски), артистическую (противоестественную) изощренность (утеху знатоков, рационально оценивающих одоление трудностей), невнятность (переходящую в бессмысленность) с трудом распознаваемых слов, существующих отдельно от мелодии (ср. первую реакцию Матрёны). Восхищает рядчик квалифицированных слушателей мастерством – действительно незаурядным, хотя искушенный рассказчик говорит о нем с чуть приметной иронией.
Яков Турок поет совершенно иначе:
Первый звук его голоса был слаб и неровен и, казалось, не выходил из его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. (Прежде описанному искусству управления своими органами противопоставлено небесное наитие. – А. Н.) ‹…› За этим первым звуком последовал другой, более твердый и протяжный, но все еще видимо дрожащий, как струна, когда, внезапно прозвенев под сильным пальцем, она колеблется последним, быстро замирающим колебаньем, за вторым – третий, и, понемногу разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная песня. «Не одна во поле дороженька пролегала», – пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос (голос рядчика для рассказчика не нов, так поют мастера во Франции и Италии. – А. Н.): он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый; он даже сначала отзывался чем-то болезненным; но в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем, и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась. Яковом, видимо, овладевало упоение: он уже не робел, он отдавался весь своему счастью; голос его не трепетал более – он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся[98]98
Тургенев И. С. Указ. соч. Т. 3. С. 221–222.
[Закрыть].
Наряду с собственно пением описываются психологические перемены, происходящие с поющим, его вхождение в песню и подчинение ей. Мелодия и голос создают многомерный (тщательно прописанный Тургеневым) смысл в единстве с поэтическим словом, представленным одной – но выразительной и опять-таки многозначной – строкой. (Вмонтированной в тождественное песни Якова повествование, а не обособленной графически, как фиоритуристый куплет рядчика.) Слушатели не дивятся певцу, но переживают то же, что он сам. (Несомненно, по замыслу Тургенева, то же должно происходить с читателем его рассказа.) Песня освобождает всех слушателей (включая признавшего поражение рядчика) от их жизненных ролей – слезы поднимаются к глазам и у рассказчика, и у всех посетителей кабака, «жена целовальника плакала, припав грудью к окну». Такие же слезы не может сдержать Матрёна после романсов Глинки, заражаясь их жизненным содержанием, для которого равно важны скромное («камерное») искусство и чувства поющих «по-нашему», то есть растворяющих себя в пении, им живущих. Велик соблазн предположить, что среди услышанных Матрёной романсов был и «Я помню чудное мгновенье…».
Замордованная жизнью Матрёна так же духовно чутка, как тоже никак не избалованные судьбой (опустившиеся или, напротив, выбившиеся в люди) судьи кабацкого состязания. У Тургенева история о светлом единении в песне (духовной высоте русского мира) нагружена двумя мрачными «эпилогами». Поздним вечером рассказчик, заглянув в окно кабака, видит: «все было пьяно – начиная с Якова». Покидая деревню с «говорящим» названием Колотовка, он слышит перекличку двух мальчиков. Один неустанно кричит «звонким голосом» «с упорным и слезливым отчаянием, долго, долго вытягивая последний слог», другой едва слышно произносит «Чего-о-о-о-о?».
Послесловия не перечеркивают слова (песни Якова). Страдальческая жизнь и гибель Матрёны не отменяют «пелены слёз в неярких …глазах», причастности старой крестьянки миру Глинки и Тургенева[100]100
«Певцы» – рассказ о русских людях и русских бедах, но строится он с опорой на европейскую традицию. Противопоставляя рядчика и Якова, Тургенев отсылает к не одно десятилетие кипевшему спору об итальянском и немецком вокальном искусстве, шире – об итальянской и немецкой музыке. Первая воспринималась как образец виртуозности и чистой красоты, вторая мыслилась серьезной, духовной, строгой. (Потому «немец пришел бы… в негодование» от пения рядчика.) Разумеется, Тургенев мог набрести на кабацкий турнир во Мценском (или ином) уезде, но и новелла Гофмана «Состязание певцов» (входит в роман «Серапионовы братья») была ему знакома. И конечно писатель понимал, что и средневековая фантастическая история Гофмана, и общеевропейский спор о немецкой и итальянской музыке хорошо известны большинству его просвещенных современников – потенциальным читателям «Записок охотников».
[Закрыть].
Вторую главу – рассказ о жизни, любви и смерти Матрёны – завершает нежданно случившееся (как оказалось, не отмененное, а отложенное) отмщение изменившей невесте:
И вдруг в притёмке у входных дверей, на пороге, я вообразил себе чёрного молодого Фаддея с занесенным топором:
«Если б то не брат мой родной – порубал бы я вас обоих!»
Сорок лет пролежала его угроза в углу, как старый тесак, – а ударила-таки…
(142)
При всей жизненности истории Матрёны и Фаддея она точно совпадает с архаическим фольклорным сюжетом «муж на свадьбе жены», используемым в эпических песнях и сказках многих народов. В русском фольклоре это история о «неудачной женитьбе» Алеши Поповича. Отъезжая на подвиги, Добрыня Никитич завещает жене ждать его три года (шесть, девять, двенадцать лет); коли муж не вернется, жена вольна оставаться вдовой или выйти замуж: «Хоть за князя поди, хоть за боярина, / Хоть за русского могучего богатыря, / А только не ходи за брата моего названого, / За смелого за Алешу Поповича»[101]101
Добрыня Никитич и Алеша Попович. М.: Наука, 1974. С. 230.
[Закрыть]. Часто запрет мотивируется иначе (например, насмешливым нравом Алеши) или не мотивируется вовсе. Добрыня не успевает вернуться к сроку, либо жена получает весть о смерти мужа (иногда ее сознательно вымышляет Алеша, погубивший Добрыню, иногда доносит молва). Жена Добрыни идет замуж за Алешу (в некоторых вариантах – по настоянию князя Владимира), переодетый и изменивший внешность Добрыня появляется на пиру, жена узнает его (обычно по брошенному в ее чашу кольцу), оповещает о том всех пирующих, Добрыня вершит расправу над Алешей (иногда укорив, но простив жену и сосватавших ее от живого мужа князя и княгиню).
Примечательно, что в одном из наиболее известных вариантов былины (впервые опубликован в «Русских песнях, собранных П. Н. Рыбниковым»; выше цитировался именно этот текст) запрет на брак с Алешей (даже в случае смерти Добрыни!) связан с побратимством богатырей. В другой версии, напротив, их особые отношения спасают Алешу от смерти: «Хватил тут Добрыня Алёшу за желты кудри, / Ударил Алёшу о сыру землю: / – Кабы был, Алёша, не крестовый брат, / Придал бы тебе скоро смёртыньку»[102]102
Добрыня Никитич и Алеша Попович. М.: Наука, 1974. С. 271.
[Закрыть]. Так или иначе, но побратимство может оказываться значимым мотивом. Солженицыну могли быть известны оба цитированных выше текста – вариант, впервые опубликованный в «Онежских былинах, записанных А. Ф. Гильфердингом летом 1871 г.», не менее хрестоматиен, чем рыбниковский. В «Матрёнином дворе» сюжетные версии парадоксально совмещаются: Фаддей не убил родного брата[103]103
Его увела из мира живых вторая война с германцами, как когда-то Фаддея – первая. Тогдашняя «временная/мнимая смерть» старшего брата отзывается в рассказе пропажей без вести брата младшего. О сомнительном (погиб или сумел устроиться в чужом – мертвом – мире?) положении младшего брата читатель узнает раньше, чем о том, что прежде та же участь выпала брату старшему.
[Закрыть], а инородную для былины казнь провинившейся невесты (никак не жены!) свершил много лет спустя – и не своими руками.
О том, что Солженицын соотносил историю Матрёны с былинной, свидетельствует еще одна перекличка рассказа с рыбниковским вариантом, где трижды описывается «пустое» и быстро бегущее время ждущей мужа Настасьи Никуличны: «Как день за днем, будто дождь дожит, / Неделя за неделей, как трава растет, / А год за годом, как река бежит. / Прошло тому времени да три году, / Не бывал Добрыня из чиста поля»[104]104
Добрыня Никитич и Алеша Попович. М.: Наука, 1974. С. 230.
[Закрыть]. Ср. сперва о годах Первой мировой, а потом – о времени замужества Матрёны: «Да. Да… Понимаю… Облетали листья, падал снег – и потом таял. Снова пахали, снова сеяли, снова жали. И опять облетали листья, и опять падал снег. И одна революция. И другая революция. И весь свет перевернулся» (133). (Социальный катаклизм, сломавший судьбу России, так же парадоксально вписан в вечный кругооборот природно-крестьянского бытия, как роковая ошибка Матрёны.) «И шли года, как плыла вода… В сорок первом не взяли на войну Фаддея из-за слепоты, зато Ефима взяли» (135). Вновь страшные события нежданно входят в вечное течение жизни, вновь (хоть и по-другому) Матрёна теряет мужа – теперь нелюбимого, но навсегда.
Былина высвечивает русскость истории, случившейся в XX веке, но ее всеобщий сюжет открывает большую перспективу – подобно Добрыне, в последний миг успели попасть домой хитроумный Одиссей и бедный певец Ашик-Кериб, о котором русскому читателю рассказал Лермонтов. Только Матрёну жизнь не одарила тем счастьем, что в конце концов обрели Пенелопа, Настасья Никулична и Магуль-Мегери. Русский XX век жестоко поправил фольклорную схему, хотя и оставил ее распознаваемой.
Третью главу – поминовение Матрёны (сперва фальшивое, потом – истинное) – заключает пословица о праведнике, без которого «не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша» (148).
Пословица эта, как и свойственно паремийным текстам, может читаться двояко. Первый план: если нет праведника, то селу (городу, стране, миру) устоять не удастся. Ясно (и не раз отмечалось), что прочитанная так (и только так) пословица отсылает к истории Содома, о спасении которого Авраам тщетно молил Господа: в городе не нашлось и десяти праведников (Быт 18, 20–33). Но ударение в пословице можно поставить и иначе: нет такого села (города, страны), в котором не нашлось бы праведника, хотя его зачастую не видят – как не видели тальновцы (да и Игнатьич) праведности Матрёны.
Так понимал пословицу Лесков, предпославший ее (в церковнославянской огласовке) своему циклу рассказов о «хороших людях». В предисловии (появившемся впервые при рассказе «Однодум», 1879) Лесков рассказал, как удручили злые порицания, которые «один большой русский писатель», собираясь умереть уже «в сорок восьмой раз», низвергал на все вокруг: «По-вашему, небось, надо хороших писать, а я, брат, что вижу, то и пишу, а вижу я одни гадости ‹…› что же мне делать, когда я ни в своей, ни в твой душе ничего, кроме мерзости, не вижу…». Автор будущих рассказов о праведниках не мог принять воззрений собрата по литераторскому цеху (его прототип – А. Ф. Писемский, действительно «большой русский писатель» с явной склонностью к мизантропии):
«Как, – думал я, – неужто в самом деле ни в моей, ни в его и ни в чьей иной русской душе не видать ничего, кроме дряни? Неужто все доброе и хорошее, что когда-либо заметил художественный глаз других писателей – одна выдумка и вздор? (Этот вопрос очень важен для обсуждаемой литературности «Матрёнина двора»! – А. Н.) Это не только грустно, это страшно. Если без трех праведных, по народному верованию, не стоит не один город, то как же устоять целой земле с одною дрянью, которая живет в моей и твоей душе, мой читатель?»
Мне это было и ужасно, и несносно, и пошел я искать праведных, пошел с обетом не успокоиться, доколе не найду хотя то небольшое число трех праведных, без которых «несть граду стояния…
Лесков таких праведников нашел (куда больше, чем трех), хотя и завершил предисловие усмешливой оговоркой: «Праведны они, думаю себе, или неправедны, – все это надо собрать и потом разобрать: что тут возвышается над чертой простой нравственности и потому “Господу свято”»[105]105
Лесков Н. С. Полн. собр. соч. <В 36 т>. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1902. Т. 3. С. 73–75.
[Закрыть].
Я не знаю, прочел ли Солженицын к августу 1959 года (время работы над рассказом) лесковское предисловие к «праведническому» циклу, но его смысл автору «Матрёнина двора», безусловно, был близок. Память о Матрёне (как и о лесковских героях, тоже оставивших землю) должна быть сбережена для того, чтобы мы умели видеть окрест себя не одну лишь дрянь (которой с избытком было и в 1959 году), но и неприметных праведников. Для того чтобы мы и наши дети говорили (думали) на живом языке сказок, былин, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Некрасова, Лескова, а не «торфопродукта». Для того чтобы не постигла участь Содома и Гоморры «всю землю нашу». Между прочим, кроме русского смысла в этих словах есть и смысл буквальный – всемирный.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































