Текст книги "Проза Александра Солженицына"
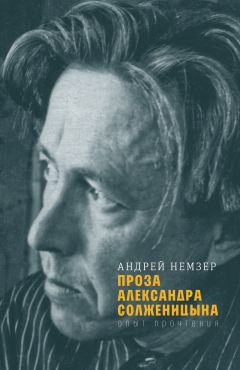
Автор книги: Андрей Немзер
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Тургеневский русский язык есть одновременно язык народа и язык величайших национальных писателей, язык всей русской словесности, строящий обыденную речь, фольклор, высокую литературу. Такое понимание языка, восходящее к немецкой философско-литературной традиции конца XVIII – начала XIX вв., подразумевает сложное взаимопроникновение национального и универсального начал. В «своем» открывается «всеобщее», что позволяет увидеть неестественность обычно воспринимаемого как норма социокультурного антагонизма, осознать русскую культуру в ее надсословном единстве. Эта установка обнаруживается у Тургенева уже в «Записках охотника», где рассказчику равно важны истории дворянские и крестьянские: первые оказываются при зримом универсализме обусловленными русским контекстом («Гамлет Щигровского уезда»), вторые при столь же очевидных русскости и социальной детерминированности – общечеловеческими (хотя Тургенев и вычеркнул из первоначального текста «Хоря и Калиныча» сравнение героев с Гёте и Шиллером[42]42
См. Тургенев И. С. Указ. соч. Т. 3. С. 447.
[Закрыть], прикровенная аналогия остается работающей; ср. также явно байронический характер Бирюка, романтический подтекст «Певцов» или «Бежина луга»).
Солженицын закономерно маркирует отсылки к Тургеневу и Некрасову. Именно с этими писателями традиционно (и вполне обоснованно) связывается открытие личностного начала (и соответственно права на сложные чувства и трагическую судьбу) в человеке из народа (прежде всего – крестьянине). Если универсализм Тургенева подразумевает синтез жизненных наблюдений и литературных традиций (европейской и русской), то у Некрасова место западной составляющей занимает национальный фольклор, сложно соотнесенный с господской литературой (всего нагляднее – в «Кому на Руси жить хорошо», но отнюдь не только там). Цитируя «Русский язык» и «Сельскую ярмонку», Солженицын сигнализирует читателю о менее явном присутствии в рассказе не только других сочинений Тургенева и Некрасова, но и иных русских фольклорных и литературных текстов – столь же известных, привычных, вошедших в культурно-языковую память. При этом отсылки к народной словесности и классике постоянно перемежаются, а один и тот же элемент солженицынского рассказа зачастую может (должен) прочитываться трояко – фактографически, фольклорно и литературно. С этой тройственностью мы сталкиваемся уже в заголовке.
Мы не знаем, как нарек бы Солженицын героиню рассказа, если б его мильцевская хозяйка звалась не Матрёной, а, скажем, Евдокией, Фёклой, Маврой или Анастасией. Факт тот, что сохраненное в рассказе имя прототипа для русского читателя – имя, прежде всего, некрасовское. Решив отыскать счастливицу, мужики слышат: «У нас такой не водится, / А есть в селе Клину: / Корова холмогорская, / Не баба! доброумнее/ И глаже – бабы нет. / Спросите вы Корчагину / Матрёну Тимофееву…». Героиня «Крестьянки» (название посвященного ей законченного повествования внутри «Кому на Руси жить хорошо», несомненно, символично) в изрядной мере соответствует и своей славе, и своему имени (в его начальном, римском значении): «Матрёна Тимофеевна / Осанистая женщина, / Широкая и плотная, / Лет тридцати осьми. / Красива, волос с проседью, / Глаза большие строгие, / Ресницы богатейшие, / Сурова и смугла». Подробно поведав о доставшихся ей истинном счастье и таком же горе, Матрёна говорит: «Что дальше? Домом правлю я, / Ращу детей… На радость ли? / Вам тоже надо знать. / Пять сыновей! Крестьянские порядки нескончаемы, / Уж взяли одного», вновь вспоминает все выпавшие ей страшные испытания и пересказывает притчу о навсегда затерянных «ключах от счастья женского»[43]43
Некрасов Н. А. Указ. соч. С. 119, 126–127, 186–187.
[Закрыть]. Любящая и любимая мужем, сумевшая спасти его от солдатчины, многодетная некрасовская Матрёна, разумеется, несопоставимо счастливее своей одинокой тезки, но ее судьба так же искорежена крепостным правом (и его следствиями), как судьба солженицынской героини – Первой мировой войной и дальнейшей страшной историей русского XX века. Обе они были сотворены для другой – лучшей – жизни.
Отсветы некрасовской поэзии (точнее – трагической апологии русской крестьянки) вспыхивают в рассказе не один раз. Упомянутое выше замечание о «грубой плакатной красавице» подготовлено первым описанием интерьера избы «с двумя яркими рублёвыми плакатами о книжной торговле и об урожае» (119–120). Некрасовская семантика этой детали раскрывается не сразу, но позднее – по введении цитаты (121). Если плакат о книжной торговле представлен достаточно конкретно, то об изобразительном ряде второго («урожайного») формально не сказано ничего. Между тем некрасовский подтекст первого плаката метонимически переходит ко второму, что обнаруживается, однако, несколько позднее. Сбор урожая – кульминация крестьянского года. В «Крестьянке» мужики встречаются с исполненной достоинства рачительной хозяйкой Матрёной Тимофеевной в пору жатвы. Завершение жатвы возникает в предсмертном видении другой некрасовской героини – Дарьи («Мороз, Красный нос»): «В сверкающий иней одета / Стоит, холодеет она, / И снится ей жаркое лето – / Не вся еще рожь свезена». Это высший миг былого (невозможного после смерти мужа, но когда-то – сущего) счастья крестьянки, красота, сила и суровое достоинство которой описаны в до дыр зацитированной главе IV первой части поэмы: «Есть женщины в русских селеньях…». Самая известная строка этой величальной главки – «Коня на скаку остановит»[44]44
Некрасов Н. А. Указ. соч. Т.4. С. 105, 80, 81.
[Закрыть] – развернута в эпизод «Матрёнина двора»: «Конь был военный у нас, Волчок, здоровый ‹…› он стиховой какой-то попался. Раз с испугу сани понёс в озеро, мужики отскакивали, а я, правда, за узду схватила, остановила» (127). Этот случай вспоминает, рассказывая о гибели Матрёны, Маша: «Что она там (на переезде, при обрыве троса. – А. Н.) подсобить могла мужикам? Вечно она в мужичьи дела мешалась. И конь когда-то её чуть в озеро не сшиб, под прорубь» (140). Последние действия Матрёны показывают, что отнюдь не так сильны были ее устойчивые страхи, упомянутые вслед за историей об укрощении коня: «Боялась она пожара, боялась молоньи, а больше всего почему-то – поезда» (128), что в следующем далее описании Матрёны напоминает сказочное (угадывается – огнедышащее) чудовище. Если в первой главке двустрочная некрасовская формула по отношению к Матрёне скорректирована, то в третьей она полностью восстанавливается в правах: смысловая сцепка «поезд – огонь» заставляет отождествить Матрёну на переезде с ее литературным прообразом, о котором сказано: «В горящую избу войдет». «Конскому» эпизоду предшествует рассказ о незаурядной физической силе молодой Матрёны (частично, несмотря на недуги, сохранившейся и в старости): «Все мешки мои были, по пять пудов тижелью не считала»; ср. у Некрасова: «Я видывал, как она косит: / Что взмах – то готова копна»[45]45
Некрасов Н. А. Указ. соч. Т.4. С. 80.
[Закрыть].
Сближение солженицынской Матрёны не только с ее тезкой[46]46
Укажу на еще одну частную, но потому показательную перекличку в историях двух Матрён. «Уж будто не колачивал?» / Замялась Тимофеевна: / – Раз только, – тихим голосом / Промолвила она» (Некрасов Н. А. Указ. соч. Т. 5. С. 138); Филипп единственный раз побил жену из-за того, что та не сразу дала башмаки его сестре (золовке Матрёны). Ср.: «Меня сам ни разику не бил ‹…› То есть был-таки раз – я с золовкой поссорилась, он ложку мне об лоб расшибил» (134).
[Закрыть], но и с Дарьей соотносится с возникающей в воображении Игнатьича (ср. видение Дарьи) картиной последних счастливых дней нынешней одинокой старухи: «…и вспыхнул передо мной голубой, белый и жёлтый июль четырнадцатого года: ещё мирное небо, плывущие облака и народ, кипящий со спелым жнивом. Я представил их рядом: смоляного богатыря с косой через спину; её, румяную, обнявшую сноп. И песню, песню под небом, какие давно уже отстала деревня петь, да и не споёшь при механизмах» (133). Но ведь только что-то подобное этой некрасовской картине и могло быть запечатлено на «урожайном» плакате. Даже если изображены там не молодые колхозники (идеологически правильные заместители по-разному утративших свою счастливую стать Фаддея и Матрёны), а еще более правильные механизмы (при которых не споешь), сельское торжество остается сельским торжеством, а яркие краски рублевых плакатов воспроизводят (пусть вульгарно) великолепное цветение истинной крестьянской жизни (той, что оборвалась в июле четырнадцатого). Сходным образом «грубая плакатная красавица» заменяет Матрёну, какой она могла (должна была) быть. Здесь одинаковы важны и пародийность, и двойничество как таковое.
Понятно, что, описывая книжный плакат в Матрёниной избе, Солженицын саркастически откликается на просветительские грезы Некрасова и других народных заступников. Книги Белинского, Гоголя и поставленного в ряд с ними официального борзописца присутствуют в доме Матрёны как бессмысленные детали призванной украсить беспросветную жизнь картинки, а их прообразы не сделали крестьян свободными и счастливыми. Вдумчивый истолкователь рассказа видит в книжном плакате страшный символ: «…“советское” (читай – лживое) проникло внутрь Матрёниного дома»[47]47
Лекманов О. А. Указ. соч. С. 331.
[Закрыть]. Проблема, однако, в том, что пошлые картинки не являются советским изобретением, а Некрасов, наивно мечтавший заменить «Белинским и Гоголем» аляповатые настенные украшения и такого же рода книжки, в то же время признавал их светлую роль в крестьянском бытии. Если во второй главе первой части «Кому на Руси жить хорошо» о лубочных картинках поэт говорит с презрением (а об их покупателях, мужиках, – с печалью), то в главе третьей («Пьяная ночь») он вынужден изменить интонацию. Накупив сыну картиночек, Яким Нагой «сам не меньше мальчика / Любил на них глядеть». Когда вспыхнул пожар, мужик, позабыв о накопленном за всю жизнь капитале (тридцати пяти серебряных рублях): «Скорей бы взять целковые, / А он сперва картиночки / Стал со стены срывать; / Жена его тем временем / С иконами возилася, / А тут изба и рухнула – / Так оплошал Яким! / Слились в комок целковики, / За тот комок дают ему / Одиннадцать рублей… / «Ой брат Яким, недешево / Картинки обошлись! / Зато и в избу новую / Повесил их небось?» // – Повесил – есть и новые, – / Сказал Яким – и смолк»[48]48
Некрасов Н. А. Указ. соч. Т. 5. С. 46.
[Закрыть].
Солженицын, безусловно, помнил и этот «картиночный» эпизод – он (с легким изменением) цитируется в третьей главке рассказа, когда избу готовят к прощально-поминальной церемонии. «И вот всю толпу фикусов, которых Матрёна так любила, что, проснувшись когда-то ночью в дыму, не избу бросилась спасать, а валить фикусы на пол (не задохнулись бы от дыму), – фикусы вынесли из избы ‹…› Сняли со стены праздные плакаты» (142). Для интеллигентного читателя фикус – такой же символ дешевой безвкусицы (мещанства), как и аляповатые картинки. Матрёна относилась к ним иначе. И это не знак ее дурного вкуса, бескультурья (об эстетической чуткости Матрёны говорится в словно бы необязательной музыкальной концовке первой главки) – это то же, что у Якима Нагого, инстинктивное стремление к красоте, пусть, с точки зрения читателя и даже рассказчика, ложной. Когда удрученному смертью Матрёны Игнатьичу кажется, что портрет по-гоголевски зловеще оживает («Разрисованная красно-жёлтая баба с книжного плаката радостно улыбалась» (141)), мы имеем дело с его реакцией – реакцией человека книжной (господской) культуры. Матрёна фальши и зла в ярко намалеванной красавице не видела (как и Игнатьич – покуда Матрёна была жива).
Принять миропонимание Матрёны полностью Игнатьич (и стоящий за ним автор) не может. Как не могли, искренне и глубоко сострадая крестьянину, видя в нем носителя высоких ценностей, признавая его духовную сложность, вполне отождествиться с ним ни Тургенев, ни Некрасов, ни Толстой (разве что в упрощающих интерпретациях, включая ленинскую). Матрёна – вопреки Р. Л. Джексону – не «русская икона», а человек со своей судьбой и своим характером. Праведность ее (так поздно открывшаяся рассказчику) не безгрешность и не поведенческая образцовость.
Потому и имя героини рассказа двоится – в точном соответствии с народной традицией. Исходно высокое, римско-материнское, имя это может наделяться иной семантикой – игровой, иронической, даже чуть солоноватой, хоть и добродушно окрашенной (матрёшка, ядрёна Матрёна, тётя Мотя). Таковы бедные, но щедрые (похоже – бессемейные и веселые) три Матрёны из песни солдата («Пир на весь мир»): «Только трех Матрён / Да Луку с Петром / Помяну добром. / У Луки с Петром / Табачку нюхнем, / А у трех Матрён / Провиант найдем. // У первой Матрёны / Груздочки ядрены, / Матрёна вторая / Несет каравая, / У третьей водицы попью из ковша: / Вода ключевая, а мера – душа!»[49]49
Некрасов Н. А. Указ. соч. Т. 5. С. 221. Некрасов использовал народные прибаутки, записанные им еще в середине 1840-х гг. (Там же. С. 681–682; комментарий О. Б. Алексеевой); скорее всего, знал он и восходящий к сходным фольклорным источникам пушкинский набросок (1833; впервые опубликован в «анненковском» издании, 1855), где доминирует тема доброй памяти: «Сват Иван, как пить мы станем, / Непременно уж помянем / Трех Матрён, Луку с Петром, / Да Пахомовну потом». – Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 3. С. 240.
[Закрыть]. Три Матрёны являют собой тип крестьянки, резко отличный от их тезки Тимофеевны и сходной с ней Дарьи, о которой сказано: «Она улыбается редко… / Ей некогда лясы точить, / У ней не решится соседка / Ухвата, горшка попросить; // Не жалок ей нищий убогий – / Вольно ж без работы гулять»[50]50
Некрасов Н. А. Указ. соч. Т. 4. C. 81.
[Закрыть]. Солженицынская Матрёна похожа и на эпических героинь Некрасова (такой она была задумана), и на трех бабенок (старушек? молодок?), что привечают бедолагу-солдата (а также пушкинских сватов и много кого еще); ср.: «Я мирился с этим (бедной деревенской едой. – А. Н.) ‹…› Мне дороже была эта улыбка её кругловатого (матрешечного. – А. Н.) лица…» (123).
Такое смысловое двоение, разумеется, присутствует и в заголовке, причем семантическая многомерность простейшего словосочетания (образованное от женского имени притяжательное прилагательное + существительное) открывается по мере прочтения рассказа. При первом знакомстве с текстом название (предложенное Твардовским и принятое Солженицыным вместо первоначального «Не стоит село без праведника») смотрится таинственно (ср. загадочность «увертюры»): и имя героини, и ее двор возникнут почти тремя страницами позже (119). Рассказ расшифровывает заглавье, выявляя его парадоксальность: двор изначально не Матрёнин (она пришла сюда после замужества); он не стал Матрёниным, хотя к тому был предназначен (замужество оказалось ошибочным и злосчастным); Матрёне выпадает участь хозяйки того, что «строено было давно и добротно, на большую семью» (119)[51]51
Ср. также словосочетание «безпритульная Матрёна» (135) – формально неверное (изба у Матрёны есть, говорится о ней в той же фразе!), но точное по существу.
[Закрыть]; дом, в котором «многое было под одной связью» (119), разрывается на части; в конце рассказа уже нет не только Матрёны, но и ее двора: «Избу Матрёны до весны забили, и я переселился…», дом на время становится нежилым, а дальнейшая его судьба неведома. Тождество двоящихся, гибнущих, но живых в памяти писателя (и его читателей) Матрёны и ее двора подразумевает тождество Матрёны и России (матери), заставляющее вспомнить последнюю из песен героя поэмы о поисках русского счастливца, превращающихся в поиски русского праведника: «Ты и убогая, / Ты и обильная, / Ты и могучая, / Ты и бессильная, / Матушка Русь! // В рабстве спасенное / Сердце свободное – / Золото, золото / Сердце народное»[52]52
Некрасов Н. А. Указ. соч. Т. 5. С. 233–234.
[Закрыть].
В начале рассказа (фактографически точно и символично датированном летом 1956 года – временем прихода относительной свободы) Игнатьич надеется отыскать Россию – «если такая где-то была, жила» (116). Восходящая к традиционному сказочному зачину формула в предложенных реальных обстоятельствах если не жестко указывает, то намекает на сомнительность успеха. Географическая Россия, расположенная «по сю сторону Уральского хребта» (116), став теперь досягаемой, не равна России искомой (истинной)[53]53
Ср. написанное в «вечной ссылке» стихотворение «Россия?» (1951): «Есть много Россий в России, / В России несхожих Россий. ‹…› Среди соплеменников диких / России я не нахожу… ‹…› В двухсотмиллионном массиве, / О, как ты хрупка и тонка, / Единственная Россия, / Неслышимая пока!..» (XVIII, 235–237).
[Закрыть]. Красота являет себя только в единстве природы и поэтического слова. Появляющийся в «увертюре» словно бы случайно топоним Муром ассоциируется с песенными лесами[54]54
И более скрыто – со старым богатырем, премудрой лесной девой и дорожкой, навсегда уводящей миленького.
[Закрыть], такими же, как упоминаемые ниже – некогда «дремучие, непрохожие», но теперь сведенные «под корень» (116, 117). Местечко Высокое Поле веселит душу идеальной гармонией фонетики, семантики и денотата (чарующего среднерусского пейзажа). Внутренняя речь присевшего в рощице рассказчика – «…только бы остаться здесь и ночами слушать, как ветви шуршат по крыше» – инструментована с ориентацией на знакомые строки (прежде всего – «Знакомым шумом шорох их вершин…»[55]55
Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 3. С. 314 («…Вновь я посетил…»).
[Закрыть]), но стиховая певучесть разбивается о грубую реальность, выраженную образцово-суровой прозой: «Увы, там не пекли хлеба. Там не торговали ничем съестным. Вся деревня волокла снедь мешками из областного города» (117).
Если в Высоком Поле поэзия противоречит реальности, то в Торфопродукте господствует вывернутая, отрицательная, гармония. Антимир рождает антиязык, неведомый Тургеневу. Некогда живой (перестоявший революцию) лес вытеснен лесом давно мертвым – торфом. Смысловая связка «вырубаемый лес – железная дорога» отсылает к наиболее мрачным страницам «Анны Карениной» – романа о переворотившейся жизни. Гротескный диалог официального объявления и двух выцарапанных «с меланхолическим остроумием» надписей, по сути, сводится к зловещему пророчеству, начертанному при входе в ад[56]56
Эта общеизвестная строка служит названием 91-й главы «дантовского» романа «В круге первом» (арест и первые лубянские впечатления Володина) (II, 654).
[Закрыть]. Торфопродукт с его дымом (фабричной трубы и паровозиков на узкоколейке), какофонией (свист паровозиков и угадываемая надрывающаяся радиола), серо-бурой окраской (торфяные плиты и брикеты), бараками (лагерные ассоциации), пьяными (блатарями, чертями), «подпыривающими» не только «друг друга» (117, 118) и есть ад в миниатюре[57]57
Как Высокое Поле – миниатюрный рай, в котором можно обитать лишь человеку до грехопадения (не обремененному заботой о пище). Описывая оба локуса, Солженицын использует уменьшительные суффиксы, обретающие прямо противоположные значения; ср.: «местечко», «ложки», «взгорки», «плотинка», «рощица» – с одной стороны (117) и «узкоколейка», «паровозики» – с другой; зловеще окрашены и странноватые глагольные формы со значением неполного действия – «пображивать», «подпыривать» (117), ориентированные на песенный фольклор и его имитации, где они обычно несут иную семантику.
[Закрыть]. Противопоставляется ему (как и другому аналогу ада – лагерю) не взыскуемая Россия (мечта), но недавно оставленное пространство ссылки, чужое, но сопряженное с вечностью: «А ведь там, откуда я приехал, мог я жить в глинобитной хатке, глядящей в пустыню. Там дул такой свежий ветер ночами и только звёздный свод распахивался над головой» (118).
Это пространство – безлюдное, поднебесное, свободное от мирского шума (и обычных человеческих чувств) – сходно с тем, что предстает в последних стихах поэта-изгнанника: «Выхожу один я на дорогу; / Сквозь туман кремнистый путь блестит; / Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, / И звезда с звездою говорит»; «И вот в пустыне я живу, / Как птицы, даром Божьей пищи; // Завет Предвечного храня, / Мне тварь покорна здесь земная; / И звезды слушают меня, / Лучами радостно играя»[58]58
Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6 т. М., Л.: Издательство Академии наук СССР, 1954. Т. 2. С. 208, 212.
[Закрыть]. «Я» предсмертной лермонтовской лирики не обретает покоя в пустыне изгнания («Что же мне так больно и так трудно…»; пророк почему-то вновь и вновь попадает в «шумный град»). Незадолго до стихов о ночной божественной пустыне были написаны стихи о пустыне (долине) в «полдневный жар», где место чаемого блаженного бытия меж смертью и жизнью занято «мертвым сном»[59]59
Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6 т. М., Л.: Издательство Академии наук СССР, 1954. Т. 2. С. 197.
[Закрыть]. Прохлада и зной лермонтовского Востока[60]60
Ср. ту же мнимую антитезу у Солженицына; прежде воспоминаний о свежем ветре и звёздном своде в рассказе говорится о «пыльной горячей пустыне» (116).
[Закрыть], простирающегося от Кавказа до Аравии («Спор»), взаимозаменяемы, ибо неразрывно связаны с меняющей обличья, то влекущей, то страшащей, но не знающей альтернативы смертью. Приязнь к земному бытию и «здешнее» (пусть недолгое) освобождение от тревоги и рефлексии связаны со «странною любовью» к отчизне – огромной, незнакомой, обрекающей странника на долгое одиночество, но вдруг сжимающейся в обыкновенную, обозримую и почти осязаемую деревню (или двор?) – с полным гумном и избой, покрытой соломой[61]61
Лермонтов М. Ю. Указ. соч. С. 177.
[Закрыть]. Этот «малый» мир «нутряной России» (России по-лермонтовски большой, а потому позволяющий «затесаться и затеряться» в ней) ищет солженицынский рассказчик.
И находит, услышав русскую речь, – ту, что слышали Лермонтов[62]62
Лермонтовский «говор пьяных мужичков» в Торфопродукте не слышен (как и вообще человеческая речь). Там гремят другие (механические) звуки, а пьяные – вопреки требованиям жизнеподобия – даже не сквернословят и песен не горланят. Но слово им не будет предоставлено и дальше. Тальновский пейзаж (предвестье встречи с Матрёной) описан скорее в тональности «Отрывков из путешествия Онегина», чем чуть более сочного финала «Родины». «Так мы дошли до высыхающей подпруженной речушки с мостиком. (Вновь знакомые по пейзажу Высокого Поля деминутивы. – А. Н.). Милей этого места мне не приглянулось во всей деревне; две-три ивы, избушка перекособоченная, а по пруду плавали утки, и выходили на берег гуси, отряхиваясь» (118); ср.: «Иные нужны мне картины: / Люблю песчаный косогор, / Перед избушкой две рябины, / Калитку, сломанный забор, / На небе серенькие тучи, / Перед гумном соломы кучи – / Да пруд под сенью ив густых, / Раздолье уток молодых…» Откровенно цитируя Пушкина, Солженицын опускает последние восемь строк, не менее памятные, чем первые: «Теперь мила мне балалайка / Да пьяный топот трепака / Перед порогом кабака. / Мой идеал теперь – хозяйка, / Мои желания – покой, / Да щей горшок, да сам большой» (Пушкин А. С. Указ. соч. Т. 5. С. 174). «Недоцитата» (слово М. В. Безродного) возникает здесь по двум причинам. Во-первых, рассказчик не найдет (и не надеется найти) в Тальнове «хозяйку» и дом, в котором будет «хозяином»; силой вещей он так же далек от «самодостаточности» (свободы) бытия, как и Матрёна. (Курсивом у Пушкина дана переведенная в четырехстопный ямб – и тоже «недоцитированная» – строка «Сатиры V. На человеческие злонравия вообще. Сатир и Периерг»: «Щей горшок, да сам большой, хозяин я дома». – Кантемир Антиох. Собр. стихотворений. Л.: Советский писатель, 1956. С. 137.) Во-вторых же, Солженицын слишком хорошо помнит пьяных Торфопродукта, чтобы включить их в поэтический мир. Описанные в рассказе празднества и застолья практически бессловесны (сестры, навестившие Матрёну в Крещенский вечер – сразу после случившейся с ней беды, пропажи котелка с освященной водой, – лишь пляшут да называют Матрёну «лёлька или нянька»; перед перевозом горницы громкая похвальба выпивающих сливается со стуком стаканов и звяканьем бутылки – собственно слова в текст не введены) или оркестрированы пустыми и фальшивыми словами (на поминках звучат ритуализованные молитвы, знаточеская болтовня «золовкина мужа» о церковной службе и его же «патриотическая» демагогия).
[Закрыть] и Тургенев. Эпизод с молочницей, с одной стороны, возвращает нас к тургеневскому стихотворению в прозе (есть язык – есть народ), с другой – отсылает к эпизоду испытания героя волшебной сказки потенциальным дарителем на границе «мира мертвых» (часто – «леса»). Досягнув пограничного локуса (избушки Бабы Яги) герой должен доказать свою «мертвость» – скрыть идущий от него «русский дух» (= дух живого человека), заговорить со страшной хозяйкой (на ее языке, что в сказке не манифестируется), вкусить чужую пищу (питье)[63]63
Подробнее см.: Пропп В. Я. Морфология / Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 1998. С. 151–163.
[Закрыть] – и тем самым добиться помощи Яги. Солженицын эту ситуацию частью воспроизводит, частью инвертирует. Рассказчик (человек из другого мира – зауральского, лагерно-ссылочного, «дальнего») пьет молоко, но не начинает говорить на каком-то особом языке[64]64
Ср. точно воспроизводящий сказочную модель, но пародийно окрашенный эпизод «Ночи перед Рождеством». Попавшие в Петербург (аналог «инишного царства») запорожцы и Вакула демонстрируют друг другу свою языковую компетентность: «Что ж, земляк, – сказал, приосанясь, запорожец и желая, что он может говорить и по-русски. – Што балшой город?
Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком; притом же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык. “Губерния знатная! – отвечал он равнодушно, – нечего сказать, домы балшущие, картины висят скрозь важные. Многие домы исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорция”». – Гоголь Н. В. Указ. соч. Т. 1. С. 176.
[Закрыть], а его слышит. В словах молочницы «Пей, пей с душою желадной. Ты, потай, приезжий?» живет единство звука (отмечена умильность интонации), смысла (скорее угадываемого, чем отчетливо внятного[65]65
В языковом плане это наиболее выразительное место рассказа. За рамки литературной нормы выходят и фонетика (диссимиляция в слове «желадный», видимо обусловленная гиперкоррекцией: «желадный» вместо «желанный» по аналогии с «медный» при неверном «менный»), и лексика (загадочное без обращения к словарю слово «потай»), и фразеологизм, не поддающийся пословной расшифровке («с душою желадной»), и передающая разговорную интонацию пунктуация (наречие «потай», то есть «тайно, обособлено запятыми). В дальнейшем народная речь подается не столь густо, хотя первые реплики Матрёны тоже лингвистически маркированы: «…держит два-дни и три-дни, так что ни встать, ни подать я вам не приспею» (заметим, впрочем, городское обращение на «вы», потом из речи Матрёны ушедшее, – «Прости, Игнатьич»); «Не умемши, не варёмши – как утрафишь» (119, 137, 120).
[Закрыть]) и мира, который наделил собеседницу рассказчика таким языком. (Ср. выше о названии Высокое Поле.)
Об этом мире рассказчик узнает от молочницы (ср. в сказках утренние напутствия Яги-помощницы Ивану-царевичу). Она по-прежнему «напевает умильно» на своем языке, но в рассказе прямая речь заменена косвенной – повествователь овладевает языком собеседницы:
И узнал, что не всё вокруг торфоразработки, что есть за полотном железной дороги – бугор, а за бугром – деревня, и деревня эта – Тальново, испокон она здесь, ещё когда была барыня-«цыганка» и кругом лес лихой стоял. А дальше целый край идёт деревень: Часлицы, Овинцы, Спудни, Шевертни, Шестимирово – всё поглуше, от железной дороги подале, к озёрам.
Ветром успокоения потянуло на меня от этих названий. Они обещали мне кондовую Россию.
(118)
Уже зачинное «и» (фольклорное и/или старокнижное) контрастирует с выморочным словарем оставляемого адского пространства («торфоразработки» – неологизм, неизвестный Тургеневу; «полотно железной дороги» – оксюморон, ставший стертым клише). Как и герой волшебной сказки, рассказчик обретает возможность пересечь границу, но в отличие от фольклорного прообраза он движется не из своего пространства в чужое[66]66
Сказочный лес (и его аналоги) – загробный мир. Герой отправляется туда, дабы, одержав победу (освободив или похитив невесту, добыв волшебный предмет), ликвидировать временное повреждение в мире живых, где с его возвращением (воцарением-свадьбой) восстанавливается гармония, нарушенная в начале сказки вредительством потусторонних сил.
[Закрыть], а из чужого – в свое (некогда утраченное). Он не вынужденно скрывает свой «русский дух», а возвращается в его пристанище. На ту же смысловую инверсию архаической пространственной оппозиции указывает деталь ландшафта («бугор»), отсылающая к общеизвестному фрагменту литературного памятника, традиционно почитаемого первым и основополагающим текстом отечественной словесности: «О Русьская земле! уже за шеломянем еси!»[67]67
Слово о полку Игореве. Л.: Советский писатель, 1985. С. 24. Этот призвук «Слова…» в «Матрёнином дворе», судя по всему, расслышал замечательный поэт и автор проницательных работ об обсуждаемой формуле («Между шеломянем и Соломоном? К вопросу о связи между “Задонщиной” и “Словом о полку Игореве”») и прозе Солженицына («Великолепное будущее России», «Поэзия и правда у Солженицына» и др.). На игре с многозначностью предлога «за» (с которой связана трансформация оборота из «Слова…» в «Задонщине») строятся «Вариации для бояна», насыщенные реминисценциями раннего Солженицына («Не заутрени звон, а об рельс «подъем»; «Помнишь ли землю за русским бугром?») и развивающие тему извращения языка (изнасилования России). Соблазнительно предположить в этой связи присутствие автора «Матрёнина двора» в закурсивленной мною строке финала: «О, Русская земля, ты уже за бугром! / Не моим бы надо об этом пером, / но каким уж есть, таким и помянем / ошалелую землю – только добром! – / нашу серую землю за шеломянем». – Лосев Лев. Солженицын и Бродский как соседи. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. С. 7; ср.: Там же. С. 8–13, 283–378.
[Закрыть].
Пространство, в которое попадает рассказчик, один исследователь описывает как сказочное, а другой – как исконно русское (оба, разумеется, говорят о постигшей мир Матрёны порче)[68]68
Джексон Р. Л. Указ. соч. С. 550–551; Лекманов О. А. Указ. соч. С. 329–330. Отмечу не зафиксированный коллегами (хотя работающий на их концепцию) фольклорный подтекст еще одной топографической детали; конструкция «…подале, к озёрам» вызывает ассоциации с легендой о граде Китеже, ушедшем под воду и так сохранившем в годину бедствий русскую святость.
[Закрыть]. Не оспаривая значения первопроходческих работ (стимулировавших и мои соображения), замечу, что в первой невольно игнорируется бинарность сказочного пространства (оппозиция «свое – чужое» снимается, в то время как Солженицын ее трансформирует), а во второй «русское» (тоже невольно) приравнивается, условно говоря, к «идиллическому». Между тем Солженицын вовсе не склонен видеть в старой России (при всей любви к ней и полном неприятии революции, неизбежно ведущей к «советчине») страну всеобщего счастья, покоя и благоденствия.
Не обращаясь к анализу эволюции исторических воззрений Солженицына, приведу несколько примеров из «Матрёнина двора», свидетельствующих о печальной трезвости отношения писателя к прошлому. «Но потому, должно быть, пришла она (неудобная для стряпни русская печь. – А. Н.) к нашим предкам из самого каменного века, что, протопленная раз на досветьи, весь день хранит в себе тёплыми корм и пойло для скота, пищу и воду для человека. И спать тепло» (122). «Что ж, воровали раньше лес у барина, теперь тянули торф у треста» (124). «Своего рода политика» (143), которую рассказчик слышит в плачах над покойницей, – неотъемлемая особенность жанра причитаний, сложившегося задолго до бедствий XX века. Да и «добром нашим, народным или моим» стал «странно» называть «язык имущество наше» (145) не после (вследствие) революции – заданное по миротворении Создателем единство материального и духовного («И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма» – Быт 1,31; в церковнославянском тексте – «добро зело») распалось с грехопадением (началом земной истории). Злосчастья Матрёны (и Фаддея!) начались со вступления царской (барской) России в Первую мировую войну – в этой связи «Матрёнин двор» должно рассматривать как смысловое зерно «Красного Колеса», первое воплощение в слове солженицынской версии трагедии XX века.
Праведников мало было всегда. Любые бедствования могут исказить человеческую сущность. Любые, а не только новейшие, как бы жестоки они ни были. Игнатьич недоуменно выслушивает Машу, пекущуюся сразу после смерти Матрёны о вязанке для Таньки; он с болью и презрением говорит о своекорыстии Матрёниных сестер (кстати, эпизод этот подан в фольклорной тональности: «Слетелись три сестры Матрёны, захватили избу, козу и печь, заперли сундук её на замок…» (143))[69]69
Кроме синтаксического параллелизма (что чуть ниже отзовется в плаче сестер), очевидна близость «захватчиц» сестрам-вредительницам из сюжетов того типа, что представлены в сказках «Финист – ясный сокол», «Аленький цветочек» или пушкинской о царе Салтане. Сказочные мотивы, однако, последовательно корректируются: сестры не старшие, а младшие; их не две, а три (то есть вместе с Матрёной – четыре; зловеще переосмысливается фольклорная «троичность»); завидуют и вредят они не счастливице, а героине, уже безжалостно обделенной судьбой; грех, за который много лет спустя расплачивается Матрёна, совершен не по сестринскому наущению (рассказывая о замужестве, Матрёна вовсе не упоминает свою родню); злобное торжество в конце концов добившихся своего сестер прямо противоположно счастливым сказочным финалам, часто включающим мотив прощения злодеек (ср. посмертную неприязнь близких к одинокой и за гробом героине).
[Закрыть]; еще яростнее обличается Фаддей, который после смерти сына и некогда любимой им женщины (для рассказчика – случившихся по вине старика) захвачен одной думой – «спасти брёвна горницы от огня и от козней Матрёниных сестёр» (145). Читатель не может не разделить чувств Игнатьича. Но строй рассказа (включенность текста в большую традицию) заставляет нас осторожнее отнестись к жадности персонажей. «…в Черустях, чтобы получить и удержать участок земли (вечная крестьянская мечта. – А. Н.), надо было молодым поставить какое-нибудь строение. Шла для этого вполне Матрёнина горница. А другого нечего было и поставить, неоткуда лесу взять» (135). Как неоткуда взять (живучи среди лесов и полей) торфа или сена для козы – только украсть. Что и вынуждены делать тальновские бабы. Жадность Маши, сестер Матрёны, Фаддея столь же вынужденная, не вчера в крестьянские души вошедшая[70]70
Между прочим, Ефим сватает Матрёну летом 1917 года – то есть в ту самую пору, когда мужики, не дожидаясь декретов, бросились на господские земли. А для того «рук у них (Григорьевых, потерявших мать и полагавших погибшим старшего сына. – А. Н.) не хватало».
[Закрыть] и могущая вызывать не только изумленное отторжение, презрение, гнев, но и сострадание. Как тут не вспомнить про щи, которые хлебала баба, схоронившая единственного сына:
И вспомнила тут барыня, как, потеряв несколько лет назад девятимесячную дочь, она с горя отказалась нанять прекрасную дачу под Петербургом – и прожила целое лето в городе! ‹…› – Татьяна! – промолвила она. – Помилуй! Я удивляюсь! Неужели ты своего сына не любила? Как у тебя не пропал аппетит? Как можешь ты есть эти щи!
– Вася мой помер, – тихо проговорила баба, и наболевшие слезы снова побежали по ее впалым щекам. – Значит, и мой пришел конец; с живой с меня сняли голову. А щам не пропадать же: ведь они посоленные[71]71
Тургенев И. С. Указ. соч. Т. 10. С. 152.
[Закрыть].
Разница меж тургеневской вдовой и солженицынскими персонажами велика[72]72
Впрочем, так ли далеко отстоит от осиротевшей Татьяны Маша, у которой осталась Танька?
[Закрыть] – как меж царской и подсоветской Россией. Но есть и общность – они живут в одной стране.
В эту страну, о судьбе, укладе, красоте, праведности, бедах, грехах и трагедиях которой можно и должно говорить на языке Тургенева (русской литературы), и попадает рассказчик. Это его страна, в которой испокон было (и по сей день сохранилось) много всякого. Перечень деревень с полупонятными, но ласковыми старинными названиями – добрая вариация печального (и совершенно в каждой позиции ясного) топонимического ряда из некрасовской поэмы о поисках счастья и обретении России. Той России, что способна выстоять, – как конда, «боровая (не болотная) сосна, крепкая, мелкослойная и смолистая, растущая на сухом месте», одарившая русский язык прилагательным «кондовый» – «крепкий, плотный и здоровый, не трухлявый»[73]73
Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка: <В 4 т.>. М.: Русский язык, 1979. Т. 2. С. 150 (факсимильное издание).
[Закрыть]. Солженицын вводит в текст оборот «кондовая Россия» демонстративно-полемически. Определение и определяемое обрекались на гибель вместе: «Товарищ, винтовку держи, не трусь! / Пальнем-ка пулей в Святую Русь – // В кондовую, / В избяную, / В толстозадую»[74]74
Блок Александр. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М.: Наука, 1999. Т. 5. С. 12. В поэме «Двенадцать» призыв этот «карнавально» исполняется убийством Катьки – «толстоморденькой». Эти ассоциации не могли не возникнуть в рассказе, где Россию символизируют разрушаемая изба и женщина, погибшая (убитая) на железной дороге (ср. эту же проекцию России в соответствующем стихотворении Блока).
[Закрыть]. Когда угроза сбылась, поэтический эпитет был перемещен в ернический регистр – всерьез использовать подобные слова могут только нелепые и сомнительные персонажи из «бывших»:
– Ах, – сказал Лоханкин проникновенно, – ведь в конце концов кто знает? Может быть, так надо. Может быть, в этом (порке, которой хотели подвергнуть обитатели «Вороньей слободки» своего «интеллигентного» соседа. – А. Н.) великая сермяжная правда.
– Сермяжная? – задумчиво повторил Бендер. – Она же посконная, домотканая и кондовая?[75]75
Ильф И., Петров Е. Собр. соч.: В 5 т. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1961. Т. 2. С. 156. Отсылка к этому эпизоду «Золотого теленка» открывает 66-ю главу романа «В круге первом»: «Дружбу Нержина с дворником Спиридоном Рубин и Сологдин благодушно называли “хождением в народ” и поисками той самой великой сермяжной правды, которую ещё до Нержина тщетно искали Гоголь, Некрасов, Герцен, славянофилы, народники, Достоевский, Лев Толстой и, наконец, оболганный Васисуалий Лоханкин» (II, 482).
[Закрыть]
Солженицын возвращает слову «кондовый» высокое значение, отнятое у него Блоком и авторами «Золотого теленка»[76]76
Или двумя романными персонажами?
[Закрыть].
Так рассказчик попадает (возвращается) в мир, жизнь которого по-прежнему отражается в многоголосом русском языке и воспринимается при свете многоголосой же русской словесности; «сказка» и «идиллия» (чаемая или обреченная гибели) входят в его состав наряду с другими жанрами, топосами, традиционными стилистическими блоками, сюжетными ходами, психологическими типами, идеологическими комплексами. За натуралистическим (повернутым к быту) продолжением разговора с молочницей (характерно появление закурсивленного автором глагола «воспитывать» в непривычном значении, архаизм превратился в неловкое просторечие) следует выдержанный в тех же бытовых тонах рассказ о тщетных поисках жилья (дважды употреблено неуместное для идиллического пространства слово «квартирант»), переходящий в лирическую зарисовку – описанную вариацию строфы «Отрывков из путешествия Онегина» и «Родины». Возможно, лермонтовские обертоны этого пейзажа скрыто мотивируют решающий поворот сюжета первой главы: «Ну, разве что к Матрёне зайдём, – сказала моя проводница, уже уставая от меня. – Только у неё не так уборно, в запущи она живёт» (119); ср.: «…и стал требовать казенную квартиру. К которой избе не подъедем – занята. Было холодно, я три ночи не спал, измучился и начинал сердиться. “Веди меня куда-нибудь, разбойник! хоть к черту, только к месту!” – закричал я. “Есть еще одна фатера, – отвечал десятник, почесывая затылок: – только вашему благородию не понравится, там нечисто”»[77]77
Лермонтов М. Ю. Указ. соч. Т. 6. С. 250.
[Закрыть]. Мотивная близость фрагментов (фактура[78]78
Не только пути к цели, но и (правда, в меньшей мере) обочинного местоположения и интерьера «фатер». Любопытно, что в первом описании избы Матрёны не упоминаются иконы (119), о них речь заходит ниже: «Был святой угол в чистой избе, и иконка Николая Угодника в кухоньке» (129); ср. «На стене ни одного образа – дурной знак!» – Лермонтов М. Ю. Указ. соч. С. 251.
[Закрыть], развитие действия, состояние и поведение персонажей) так же очевидна, как различие их сюжетных функций (Печорина ждет очередное опасное приключение, Игнатьича – временный покой), но завершает Солженицын эпизод осмотра жилища лермонтовской темой судьбы: «Но я уже видел, что жребий мой был – поселиться в этой темноватой избе…» (119).
Память о двупланности «Тамани»[79]79
Чертыхание Печорина позволяет десятнику отвести его в место «нечистое» – отнюдь не в смысле санитарии (или комфорта), как подумалось странствующему офицеру. И даже не в смысле полицейском: «честные контрабандисты», безусловно, наделены демоническими чертами, новелла строится на двойных мотивировках, ирония повествователя – устойчивая примета как фантастической прозы, так и ее изводов, якобы дающих чудесным событиям разумное истолкование. О двуплановости «Тамани» см.: Лотман Ю. М. Три заметки о Пушкине. 1. «Когда же черт возьмет тебя» // Лотман Ю. М. Пушкин. СПб.: Искусство-СПБ., 1995. С. 341; ср. также: Жолковский А. К. Семиотика «Тамани» // Жолковский А. К. Очные ставки с властителем: Статьи о русской литературе. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2011. С. 139–145.
[Закрыть] вновь актуализирует сказочную семантику недавно описанной приграничной встречи. Так и далее: проводница управляется с «завёрткой», «нехитрой затеей против скота и чужого человека» (119) – так Иван-царевич обращается с избушкой на курьих ножках, доказывая ей, что он не чужой, а свой. Впервые Игнатьич застает Матрёну в позиции Бабы Яги[80]80
Это мерцающее уподобление будет возникать и ниже:
«– Доброе утро, Матрёна Васильевна.
И всегда одни и те же доброжелательные слова раздавались мне из-за перегородки. Они начинались каким-то низким тёплым мурчанием, как у бабушек в сказках:
– М-м-мм… также и вам.
И немного погодя:
– А завтрак вам приспе-ел» (122).
Трудно не вспомнить здесь эпизоды пробуждения Ивана-царевича в избушке Яги. Сходство Матрёны с «лесной хозяйкой» приметно и в рассказе о ее походах за торфом и по ягоды (124).
[Закрыть]: «Когда я вошёл в избу, она лежала на русской печи, тут же, у входа, накрытая неопределённым тёмным тряпьём, таким безценным в жизни рабочего человека» (119). Но не менее важна другая мягко введенная аналогия:
Я отправился по этой тропинке (ведущей к оврагу на краю сада. – А. Н.); дошел до пасеки. Рядом с ней стоял плетеный сарайчик, так называемый амшаник, куда ставят улья на зиму. Я заглянул в полуоткрытую дверь: темно, тихо, сухо; пахнет мятой, мелиссой. В углу приспособлены подмостки, и на них, прикрытая одеялом, какая-то маленькая фигура ‹…› Я приблизился – и остолбенел от удивления. Передо мной лежало живое человеческое существо, но что это было такое?
Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая – ни дать ни взять икона старинного письма; нос узкий, как лезвие ножа; губ почти не видать, только зубы белеют и глаза, да из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых волос ‹…› Я вглядываюсь попристальнее: лицо не только не безобразное, даже красивое – но страшное, необычайное. И тем страшнее кажется мне это лицо, что по нем, по металлическим его щекам, я вижу – силится… силится и не может расплыться улыбка[81]81
Тургенев И. С. Указ. соч. Т. 3. С. 327–328.
[Закрыть].
Черная немочь обошлась с Лукерьей страшнее, чем с Матрёной – та не утратила способности улыбаться. Не стала она «живыми мощами», только лицо у нее «жёлтое» и глаза «замутнённые». И не всегда лежит ничком (как при первом разговоре с Игнатьичем) – недуг томит по три дня, а потом отступает. Да и прожила Матрёна в неустанных трудах больше шестидесяти лет, а не умерла молодой, как несколько лет промучившаяся Лукерья. Но сходство (на которое и намекает близость мизансцен) важнее различий. Лукерья и Матрёна были созданы для иной жизни – счастливой и полной любви. Любовь сгубила Лукерью – она оступилась (как оказалось – насмерть), услышав в соловьином пении зов жениха. Любовь к Фаддею, которой «согрешившая» Матрёна осталась верна и долгие годы спустя, заставляет ее не только отдать горницу, но и погибнуть на переезде. Мучения Лукерьи и Матрёны не отняли у них добрых чувств и благодарной памяти о минувших светлых днях. Они сумели сберечь свои души, красота которых светит сквозь нынешние скорбные обличья. Тургеневский рассказчик с ужасом понимает: «Эта мумия – Лукерья, первая красавица во всей нашей дворне, высокая, полная, белая, румяная, хохотунья, плясунья, певица!»[82]82
Тургенев И. С. Указ. соч. Т. 3. C. 328.
[Закрыть] Похожую на такую Лукерью, истинную Матрёну Игнатьич увидит зимним вечером. От первых слов недужной старухи о дальнем прошлом преобразится ее лицо, а с ним и обветшалая изба:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































