Текст книги "Проза Александра Солженицына"
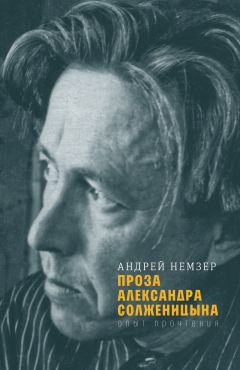
Автор книги: Андрей Немзер
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
ГЛАВА V. Колесо в Круге
Вопрос о присутствии в первом романе Солженицына его заветной книги, на первый взгляд, решается просто. Отвергнув предложение Веренёва, Нержин, по сути, провоцирует свое скорое изгнание из «первого круга». Главный герой романа предпочитает писательскую стезю (пусть ведущую сейчас в бездну ГУЛАГа) сулящей относительное благополучие, но иссушающей мозг математике; пишет же он книгу о русской революции. О том, что Нержин занят именно этим сюжетом, читатель узнает не сразу. Сперва автор сообщает, что беспорядок на рабочем столе, символизирующий «застывший ураган исследовательской мысли», был «чернухой», а «Нержин «темнил по вечерам на случай захода начальства» (34). Затем в той же главе Рубин спрашивает друга «Ты – своим – занят?» (36). Местоимение указывает на личный характер занятий Нержина, но никак их не характеризует: в принципе «своим» может быть не только литературный труд[141]141
Ср. сходную неопределенность в рассказе «Матрёнин двор»: «По ночам, когда Матрёна уже спала, а я занимался за столом ‹…› Лишь поздно вечером, когда я думать забыл о старике и писал своё в тишине избы…» (I, 121, 132); подробнее в главе II этой книги «Русская словесность на Матрёнином дворе».
[Закрыть]. Слушая Веренёва,
Нержин думал о тех мелко исписанных листиках, которые так безмятежно было насыщать, обложась бутафорией, под затаённо-любящие взгляды Симочки, под добродушное бормотание Льва. Эти листики были – его первая зрелость.
Конечно, завиднее достичь зрелости в своём исконном предмете. Зачем, кажется, ему головой соваться в эту пасть, откуда и историки-то сами уносят ноги в прожитые безопасные века? Что влечет его разгадать в этом раздутом мрачном великане, кому только ресницею одной пошевельнуть – и отлетит у Нержина голова?
(59–60)
Теперь мы понимаем, что «листики» героя связаны с новейшей историей, но указания на конкретный период еще нет. Читатель, обращающийся к роману впервые, вполне может предположить, что Нержин пишет о собственном недавнем прошлом, о пути своего поколения, двигавшегося от юношеского энтузиастического идеализма через войну к сегодняшнему – лагерному – бытию, то есть нечто вроде повести «Люби революцию». Упоминание «мрачного великана» и исходящей от него смертельной угрозы такой гипотезе не противоречит: для советского государства поколенческая рефлексия «декабристов без декабря» так же опасна и преступна, как постижение большой истории, восстановление оболганной и мифологизированной реальности, которым захвачен Нержин. Точка над i ставится в разговоре Нержина с Сологдиным. Узнав об отказе друга от перехода в криптографическую группу, Сологдин спрашивает: «Но если тебя сейчас отправят в лагерь ‹…› как же будет с твоей работой по Новому Смутному Времени? (Это значило – по революции.)» (184). Вопрос наконец открывает читателю замысел Нержина и позволяет понять выбор героя. Там, где обыденное сознание видит противоречие (шарашка более благоприятна для творчества, чем лагерь, а Нержин готов ее покинуть), для опытных и непримиримых зэков его нет: разъяснения Нержина принимаются Сологдиным без возражений. На самом деле позиции собеседников далеко не тождественны. Свидетельством тому не только дальнейшее поведение Сологдина (согласие отдать властям шифратор, дабы таким образом выйти из тюрьмы), но и его первая реакция на решение Нержина: «Ты ведёшь себя не как исчислитель, а как пиит» (179).
Нержин и дальше будет вести себя «как пиит», что точно соответствует центральной теме первого солженицынского романа – истории рождении писателя[142]142
Подробнее в главе «Жизнь и поэзия в романе “В круге первом”».
[Закрыть]. Эта скрытая тема определяет разработку обеих сюжетных линий романа – собственно нержинской и володинской (поэтически угадываемой Нержиным-персонажем в рождественские дни 1949 года и детально реконструируемой Нержиным-«автором» несколько лет спустя). Очевидно, что для романа о выборе писательской стези (осознании миссии) отнюдь не безразлично, каким сочинением герой-писатель занят[143]143
Так судьба булгаковского мастера определяется романом о Понтии Пилате, а Годунов-Чердынцев вполне становится собой не после дебютного сборника стихов или даже биографии Чернышевского, «заместившей» ненаписанную историю отца, но в процессе работы над книгой, которую можно отождествить с самим «Даром». Подобные – обнаруживающиеся в финалах – отождествления истории сочинения (или якобы несочинения) какой-то книги, посвященной жизни героя-автора, с явленным читателю текстом определяют смысловую структуру таких значительных и разных романов конца XX века, как «Ожог» Василия Аксенова, «Время и место» Юрия Трифонова, «Андеграунд, или Герой нашего времени» Владимира Маканина, «Закрытая книга» Андрея Дмитриева. Усматривать здесь исключительно влияние Набокова, на мой взгляд, значит существенно упрощать общее движение новейшей русской литературы. Так в одной из «вставных новелл» романа Дмитриева (измысленных, как и все остальные, героем-рассказчиком, который и претворяет свою и чужие судьбы в «Закрытую книгу») умирающий филолог Плетенев (наделенный распознаваемым сходством с Тыняновым) размышляет о хозяевах страны, что «возомнили себя бессмертными». «Но тут они оплошали. Смерть не род наказания и болезнь не род наказания, скорее род назидания. Они поймут это вполне, когда окажутся в этих больничных садах и в душных, дурно пахнущих, натемно занавешенных палатах… “А ведь сюжет ‹…› И не случайный ведь, неизбежный сюжет. Кто-нибудь непременно сочинит роман или пьесу на этот сюжет… лучше роман. Пусть не сейчас сочинит, пусть потом… а жаль, что не прочту”». Маловероятно, что реальный Тынянов в предсмертном бреду разглядел будущего «неведомого романиста ‹…› со шкиперской бородкой» и «веселым и подвижным лицом» и дал ему несколько советов для будущей книги о «болезни как назидании» и неторном пути к выздоровлению. Да и умирал Тынянов от рассеянного склероза, а не в «раковом корпусе», который прямо (для не слишком понятливого читателя) упомянут в этом эпизоде; см.: Дмитриев Андрей. Закрытая книга. М., 2000. С. 19–20. Но органичная связь тыняновского романа о бессмертии Пушкина (и всякого поэта) и спасительной силе поэтического слова с прозой Солженицына (отнюдь не одним только «Раковым корпусом») увидена и запечатлена совершенно точно.
[Закрыть]. Нержин, пишущий о русской революции, и Нержин, пишущий нечто, – качественно разные персонажи; подцензурная и полная редакции «В круге первом» никак не тождественные книги[144]144
В предназначенной для подсоветского издания «лекарственной» редакции романа Солженицын был вынужден не только изменить сюжет, но и скрыть страсть Нержина к познанию истории (и существенно ослабить тему прошлого в володинской линии). В результате мотивная система подцензурной версии романа оказалась менее плотной, чем в окончательном тексте, в частности связь нержинской и володинской линии оказалась почти не прописанной, а роль Нержина как «автора» романа (художника, разгадавшего побуждения Володина и воскресившего в слове этого сгинувшего в бездне человека) отменилась вовсе. Я не касаюсь здесь ни вопроса о том, какие смысловые приращения (наряду с очевидными утратами) возникли в редакции «лекарственной», ни тех изменений в тексте, что появились в 1968–1969, а затем и в 1978 гг.: «…восстанавливая, я кое-что и усовершил: ведь тогда мне было сорок, а теперь пятьдесят» (7).
[Закрыть]: во второй присутствие будущего «Красного Колеса» гораздо значимее и никак не сводится к указанию на литературный замысел Нержина.
Наставления, которые Сологдин дает Нержину «на дровах», зачастую воспринимаются как конспект эстетики Солженицына. Если так, то возникает вопрос: почему эти суждения доверены не протагонисту, а его наставнику, как показывает дальнейшее повествование – сомнительному? Действительно, «способ узловых точек» (185) соответствует композиционному принципу будущего – составленного из Узлов – «повествованья в отмеренных сроках», только смотрят на эти самые «узловые точки» и «отмеренные сроки» персонаж и автор по-разному. Сологдин радуется, предположив, что Нержин «уже отказался сперва пятнадцать лет читать все книги по заданному вопросу», но для наставляемого им «пиита» решение это – вынужденное: «Отчасти – да, отчасти – где ж я их возьму?» Конкретизация полярных позиций происходит в споре о «тридцати красных томиках». Нержин убежден: «Понять Ленина – это понять половину революции. А где он лучше сказался, чем в своих книгах?» (184). Тут-то негодующий Сологдин и предлагает «способ узловых точек»: «Охвати жизнь Ленина одним оком, увидь в ней главнейшие перерывы постепенности, крутые смены направлений – и прочти только то, что относится к ним. Как он вёл себя в эти мгновения? Тут – весь человек. А остальное тебе совершенно незачем» (185). Иными – чуть раньше прозвучавшими – словами говоря, «первоначальная сильная мысль определяет успех всякого дела! И мысль должна быть – своя!» (184). Нержин (и стоящий за ним Солженицын) вроде бы не отрицает важности «сильной» и «своей» мысли, но у него мысль эта должна вырасти из «материала». Найти «главнейшие перерывы постепенности» в жизни Ленина, конечно, необходимо, но для того потребно проштудировать «тридцать красных томиков ‹…› от корки до корки» (184). Так и будет позднее строиться (воссоздаваться) личность Ленина (а равно и всех других исторических персонажей – от Николая II до Троцкого) в «Красном Колесе». Здесь равно значимы установка на полноту знания (которая и позволяет найти «узловые точки», иногда многим казавшиеся сомнительными, отнюдь не поворотными) и внимание к слову героя, его зафиксированной источниками (сочинениями, эпистолярием, дневниками, мемуарами современников) речи, в которой человек (во всяком случае – «письменный», выделенный из молчаливого большинства) открывается не меньше, а то и больше, чем в своих действиях[145]145
Уместно здесь напомнить о той огромной роли, что отведена в «Красном Колесе» несобственно прямой речи как исторических, так и вымышленных персонажей.
[Закрыть].
Отход Нержина от скептицизма (на сологдинском «языке предельной ясности» – «усугублённого неверия»), разумеется, ведет его к «свету истины», но иной, чем та, о которой говорит Сологдин. Старший герой полагает, что он-то (в отличие от мальчика Нержина) «душевно определился», но знание о «соотношении добра и зла в человеческой жизни» не мешает ему утверждать, что «проституция есть нравственное благо», а «в поединке с Пушкиным был прав Дантес», существовать «под закрытым забралом» и оправдывать отказ от прежде поставленной цели, который лишь «важно строжайше обосновать» (180, 186)[146]146
Так уже при первом появлении Сологдина обосновываются его дальнейшие метаморфозы. В ночном споре с Рубиным Сологдин, отодвинув «забрало», клеймит Александра Невского, не допустившего «рыцарей в Азию, католичество – в Россию», называет «святую Русь» (его прежнее определение) – «косопузой страной» и «страной рабов» и провоцирует решение своего противника (тоже приверженца «сильной» и «своей» мысли) «завтра с раннего утра припасть, принюхаться к следу этого анонима-негодяя, спасти атомную бомбу для Революции». Мотивированный тем же яростным спором (и прямо противоположный по политическому смыслу) выбор Сологдина – «не давать им шифратора! не давать» – окажется временным: рискованно сыграв с Яконовым, инженер соглашается за пять недель (и даже за месяц) сделать «полный эскизный проект с расчётами в объёме технического» (506, 508, 509, 571). Володина, вероятно, схватили бы и без помощи умников из шарашки, но споспешествует его выявлению (аресту, низвержению в ад) взаимная ненависть Сологдина и Рубина, подчиненных своим идеям, не желающих слышать друг друга (признавать в противнике человека со своей мыслью) и видеть мир в его многомерной сложности, превосходящей любые отвлеченные «правды». Такой мир открывается художнику, и потому Нержину дано не поймать предателя, не подстегнуть рвение в этом (или ином столь же постыдном) деле своего друга, но разгадать тайну человека, звонившего в американское посольство.
[Закрыть]. Предлагая Нержину сделать выбор (между добром и злом), Сологдин не понимает, что выбор этот уже сделан, и потому Нержин не соглашается с допускаемой Сологдиным возможностью отказа от цели: «Отказаться сейчас – может быть и навеки отказаться» (186). Цель Нержина – воссоздание истории, для которого необходимо и просто знание, и умение расслышать чужую мысль (не к одной лишь методике научной работы относится тезис Сологдина: «Сперва надо все мысли найти самому – и только потом сверять с книгами»! – 184)[147]147
Солженицын отлично знал противоположное искушение. В рассказе о юношеском чтении Сани Лаженицына («Август Четырнадцатого») трудно не ощутить автобиографическую ноту: «Он запутался в изобилии истин, он измучился от убедительности каждой из них. Пока было мало книг в руках, Исаакий твёрдо и хорошо себя чувствовал, с седьмого класса он считал себя толстовцем. Но вот дали ему Лаврова с Михайловским – как будто правильно, очень верно! Плеханова дали – опять-таки верно, да гладко, да кругло как! Кропоткин – тоже к сердцу, верно. А распахнул “Вехи” – и задрожал: всё напротив читанному прежде, но – верно! пронзительно верно!» (VII, 27).
[Закрыть], и интуиция, связанная с возможностью доверия к человеку вообще. За пилкой дров друзья дважды вспоминают свою первую встречу. Сперва Нержин рассказывает, как, пораженный «иконным ликом» новоприбывшего зэка, тут же ему открылся и в тот же день, «наслушавшись ‹…› евангельских откровений», закинул «карамазовский» вопросик «что делать с урками?»[148]148
Между прочим, не только Нержин поверил в Сологдина (сразу увидел в нем лучшее, осложненное, но не отмененное дальнейшим общением персонажей), но и Сологдин – в Нержина. Хотя был тогда «поражён ‹…› опрометчивостью» нового знакомца, а в пору основного действия досадует: «Очень дурно, если меня легко прочесть. В лагере надо казаться заурядным» (181). Принципы принципами, но «опрометчивое» признание было взаимным, выросшая из него дружба – истинной. И Сологдин, и Рубин (пожалуй, в еще большей мере) не исчерпываются своими «сильными мыслями» и продолжающими их поступками (сюжетными функциями).
[Закрыть]. Чуть позже Нержин возвращается к давнему эпизоду, так сказать, при свете методологии Сологдина: «Значит, когда я спросил тебя, что делать с урками, я, не предполагая, применил к тебе метод узловых точек?» (181, 185). Это, разумеется, шутка: Нержин не намерен писать биографию Сологдина, «узловую точку» он обрел случайно (и человек, и социум могут раскрыться, в частности, и в самый заурядный момент), да и «узловым» миг узнавания стал не для истории Сологдина, а для истории Нержина, его пребывания «в круге первом».
Ироничная реплика Нержина – один из предложенных автором ключей к поэтике романа. Действие «В круге первом» укладывается в «отмеренный срок» – трое декабрьских суток (с вечера субботы по ранний вечер вторника) 1949 года. Но этот якобы обыкновенный временной промежуток – скрытая «узловая точка» в истории шарашки и ее обитателей (как покидающих «круг первый», так и в нем пока остающихся). Из этой точки видны не только будни спецтюрьмы (впрочем, напоенные особым – рождественским – светом) и ее прошлое, но и включенность «круга первого» в историю, его связь с иными кругами (адско-гулаговскими и формально вольными), его противоречивая роль в созидании (мысленном и действенном) будущего. Временная организация романа максимально близка тому принципу, что будет использован в Узлах «Красного Колеса»[149]149
Кажется, это относится и к поэтике в целом: резко педалированная полифония (подробно проговоренные «правды» многочисленных героев-идеологов), постоянная мена стилевых регистров, неожиданные пересечения судеб персонажей, взаимосвязь частного и исторического планов, не говоря уж о теме рождения писателя (и его книги). Что же касается неизменной приверженности Солженицына к «временной концентрации» повествования, то должно подчеркнуть: прием этот в разных текстах служит решению разных художественных задач. В «Одном дне Ивана Денисовича» важно парадоксальное соединение типичности («Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов – три дня лишних набавлялось…») и неповторимости каждого из заурядных дней, внутренней насыщенности якобы бессобытийного времени. Ясно, что не каждодневно Шухову выдавалось столько «удач» (114) и тем более, что эти очень конкретные «удачи» не могли точно повторяться. Другие его дни были насыщены иными «малыми» событиями, но пустых вовсе не было, ибо жизнь не терпит пустоты. В «Матрёнином дворе», где описана вся история отношений героини и рассказчика (немногим больше полугода) существенны смены повествовательного темпоритма, переходы от цикличной мнимой бессобытийности (еще более, чем в «Одном дне…», ориентированной на фольклор) к убыстрению хода времени в сюжетообразующих фрагментах, причем эти перепады присущи как финальному этапу истории Матрёны, свидетелем которого был Игнатьич, так и всей ее жизни. Ср. «беглые» рассказы Матрёны о ключевых событиях ее судьбы (любовь Фаддея, его уход на войну, замужество, возвращение Фаддея, смерти детей Матрёны, обретение Киры, уход на войну Ефима…) и фольклоризированные характеристики бессобытийного времени: «Да. Да… Понимаю… Облетали листья, падал снег – и потом таял. Снова пахали, снова сеяли, снова жали. И опять облетали листья, и опять падал снег»; «И шли года, как плыла вода…» (I, 133, 135). «Отмеренные сроки» «Ракового корпуса» не только сравнительно с другими вещами растянуты, разделены (значимая временная лакуна между первой и второй частями), но и усложнены параллельным (но лишь с определенного момента!) движением историй двух персонажей – Русанова и Костоглотова: здесь Солженицыну важна в первую очередь процессуальность, фиксация изменений, происходящих (или не происходящих) с героями и стоящей за ними страной (то ли выздоравливающей, то ли довольствующейся паллиативами и самообманом). Временной минимализм рассказов о единичном событии, «случае» мотивирован их сюжетной спецификой. Первое слово в заголовке «Случай на станции Кочетовка», безусловно, семантически нагружено, именно о «случаях» повествуется и в других опытах ранней «короткой» прозы Солженицына (терминологическая традиция подсказывает здесь слово «новелла», писатель, однако, понимал его иначе). Время, в которое укладывается «взрывной» сюжет, здесь сжимается в двое суток («Для пользы дела»), несколько часов («Случай на станции Кочетовка»), примерно полчаса («Правая кисть») или даже несколько минут («Как жаль»).
[Закрыть].
Солженицын приурочивает действие «В круге первом» к середине позднесталинского (послевоенного) периода[150]150
Восьмилетия, если вести отсчет от победной «тюремной томительной весны», что «стала расплатной весной ‹…› поколения» Солженицына (IV, 216). Семилетия – если считать от лета-осени 1946 года, когда с военными и интеллигентскими вольностями было бесповоротно покончено.
[Закрыть], точно охарактеризованного поэтом, прошедшим войну, но странным образом избежавшим тюрьмы: «Конец сороковых годов – / сорок восьмой, сорок девятый – / был весь какой-то смутный, смятый. / Его я вспомнить не готов. // Не отличался год от года, / как гунн от гунна, гот от гота / во вшивой сумрачной орде. / Не вспомню, ЧТО, КОГДА и ГДЕ. // В том веке я не помню вех, / но вся эпоха в слове “плохо”. / Чертополох переполоха / проткнул забвенья белый снег. // Года, и месяцы, и дни / в плохой период слиплись, сбились, / стеснились, скучились, слепились / в комок. И в том комке – они»[151]151
Слуцкий Борис. Собр. соч.: В 3 т. М.: Художественная литература, 1991. Т. 2. С. 322.
[Закрыть]. Это время якобы отмененной истории, когда любые события – скрытое военное противоборство с «мировым империализмом», формально передоверенное азиатскому союзнику, идеологическое изничтожение недавнего балканского союзника (и подготовка его устранения), проработочные кампании, разоблачение и уничтожение как рядовых, так и еще недавно сановных «врагов народа» и т. п. – лишены статуса событий. Они не имеют значения ни для кого, кроме очередных жертв, попасть в число которых может буквально каждый – от простого работяги до «всесильного» министра Абакумова. Ожидание собственной гибели разом мучительно страшно и – в силу полной иррациональности происходящего – параллельно «обычной» жизни. Так же, как и ожидание новой войны, приближение которой не подлежит обсуждению или даже называнию. О скорой третьей мировой (что сделает единым земное пространство и окончательно остановит время, превратит его в неизменную вечность) сообщает Абакумову и грезит наедине с собой Сталин: «Начать можно будет, как атомных бомб наделаем…» (160). Об ужасе этой войны говорит Володину, словно подслушавший державного «ровесничка» (438) дядюшка Авенир:
Но если сделают (атомную бомбу. – А. Н.) – пропали мы, Инок. Никогда нам свободы не видать.
‹…›
– Да, это будет страшно… У них она не залежится… А без бомбы они на войну не смеют.
(444)
Возникает эта тема в разговорах на шарашке. Но для обычных людей ее словно бы нет. История застыла. Будущее так же мертво, как настоящее.
Рубин, сохранивший настрой тридцатых годов с их интернационализмом и порывом в «последний и решительный бой», не знает, какие политические новости могут послужить перевоспитанию пленных немцев: «Но именно в декабре, кроме советско-китайских переговоров, и то затянувшихся, ну и кроме семидесятилетия Хозяина, ничего положительного как-то не произошло. А рассказывать немцам о процессе Трайчо Костова ‹…› было и стыдно, и не служило воспитательным целям» (27). Да и ничего «нового» (как-то меняющего положение дел) в этой фальшивой судебной инсценировке не было. Рубину остается тешить себя соображениями об исторической целесообразности происходящего да фиксировать на карте флажками продвижение армии Мао.
Ситуация типологически схожа с описанной в «Октябре Шестнадцатого», когда стали «привычными» война (и на фронтах, где не видно существенных перемен, и в тылу, где ухудшение быта воспринимается как неприятная норма), локальные забастовки, думские порицания правительства, заговоры, общее ощущение, что так дальше продолжаться не может, и столь же общее сознание, что так будет всегда. Солженицын выявляет огромную скрытую энергию как в мнимой тишине последней имперской осени[152]152
Открывающая второй том Второго Узла (то есть композиционно и даже полиграфически маркированная) 38-я глава начинается словами: «Двадцать пятого октября после полудня…» (X, 9) – до захвата власти большевиками остался ровно год.
[Закрыть], так и в беспросветной ночи советской зимы. Декабрь Сорок Девятого – Узел российской истории: что-то в ней сдвинулось, если стали возможными два «неприметных» события (с точки зрения здравого смысла, безумных и самоубийственных) – звонок Володина и выбор Нержиным писательской миссии. Об этом говорит Нержин рационалисту Герасимовичу, противопоставляя «слово», что «разрушит бетон», невозможному (во всех смыслах) военному перевороту[153]153
Параллель «несостоявшиеся заговоры 1916 года – план Герасимовича» будет рассмотрена ниже.
[Закрыть]. «Здесь – тайна. Как грибы по некой тайне, не с первого и не со второго, а с какого-то дождя – вдруг трогаются всюду. Вчера и поверить было нельзя, что такие нероды могут вообще расти, – а сегодня они повсюду! Так тронутся в рост и благородные люди, и слово их – разрушит бетон» (653).
Диалог Нержина и Герасимовича происходит «на задней лестнице»: «На всех стенах таились, густились невидимые картины крепостного художника» (646). Если выбор места для рискованной беседы мотивирован конспираторскими навыками персонажей (как быстро понимают они сами, довольно сомнительными), то упоминание картин может показаться если не излишней, то проходной, неработающей, деталью. Это не так: творенья Кондрашёва-Иванова имеют прямое отношение и к разговору Нержина с Герасимовичем, и к скрытому присутствию заветного замысла Солженицына в его первом романе.
Картины Кондрашёва вызывают недоумение не только у сановных вертухаев, но и у искренне расположенного к художнику Нержина: «Зачем у вас так часто рыцари и рыцарские принадлежности? Мне кажется, вы переходите меру, хотя, конечно, Мите Сологдину это нравится. Девчёнка из химобороны у вас – рыцарь, медный поднос у вас – рыцарский щит…» В ответ художник произносит страстную речь: «А кого не хватает нашему веку? Членов партий? Нет, уважаемый, – не хватает рыцарей!! При рыцарях не было концлагерей! И душегубок не было!» (331). Монолог точно соответствует предшествующим экфрасисам работ Кандрашёва, рассказу о его рыцарском служении искусства, его эстетическим суждениям, неотделимым от суждений этических. Кондрашёв захвачен сильной и своей мыслью – его созданья открывают истинную, как мнится художнику, реальность, которую исказили дурные живописцы (и видимо, такие же деятели, подвизающиеся в других искусствах), заморочив голову неопытным зрителям. «Поймите, публика поддалась Левитану! Вслед за Левитаном мы привыкли считать нашу русскую природу бедненькой, обиженной, скромно-приятной. Но если бы наша природа была только такая, – скажите, откуда бы взялись у нас самосжигатели? стрельцы-бунтари? Пётр Первый? декабристы? народовольцы?» (329). Их-то, «рыцарей», не слишком вдумываясь в различия «сильных» деятелей и в связанные с ними опасности, и хочет воззвать к жизни художник, властно преображая пейзажи, лица, предметы, ставя «над Добром и Злом» «пятиэтажные буквы» (330). Потому и заветная его картина – вырастающий над бездной, парящий «в ореоле невидимого сверх-Солнца сизый замок святого Грааля», что вдруг открылся всаднику-рыцарю (332).
Кондрашёв-Иванов пишет вожделенное обретение духовной вертикали. И даровано оно рыцарю. Солженицын откроет «Красное Колесо» скрыто трагическим мотивом утраты вертикали – юные герои удаляются от нерукотворного чуда, великого Кавказского хребта. Позднее вертикаль (видение гор, звездное небо) будет открываться некоторым персонажам «повествованья в отмеренных сроках» – в их лучшие и/или роковые минуты. Но из мира, ввергнутого в войну, за которой логично последует революция (переворот), вертикаль уходит[154]154
Подробнее см. в главе «Она уже пришла: “Август Четырнадцатого”» (вторая часть предлежащей книги).
[Закрыть]. И рыцарям не дано ее восстановить. При рыцарях не было лагерей и душегубок, но последние рыцари не смогли спасти от них мир. «Старомосковский» богатырь (рыцарь в русском изводе) Самсонов становится одним из виновников постигшей армию катастрофы, что в истории получила его имя. В «Октябре Шестнадцатого» Воротынцев слышит от генерала Нечволодова, что революция «уже пришла!».
И стоял против неё готовный рыцарь. Но – не звали его на помощь. Да и сам меч его был в землю врыт, и никакой руки не хватило бы вытащить его.
А если б и вытащить – так сгнил он остриём.
(X, 438)
Эту мизансцену, предсказание Нечволодова, поведанную им историю о несостоявшемся заговоре монархистов, надеявшихся спасти Россию от революции, но не сумевших донести свое слово до Государя, Воротынцев вспоминает в финальной главе «Апреля Семнадцатого», когда победный разлив революции стал бесспорной явью:
Вот тут, позади близко, за этими деревьями, впечатывал Нечволодов: революция уже пришла! Она который год нас разносит – а мы всё не действуем.
Как говорили встарь: богомужественный воин.
(XVI, 558–559)
Не касаясь пока проблемы заговора «верных», отмечу, что на челе «богомужественного воина» лежит печать обреченности. Рыцарь и его бесспорно благородные чаяния анахронистичны, неуместны, а потому и бессильны в той реальности, которая дана людям эпохи мировой войны и революции. Это касается и отчетливо эстетических (с сильным налетом стилизации) монархических проектов Ольды Андозерской, знатока и ценителя средневековой культуры. Потому Воротынцев не может вполне подчиниться наставлениям возлюбленной и почитаемого генерала.
Тот же флер стилизации окутывает картины (и чаяния) Кондрашёва-Иванова. А от стилизации недалеко до игры: недаром рыцарская эстетика импонирует Сологдину с его двусмысленным (как выясняется) отношением к России и человеческому долгу, но неизменно афишируемым аристократизмом[155]155
Характерно, что, восхищаясь Достоевским, Сологдин вспоминает в первую очередь героев не только таинственно темных, зловещих, но и с выраженной аристократической (барской) статью: «Ставрогин! Свидригайлов! Кириллов! (сверхчеловеку-разночинцу отведено лишь третье место. – А. Н.) – что за люди?» (180).
[Закрыть]. При глубокой симпатии к Кондрашёву, частичном признании его безусловно сильной и своей мысли, Нержин (и стоящий за ним автор) не верят в спасительность рыцарского искусства. Как не верят в аристократов, иные из которых подобны Сологдину, а иные – Яконову[156]156
О «двойничестве» этих персонажей см. в главе «Жизнь и Поэзия в романе “В круге первом”». В укоризнах, которые бросает Сологдину Рубин, звучит не только ярость фанатичного коммуниста: «Страна вам плоха! А не вы, богомольцы и прожигатели жизни, довели её до Ходынки, до Цусимы, до Августовских лесов?» (прямая отсылка к будущему Первому Узлу «Красного Колеса»). Что не отменяет частичной правоты в ответной не менее гневной реплике Сологдина: «Ах, уже за Россию вы болеете, убийцы? ‹…› А не вы её зарезали в семнадцатом году» (174–175, 563–572, 506).
[Закрыть].
И точно так же не верят они в избранников иного рода, тех, кто владеет точным знанием, способен точно оценить вызовы изменившегося времени, готов ответственно рационализировать жизнь, изломанную долгим лихолетьем (всеобщим помрачением разума). Не кто иной, как Солженицын напишет в «Августе Четырнадцатого»: «Лишь это узкое братство генштабистов да ещё, может быть, кучка инженеров знали, что весь мир и с ним Россия невидимо, неслышимо, незамечаемо перекатились в Новое Время, как бы сменив атмосферу планеты, кислород её, темп горения и все часовые пружины» (VII, 112). Внутренний монолог Воротынцева сплавлен здесь с авторской речью, дума же, которой писатель наделил своего любимого героя, не сводится исключительно к вопросу о правильном ведении войны. Война – во-первых, несчастье (Воротынцев, пройдя Самсоновскую катастрофу, к такому выводу приблизится), а во-вторых – частность. Ибо если война не завершится национальной катастрофой (как случилось в 1917 году), то за ней придет мир, требующий тех самых новых строительных стратегий, что открылись, увы, очень немногим. Об этом в другом эпизоде Первого Узла беседуют инженеры Архангородский и Ободовский. Последний не только разворачивает впечатляющие картины будущего страны, но и утверждает:
…Союз русских инженеров мог бы легко стать одной из ведущих сил России. И поважней, и поплодотворней любой политической партии.
– И принять участие в государственном управлении?
– Да не прямо в государственном, собственно власть нам ни к чему ‹…›
…Деловые умные люди не властвуют, а созидают и преображают, власть – это мёртвая жаба. Но если власть будет мешать развитию страны – ну, может, пришлось бы её и занять.
(VIII, 440)
Разговор продолжается за обедом, в присутствии революционно настроенных молодых людей, которым равно ненавистны планы промышленного развития России (ведущего к обогащению эксплуататоров) и патриотизм, который «в этой стране ‹…› сразу становится погромщиной!» На обвинения дочери Архангородский, отнюдь не забывший ни о своем еврействе, ни о зле антисемитизма, отвечает:
– И всё равно… и всё равно… Надо возвыситься… И уметь видеть в России не только «Союз русского народа», а…
Воздуха не хватало или кольнуло, но в паузу легко поддал Ободовский:
– …а «Союз русских инженеров», например.
Молодые не слышат, Соня Архангородская кричит о «чёрной сотне». И выведенному из себя отцу остается одно – предъявить страшную альтернативу:
Дрожа голосом, двумя ладонями, на рёбра поставленными, Илья Исакович показал:
– С этой стороны – чёрная сотня! С этой стороны – красная сотня! А посредине… – килем корабля ладони сложил, – десяток работников хотят пробиться – нельзя! – Раздвинул и схлопнул ладони: – Раздавят! Расплющат![157]157
Выше на вдохновенную речь Ободовского о грядущем освоении северо-востока и подъеме России, население которой может к середине XX века составить «триста пятьдесят миллионов», Архангородский отзывается печальной репликой, готовящей его отчаянное пророчество: «Это в том случае ‹…› если мы не возьмёмся выпускать друг другу кишки». Необходимо отметить, что диалог отца и дочери Архангородских слышит Сонина «гимназическая подруга Ксенья» (VIII, 441, 442), то есть литературная ипостась матери Солженицына. Она не произносит ни слова, но ее присутствие в этой сцене принципиально важно: так Солженицын указывает на свою интимную (семейно-домашнюю) причастность былым спорам, которым еще не раз суждено повториться в других исторических контекстах.
[Закрыть](VIII, 449)
Так и случилось. Не удалось офицерам-«младотуркам» и «Союзу русских инженеров» вывести Россию из войны, уберечь от революции, обеспечить ее процветание. Вот и пришлось Ободовскому занять позицию в новой власти (оказавшейся хуже старой), ощутить бесплодность своих попыток делать дело и с ужасом признаться, что за два послереволюционных месяца «и весь наш рабочий класс… И весь народ наш… показал себя тоже саранчой» (XVI, 124). А Воротынцеву – уповать на близящийся съезд офицеров: «Сколь бы мало нас ни сплотилось, – ни это правительство, ни Совет не отнимут у нас последнего права: ещё раз побиться» (XVI, 559). Этого – не отнимут. Но и отстоять Россию не дадут.
Не в том дело, что не было в предреволюционной России порядочных, мужественных, умных, смелых, ответственных людей. Были – и не только горячо любимые Солженицыным Воротынцев и Ободовский. Дело в том, что как революции начинаются не в результате заговоров, так они заговорами и не останавливаются. При общем нестроении шансы «десятка работников» минимальны, а их попытки встать у власти (или близ нее) самоубийственны: либо в прямом смысле, либо в переносном – когда благородный и ведомый лучшими намерениями человек невольно начинает служить черному делу. Даже если происходит смена власти.
Об этом Нержин («Воротынцев 49-го») говорит «на задней лестнице» Герасимовичу («Ободовскому 49-го»), полагающему, что потенциальный «союз русских инженеров» («техно-элита») может «обыкновеннейшим дворцовым переворотом» (650) спасти Россию и мир.
Не рассматривая подробно всех смысловых пересечений этого спора с «Красным Колесом», подчеркну два важных и взаимосвязанных обстоятельства. Герасимовичу возражает историк (и писатель), для которого принципиально значим как трагический опыт вполне конкретной русской революции, так и общая – всегдашняя – сложность социального бытия. Для него состоящий «из одних недочётов» проект Герасимовича – «урок нашему физико-математическому надмению: что общественная деятельность – тоже специальность, да какая! Бесселевой функцией её не опишешь!» (651). Герасимович же, игнорирующий трагическую суть всего исторического процесса вкупе со сравнительно недавним опытом[158]158
Ср. выразительное обобщение в отповеди Нержина: «Да, мерзок наш режим, но откуда вы уверены, что у вас получится лучше? А вдруг – хуже? Оттого, что вы хорошо хотите? А может, и до вас хотели хорошо? Сеяли рожь, а выросла лебеда!.. Да чего там наша революция! Вы оглядитесь на… двадцать семь веков! На все эти виражи безмысленной дороги…» (651).
[Закрыть], был подвигнут на свой проект рассказом Кодрашёва-Иванова о картине Корина «Русь уходящая», о которой сам рассказчик знает «с чужих слов» (535).
Герасимович увидел картину Корина «резко, как сам написал» (536), но открылось ему то, о чем говорил Кондрашёв, в рассказе которого интерпретация таинственного полотна не менее важна, чем описание запечатленных на нем людей. Сказав о «светящихся старорусских лицах мужиков, пахарей, мастеровых», исчислив других многочисленных и несхожих героев Корина, Герасимович подводит итог: «Самое страшное, что эти люди никак не сгруппированы. Распалась связь времён! ‹…› Они уходят… Последний раз мы их видим…» (535). Это значит: той Руси-России, что когда-то была, больше нет.
Именно эту идею картины предъявляет Герасимович Бобынину: «На Руси были консерваторы, реформаторы, государственные деятели – их нет». Перечислив прочих «бывших», герой итожит: «…никого, никого их нет. Мохнатая чёрная лапа сгребла их всех за первую дюжину лет. Но один родник просочился черезо всю чуму – это мы, техно-элита. Инженеров и учёных, нас арестовывали и расстреливали всё-таки меньше других. ‹…› Мы занимались природой, наши братья – обществом. И вот мы остались, а братьев наших нет. Кому ж наследовать неисполненный жребий гуманитарной элиты – не нам ли?» (585).
Недоговоренное Бобынину Герасимович скажет Нержину. Отнюдь (повторю) не случайно в ателье Кодрашёва-Иванова, в присутствии его невидимых в темноте, но сущих (почти как коринская «Уходящая Русь») картин. И столь же закономерно Нержин в этом разговоре с раздражением вспомнит замок святого Грааля и всадника, который будто бы «доскакал и узрел – ерунда! Никто не доскачет, никто не узрит!» (652). Это не отрицание идеала, но отказ от утопического целеполагания, игнорирующего таинственную суть истории и сложность человеческой личности. Для Герасимовича и Кондрашёва Русь навсегда ушла, история кончилась, связь времен порвалась. Ее невозможно восстановить (вернуть исчезнувшие лица) – уповать надлежит на избранников, что волевым усилием создадут из сегодняшнего «ничего» грандиозное и прекрасное «нечто». То же – с небольшими поправками – можно сказать о двух других героях-идеологах, Сологдине и Рубине. Надежды Герасимовича связаны с «техно-элитой», Кондрашёва – с рыцарством, Рубина – с «настоящими» коммунистами, Сологдина – с аристократами (по происхождению, духу, интеллекту), которые смогут «под закрытым забралом» и, коли потребуется, откинув принципы, перехитрить и одолеть хамов.
Мотив «союза избранников» в романе многообразно варьируется: кроме «рыцарей» и «техно-элиты» это насельники Дантова лимба, с которым сравнивается шарашка, «розенкрейцеры» (шутливое именование математиков, розенкрейцерский соблазн преодолевает Нержин, отказавшись работать с Веренёвым), декабристы (Агния терпеть не может толстовскую Наташу, которая Пьера «не пустит в декабристы»; о невозможности повторить в советских условиях «декабристок» говорит в Лефортове жена Герасимовича; Кондрашёв – потомок декабриста, за которым в Сибирь последовала возлюбленная; в пушкинско-декабристской тональности описывается празднование нержинского дня рождения… (23, 61, 172, 268, 327, 403–404). Эти то сближающиеся, то расходящиеся смысловые отражения братства свободолюбцев и «граждан мира», которых, по слову Нержина, обыгрывающему подлый советский штамп «борьба с космополитизмом», «правильно посадили» (33), дороги Солженицыну, посвятившему роман «друзьям по шарашке». Но удовольствоваться любым подобием (сколь угодно широким и благородным) «круга первого» писатель не может. Как его герой, фактически провоцирующий свое изгнание из марфинского «почти рая» (719).
Споря с Герасимовичем, Нержин настаивает на необходимости выхода из «круга первого», восстановления порвавшейся связи времен, возращения тех лиц, что, согласно трактовке Кондрашёвым и Герасимовичем картины Корина, ушли навсегда. Этому восстановлению неуничтожимого прошлого будет посвящена книга Нержина – романный аналог «Красного Колеса». Но Нержин говорит Герасимовичу не о себе или, по крайней мере, не только о себе, он употребляет множественное число: «тронутся в рост ‹…› благородные люди». Откуда эта уверенность? Разгадку подсказывает ответная – совершенно справедливая – реплика Герасимовича: «Прежде того понесут ваших благородных кузовами и корзинами – вырванных, срезанных, усечённых…» (653). Так заканчивается 90-я глава («На задней лестнице»), в заглавье следующей стоит самая известная дантовская строка – «Да оставит надежды входящий»; речь в ней идет об аресте и первом (никак не в шарашечном смысле!) круге тюремных мытарств Володина.
Что заставило преуспевающего дипломата шагнуть из своего первого – здесь в советско-номенклатурном смысле – круга, пойти «торпедой» на чудовищный советский «линкор» (15)? Простое открытие: не только жизнь, «но и совесть даётся нам один только раз» (434). Что привело его к этому открытию? Проснувшееся сыновнее чувство, заставившее обратиться к архиву матери. Дневники мамы и письма ее подруг открыли Володину неведомый мир, неведомый язык, неведомые нравственные ценности: «Они всерьёз писали с больших букв: Истина, Добро и Красота; Добро и Зло; этический императив» (431)[159]159
Ср. требования Кондрашёва-Иванова.
[Закрыть]. Фотоальбомы, театральные программки, газеты, «стихи неведомых поэтов», «безчисленные книжечки журнальных приложений» явили Иннокентию домашним образом исчезнувшую Россию «последнего предреволюционного десятилетия» (432). И заставили думать о том, что с ней случилось. И что происходило со страной дальше. И что происходит с ней сейчас. Встреча с тверским дядюшкой довершила воспитание чувств – не столько рассказами о сегодняшней жизни обычных людей и «отмененном» советском прошлом, сохранившемся в развешенных по стенам газетах да дядюшкиной памяти, сколько тремя вопросами. Один задал Иннокентий, выслушав рассказ о расстреле демонстрации, пытавшейся поддержать Учредительное собрание, и разгоне этой самой учредилки матросиками с пистолетами и в лентах:
– И мой отец?!
– И твой отец. Великий герой Гражданской войны. И почти в те самые дни, когда мама… уступила ему… Они очень любили лакомиться нежными барышнями из хороших домов. В этом и видели они сласть революции.
(447)
Но дядюшка не только ответил, но и задал два вопроса. Первый, повторяющий Герцена, – обращенный к каждому человеку: «Почему любовь к родине надо распространять и на всякое её правительство? Пособлять и дальше ему губить народ?» (441). Второй – тоже общечеловеческий, но насыщенный для Володина очень конкретным и интимным смыслом: «А ты никогда не ощущал правоту этой истины: грехи родителей падают на детей?.. И от них надо отмываться?» (447). Вопросы слились с еще одним, не заданным дядюшкой, но навеянным разговором с ним: что будет, если «они» все-таки сделают атомную бомбу? Дядя считал, что это невозможно, но коли случится, «никогда нам свободы не видать» (444). Узнав, что бомбу на днях украдут, Володин отвечает на проклятые вопросы звонком в американское посольство, выходит не только из элитного «круга первого», но и из того, что чертил Кларе «на просторе», еще до поездки в Тверь: «Вот видишь – круг? Это – отечество. Это – первый круг. А вот – второй. – Он захватил шире. – Это – человечество. И кажется, что первый входит во второй? Нич-чего подобного! Тут заборы предрассудков. Тут даже – колючая проволока с пулемётами. Тут ни телом, ни сердцем почти нельзя прорваться. И выходит, что никакого человечества – нет. А только отечества, отечества, и разные у всех…» (313). И грехи отцов, за которые должно платить. Этой притче о себе предшествует неожиданное признание Володина, напоминающее суждение Кондрашёва о «Руси уходящей», как и оно, варьирующее роковое открытие Гамлета: «Жизнь – распалась» (312). Восстановление связи времен и восстановление единой жизни – две стороны одной задачи.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































