Текст книги "Проза Александра Солженицына"
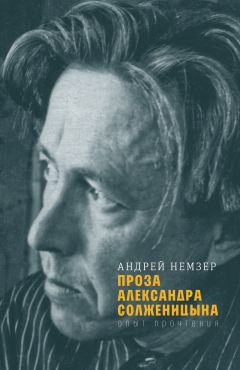
Автор книги: Андрей Немзер
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
«Здесь был общий мировой закон: побеждает тот, кто жесточе. В этом, к сожалению, вся история и все пророки» (566). Этот «мировой закон» в сознании Яконова легко ассоциируется с «ходячей фразой» – «все люди – сволочи». Дьявольская ирония соединяет образы полковника и арестанта, и уже не различишь, где тут искушение Великого инквизитора (мечта о силе, отождествляемой с католицизмом – «чудо, тайна, авторитет»), где демоническая греза о миллионе, которую Сологдин позаимствовал у «подростка», а тот у Ротшильда и Скупого рыцаря (вновь рыцарь!), а где бытовой «западный цинизм» («Дом мой! Мой дом – моя крепость! Как мудры англичане, первые понявшие эту истину» (564), – думает Яконов в той же главе). Чудовищная амальгама играет бесконечными оттенками, и бездна – уже не ГУЛАГа, но нравственного падения – зовет назад.
И все же: Сологдин – не Яконов. Хотя бы потому, что не ему доверены наиболее циничные аргументы; хотя бы потому, что он зэк сегодняшний, а не зэк бывший и будущий; хотя бы потому, что и вправду страшен, черен, безжалостен третий грядущий срок; хотя бы потому, что есть у Сологдина дар, есть азарт исследователя, есть сердечное чувство к жене (не к сытому дому, не к благолепному уюту!), пусть и отяжеленное изменой; есть дружба с Нержиным.
И нет никакой уверенности в том, что русскость Сологдина только маскировка, только игра, – слишком истово следовал он Языку Предельной Ясности, слишком рьяно спорил с Рубиным. Как ни сгущаются темные краски (деяние опровергает помыслы) вокруг Сологдина, читатель не может забыть его изначальной светоносности[112]112
Здесь легко оспорить: светоносным даже по имени был и Князь Тьмы (Люцифер). Аналогия не то чтобы произвольна; важен аристократизм героя, слитый с самолюбованием («Вот идет граф Сологдин»), а равно его сознательная, с первого появления очевидная тяга к «амбивалентности» и внутренней закрытости. Сам Сологдин в этой связи поминает героев Достоевского, первым из них – Ставрогина. Сопоставление этих героев тоже может дать яркие результаты.
[Закрыть]. И очень мощным аргументом в защиту героя представляется его фамилия, в которой отчетливо слышится отголосок фамилии автора. Более того, назвав автобиографического героя нейтрально – Нержин, Солженицын как бы разделил звуковое обличье своей фамилии: Солженицын = Сологдин + Нержин[113]113
Подобного рода игра с фамилиями в романе не единична, кроме наглядного примера с майорами Шикиным и Мышиным (Шишкин-Мышкин), отметим почти точное анаграммирование фамилии Наделашин в прозвище персонажа – младшина.
[Закрыть], тем самым бросив автобиографический блик и на дискредитированного персонажа.
Вглядываясь в фигуры Рубина и Сологдина, читатель осознает всю губительную мощь идеологизированного тоталитарного государства, которое может либо растворить в себе человека (случай Рубина), либо вытолкнуть его в одиночество цинизма, прикрытого другой выдуманной идеологией (случай Сологдина). Трагедия (как довольно часто бывает у Солженицына, инкрустированная комическими мотивами) этих персонажей в их напряженной активности, в их внутренней приверженности к идеологической четкости, в их гипертрофированном интеллектуализме, неразрывно связанном с инстинктом самосохранения. И Сологдин, и Рубин не в состоянии сделать шаг из своей сферы (или, на Языке Предельной Ясности, – «ошария»); для того и другого дворник Спиридон – лишь немой объект, а не совопросник, для того и другого Россия – абстракция, что не исключает ни проклятий Сологдина, ни патриотизма Рубина.
Между тем и Россия, и дворник Спиридон существуют, и Нержин обращается к ним не ради поиска «сермяжной правды», но ради самого общения. Его влечет живой человек с непривычным взглядом на реальность, с особенной и неповторимой судьбой, каждый поворот которой оказывается для Нержина неожиданностью. Нержинское «хождение в народ» началось до общения со Спиридоном – была война, был лагерь, были человеческие судьбы и была естественность схождения с мужиками, недоступная барам прошлого века. Не только умственный поиск, но и прежде всего обыденность поколебали прежнюю, довоенную очевидность («Не было и никакой Руси, а – Советский Союз…» (483)). Народ сохранил свою особенность, но утратил «кондовое сермяжное преимущество». Общаясь с солдатами и зэками, разговаривая со Спиридоном, Нержин все больше понимает, что «оставалось – быть самим собой» (485), что «надо стараться закалить, отгранить себе такую душу, чтобы стать человеком. И через то – крупицей своего народа»[114]114
И снова нельзя не вспомнить володинские круги: как к человечеству не придешь мимо отечества, так и к отечеству не придешь, забывши о человечестве.
[Закрыть] (485).
Старая традиционная вера в народ и сохраняется, и меняется, рядом с восхищением мерцает ирония, словно бы делает автор себе и любимому герою скидку на обстоятельства места и времени. «С такою душой человек обычно не преуспевает в жизни, в должностях, в богатстве (мир маскарадных «мертвых душ» мы наблюдали в романе достаточно, его не заметить способен только Рубин. – А. Н.). И вот почему народ преимущественно располагается не на верхах общества» (485).
Спиридон, несомненно, сумел сохранить душу в своих бесконечных злоключениях. Его сказочная по форме история жизни, а заодно и России, куда достовернее, чем суконным языком квазинауки писанная другая история человека и страны – биография Сталина. Полярность этих автобиографий (Солженицын настойчиво подчеркивает сталинское авторство известной всей стране коричневой книжицы, следуя, впрочем, за логикой титульного ее листа) лучше многого объясняет, кому принадлежит власть в стране рабочих и крестьян. И у Спиридона то неволей, а то и в охотку укреплявшего эту власть (а мог бы укреплять и другую), есть все основания в сердцах послать на три веселых буквы «всех сеятелей разумного-доброго-вечного» (494), не разбираясь особо в идеологических тонкостях.
Этот природный скептицизм крестьянина, осознавшего, что сеяли рожь, а выросла лебеда, казалось бы, ведет к абсолютному фатализму, к растворению в не только непознаваемом, но и бессмысленном потоке, где все одно и все всего стоит, где нет ни добра, ни зла, а только течение. И мы готовы уже (разумеется, с должными поправками) вспомнить о Платоне Каратаеве и подивиться, как это Солженицын пошел на такой явный повтор классического сюжета о барине и мужике (ведь уговорил же он нас, что Нержин не барин). Тем паче что эпизод с немецким фатером, сумевшим понять через свою беду горесть Спиридона, вроде бы уверил нас в каратаевской незлобивости окончательно (толстовские мотивы здесь действительно отчетливы). И вроде бы отгорожен Спиридон от политики и идеологии и не думает о них:
Его родиной была – семья.
Его религией была – семья.
И социализмом тоже была семья.
(493)
И вроде бы можно убаюкаться этими ритмичными строками (а там желающий скажет: вот и Яконов ведь борется за свой дом), как вдруг складывающаяся на протяжении трех глав картина рушится. И на вопрос скептика Нержина «Это мыслимо разве – человеку на земле разобраться: кто прав? кто виноват?» (499) (вновь и вновь возникает – теперь в словах героя – толстовская мысль, толстовский взгляд на мир) скептик Спиридон отвечает «с такой готовностью, будто спрашивали его, какой дежурняк заступит дежурить с утра. – Я тебе скажу: волкодав – прав, а людоед – нет!» (499). И никакого скептицизма не остается в помине, и никакой «органичной жизни», и никакого Платона Каратаева.
Строго говоря, не остается вовсе ничего. Потому что, повторив поразившую Нержина пословицу (а разве могли бы мы жить без нее, без разящей ясности, которая сильнее и глубже любых честных и продуманных построений!), Спиридон дальше развивает апокалипсический сюжет: кличет на семью свою и «еще мильён людей», но – с «Отцом Усатым и всем заведением их» (499) самолет с хорошо знакомой читателям романа атомной бомбой. Что делать Нержину с измученным мужиком и его отчаянным «А ну! ну! кидай! рушь!!» (499)? Втолковывать ему, что после бомбы не будет и страдающего «по лагерях, по колхозах, по лесхозах» (499) народу? Или, поверив пословице, принять за ней и атомное проклятье?
Пушкинский мужик Архип в «Дубровском» пожалел кошку, но весело глядел на горящих в доме чиновников. Про русский бунт за последние два века говорено-переговорено. А ведь истовый крик Спиридона – тот самый бунт, а что оружием становится не дреколье, а чужая бомба, так, во-первых, пойди-ка с рогатиной на сталинскую махину, а во-вторых, бунтует-то Спиридон теоретически. Но оттого, что бунт вершится на словах, не менее страшно. До какого же отчаянья нужно довести ко всему пригодного, мастеровитого, душевно крепкого человека, если ему не жаль уже ни себя, ни близких, ни земли. Или вправду нет никакой России, а только сплошные лагеря, колхозы, лесхозы – тюрьма, гибель которой спасет человечество?
Разговор со Спиридоном – это не откровение, а еще одно искушение на пути Нержина. Искушение не исчезает оттого, что в роли искушающего, отчаявшегося (вспомним, что крайняя степень отчаяния – самоубийство – есть тягчайший грех) выступает один из самых дорогих автору героев. Спиридон не судится тем судом, что Рубин и Сологдин, но от этого отчаянье его не становится истиной и не может быть до конца разделено ни Нержиным, ни автором.
Антитезой страшному бунту Спиридона предстает в романе замысел Герасимовича, идея заговора «техно-элиты», своего рода потенциальных декабристов[115]115
«Декабристская» линия в романе – реликт ранее написанной пьесы «Пленники» (первоначально: «Декабристы без декабря»); см.: Нива Жорж. Солженицын. М.: Художественная литература, 1991. С. 55–56.
[Закрыть]. Герасимович, в отличие от Рубина и Сологдина, не играет в игры с враждебной системой и мало озабочен собственным «я». Он подчинен другой, внезапно озарившей его идее: «техно-элита» – единственный наследник ушедшей Руси (мысль эта пронзает героя после рассказа о легендарной картине Корина «Русь уходящая»), и, следовательно, ей принадлежит будущее. Надежда на военный переворот (и снова звучит мотив атомной бомбы) неотрывна от веры в прогресс, которой, видимо, и держится щуплый Герасимович.
Солженицын готовит декабристский поворот сюжета исподволь: жена Герасимовича перед свиданием вспоминает декабристок и горько иронизирует над их участью; в воспоминаниях Яконова Агния бранит Наташу Ростову за то, что она Пьера не пустит в декабристы; пушкинско-декабристские мотивы окрашивают эпизод празднованья дня рождения Нержина; наконец, диалог Нержина со Спиридоном не может не вызвать в памяти бесед Пьера Безухова с Платоном Каратаевым и их отголоска в эпилоге «Войны и мира». Но, тщательно прорабатывая будущий поворот идеологического сюжета, писатель предусмотрительно обходит фигуру самого идеолога – Герасимовича. Мы знаем о нем лишь то, что он не поддался на уговоры обессилевшей и любимой жены и отказался служить «ловцом человеков». Нет ни намека на его дискредитацию (жесткость отношения к жене не может быть поставлена в счет – слишком страшна предложенная цена свободы). Солженицыну легко было бы приписать герою честолюбие, жажду власти, цинизм – он этого не сделал. «Декабристский вариант» опровергается не потому, что Герасимович плох, и не потому, что Нержин видит его неисполнимость. Неприемлемость его заложена в самих импульсах, двинувших Герасимовича к его идее. Для Солженицына и Русь не ушла (не могла уйти вовсе, нынешний «разброд» – предвестье будущего возрождения), и прогресс далеко не абсолютен («Да если б я верил, что у человеческой истории существует перёд и зад! Но у этого спрута нет ни зада, ни переда» (652), – восклицает Нержин). Бунт и заговор, атомная бомба, падающая с американского самолета, или своя, но направленная против Сталина и его банды, равно несовместны с предназначением России.
Герасимович недоволен Нержиным («Отдать всю планету на разврат? Не жалко?»), и Нержину, как кажется, нечем крыть («Планету – жалко. Лучше умереть, чем до этого дожить» (653)), он лишь ищет выход, выглядывает в сумерках будущую дорогу и словно ощупью набредает на удивляющий Герасимовича вывод: слово разрушит бетон.
Это действительно противоречит и сопромату, и диамату, но – прав Нержин – не противоречит Евангелию. Нержин чувствует, что он прикоснулся к тайне, и вместе с ним к тайне прикасаемся мы.
Слово – душа народа, его память, его история. И человек, ощутивший историю народа – своей, как ощутил это Володин, вникая в родословную, беседуя с дядюшкой и вглядываясь в деревню Рождество, становится похожим на поэта и совершает поступок, противоположный всему тому, что воспитывала в нем среда. Дочь прокурора Клара, почувствовав фальшь бесчисленных слов, верит и зятю, который скоро станет государственным преступником, и Руське Доронину – уже зэку. И тот же Руська, вроде отравленный общественной ложью, всей плотью своей, молодостью, рисковостью, авантюрностью, ломает ни с того ни с сего стройный уклад Шишкиных-Мышкиных. Не случайно трех молодых героев многое связывает, не случайно, что даже с Руськой косвенно соотносится тема Есенина (будучи стукачом-двойником, Руська «заложил» есенинский томик Нержина куму). Этой молодости не должно быть в сталинской стране («К порокам среди молодёжи надо быть а-собенно нетерпимым!» (146) – учит Сталин Абакумова), а она – есть.
Живое ищет жизнь. Мертвая идеология обречена на гибель, а слово найдет свой путь. Пусть Сталин и его, как говорит Спиридон, «заведение» лишили героев Солженицына счастья отцовства – дети не перестают рождаться, как не перестают звучать слова. Солженицынская вера в будущее неотрывна от его веры в слово. Ибо он твердо знает, что Младенец, с которого началась наша эра, избежал иродовой казни, ибо он верует: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
Вот почему протагонистом романа, способным пройти сквозь искушения и расслышать все многоголосье, оказывается будущий писатель. Нержинская поглощенность писательским делом (а для Солженицына, как некогда для Гоголя, труд историка неотделим от труда писателя) скрыто мотивирует все его поведение. Он уходит с шарашки не потому, что вообще стыдно на шарашке оставаться (остается же такой обаятельный и дорогой автору персонаж, как Потапов); не потому, что работа «на Пахана» противоречит его убеждениям (это прожект Сологдина и решение Герасимовича); не потому, что его тяготит элитарность и оторванность от народа (мы знаем, что Нержин отнюдь не мифологизирует народ, а к друзьям по шарашке относится с истинной душевной приязнью, достаточно вспомнить его «лицейский» тост «за дружбу, расцветающую в тюремных склепах» (404)[116]116
Как шарашка – «круг первый» – есть соцветие свободных и ищущих умов (хотя Нержин знает недостатки и грехи своих соузников), так и Россия – «круг первый» – есть тайное соцветие лучших умов человечества. Именно здесь, по Солженицыну, должна выковаться будущая великая культура.
[Закрыть]. Нержин уходит в лагерь потому, что убежден: там ему легче будет продолжать свое катакомбное писательство. То писательство, ради которого он живет, может быть до конца и не отдавая себе в этом отчета.
Писательство, дело художника – не страсть, не досужее занятие, не следствие выбора, это – поручение. Дар можно промотать, фальсифицировать, как поступает популярный беллетрист Галахов (его книги есть в шарашечной библиотеке; его читает соседка жены Нержина по общежитию, аспирантка из Венгрии, наконец, мы видим его на макарыгинской вечеринке[117]117
Нельзя упустить очередной солженицынский гротеск: Галахов допрашивает свояка – Володина о том, каков советский дипломат. Скоро Володина будет допрашивать реальный следователь. И на сходную тему. Подробнее об этом см. в главе «Жизнь и поэзия в романе “В круге первом”».
[Закрыть]). Дар можно противопоставить реальности – это судьба художника Кондрашёва-Иванова, идущего в своих талантливых картинах мимо обыденности – к рыцарскому идеалу (несомненно, линия Кондрашёва-Иванова связана и с линией Сологдина: рыцарство, католицизм, неведомая, «не-левитановская» Россия, замок святого Грааля, и с линией Герасимовича: художник – потомок декабриста; в свою очередь, через фигуру живописца прорисовывается странное родство Сологдина и Герасимовича). Если Галахов однозначно высмеян (хотя упоминание о его растраченном таланте отнюдь не этикетно), то к Кондрашёву-Иванову автор относится сложнее. Конечно, картины его – подлинное искусство, а шутка о сходстве его метода с социалистическим реализмом остается шуткой. Но все же разрыв идеала и действительности, на котором настаивает художник, не может удовлетворить Солженицына.
Авторское заверение: «…и сама “шарашка Марфино” и почти все обитатели её списаны с натуры», – не скромная констатация, но credo писателя. Только полная реальность мировидения делает зримым идеал, никогда не уходящий из мира. Поэтому тяга к натуре (а в исторических сочинениях – к документу) – характернейшая черта прозы Солженицына. Поэтому писателем может стать лишь напряженный свидетель, каким и предстает в романе Нержин.
Портретность, натурность солженицынской прозы не уплощает ее, но углубляет. Полнота знания о человеке дает возможность увидеть его тайну, оторвать от той идеологической маски, которыми столь щедро одаривает своих сынов XX век. Постоянные противоречия «натуры» и идеологической роли раздирают героев Солженицына; и, хотя ансамбль философских споров писатель выстраивает с железной логикой математика, обретаемая симметрия постоянно рушится то под ударами неистребимой стихии комического, то благодаря нисхождению автора в глубь души того или иного героя. Архитектоника постоянно поверяется психологическим анализом. Ни одно высказывание любого из героев не может быть воспринято как афоризм, сентенция в чистом виде – всегда действуют авторские оговорки, либо выраженные прямо, либо заложенные в целостной обрисовке характера. Солженицын щедро дарит героям свои мысли (аналогий с публицистикой можно найти множество, причем в речах самых разных, в том числе и малоприятных персонажей), прекрасно понимая и не забывая дать понять читателю, что мысль меняется в зависимости от контекста, характера говорящего, его состояния и т. п.
Текучесть внутреннего мира персонажей странным образом соотносится с катастрофически стремительным развитием сюжета, спрессованностью времени, головокружительными перипетиями. Пластичность, наглядность мира вещного готова перейти грань реальности и заблистать символами. Ориентация на внекнижную действительность не противоречит наплыву литературных и историко-культурных ассоциаций (цитатный план в романе не только количественно широк, но и всегда семантически нагружен). Солженицын ощущает себя законным наследником русской классической традиции и потому словно бы стремится совместить в едином свободном дыхании – Толстого и Гоголя, Достоевского и Замятина, Пушкина и Есенина. Его книги должны доказать, что Россия не погибла, что, пережив сталинский ад, страна наша осталась живой, а душа ее, словесность ее – свободной.
Ради этого живет Нержин. Ради этого спускается он снова в бездну. И когда горят его рукописи, мы не можем забыть о том, что хоть и читаем книгу человека, прошедшего ад, многих и многих книг прочесть нам не дано. Они сгорели. Погибли. Не были написаны. За них – погибших, неведомых миру – писателей должен писать главный герой романа, за них пишет сам Солженицын.
В булгаковском романе слова «рукописи не горят» произносит дьявол – Солженицын не верит в Воландов спецхран. Он знал и знает – горят (поэтому и сравнение в авторской преамбуле с «Мастером и Маргаритой» не лишено полемичности)[118]118
Интересные соображения об этом тексте см.: Лекманов Олег. О преамбуле к роману А. И. Солженицына «В круге первом» // Замечательное шестидесятилетие: <В 2 т.>. М.: 2017. Т. 1. С. 211–216.
[Закрыть]. Нетленными они могут стать, лишь если Бог сохранит писателя, полностью подчинившего себя тому Слову, что властно звучит в его душе и вмещает весь мир. Писательство становится вновь – как для Гоголя – делом спасения отечества. Спасение же отечества, первым вошедшего в адские круги, есть и спасение человечества.
Почти в строгом центре романа, финале 52-й главы (в двухтомных изданиях главой этой закрывается первая книга), жена Нержина, уже решившаяся от него отречься, готова изменить герою. Неожиданно она сообщает своему поклоннику Щагову, что муж ее жив и сидит в тюрьме. После прерывистой беседы, внезапного исчезновения Щагова и его стремительного возвращения звучат выделенные разрядкой слова: «Выпьем – за воскресение мёртвых!» (373). Так в роман, действие которого разыгрывается в западное Рождество, входит тема Пасхи, праздника Воскресения.
Воскресение Нержина – и воскресение Слова, воскресение Культуры, воскресение России… Капитан Щагов не думал о том, что таится за его скромным тостом. Писатель, прошедший путем своего любимого героя, – думал. Он знал, что душа человека, России, человечества, одаренного почти две тысячи лет назад Благодатью, не может пребывать в смерти. Как знал Гоголь, завершивший первый том «Мертвых душ» словами надежды и восторга. Как знал Достоевский, завершивший «Братьев Карамазовых» клятвой мальчиков над могилой Илюшечки. Как знал Пастернак, завершивший «Доктора Живаго» стихами о близящемся Вокресении Христовом.
ГЛАВА IV. Жизнь и Поэзия в романе «В круге первом»
Сюжетная структура романа «В круге первом» ставит перед читателем (и/или исследователем) два, на поверхностный взгляд, наивных вопроса. Во-первых, непонятно, зачем Солженицын сводит в одном тексте рассказы о шарашке и формально неудавшемся подвиге Володина, обычный, словно бы случайно выбранный фрагмент летописи марфинской спецтюрьмы (промежуток с субботнего вечера по утро вторника так же полно и точно воссоздает бытие насельников гулаговского лимба, как один день – всю лагерную жизнь Ивана Денисовича) и невероятную – детективно-авантюрную – историю, максимально свое (автобиографизм романа акцентирован уже посвящением «друзьям по шарашке» (9)[119]119
Даже если предположить, что в ранних (потаенных) редакциях личный опыт автора был лишь материалом, то уже в предложенном «Новому миру» тексте (несмотря на существенную деформацию смысловой конструкции) автобиографизм оказывался семантически нагруженным: читатели «Одного дня Ивана Денисовича», безусловно, понимали, что автор рассказа прошел сталинские лагеря, соответственно избравший писательскую стезю герой-заключенный (Нержин) просто не мог не ассоциироваться с Солженицыным. Как было показано в главе II «Русская словесность на Матрёнином дворе», автобиографические мотивы отчетливо звучат уже в третьем опубликованном сочинении Солженицына.
[Закрыть]) и совершенно чужое. Во-вторых, столь же непонятно, кто ведет повествование о безвозвратно сгинувшем в гулаговской бездне Володине, откуда взяты сведения о его нормальной жизни, роковом выборе, чувствах и мыслях. Привычная отсылка ко всезнающему автору здесь едва ли продуктивна.
Не касаясь этой сложной теоретической проблемы в целом (как кажется, позиция всезнающего безличного автора используется в новой и новейшей словесности не так уж часто), обратим внимание на выраженно субъективную (автобиографическую) окраску шарашечных глав. Разумеется, и здесь описываются не только те события, участником или непосредственным свидетелем которых был Нержин, однако реконструкция душевных состояний других героев, прежде всего Рубина и Сологдина, выглядит совершенно естественной: всех марфинских персонажей романный Нержин хорошо знает. При этом мы не ощущаем какого-либо контраста шарашечных и володинских глав, не видим какого-либо изменения авторской позиции. Неведомый марфинским зекам дипломат (даже фамилии пятерых подозреваемых известны лишь Рубину) так же индивидуально конкретен, как персонажи, имеющие прототипов. С другой стороны, обычные тюремные будни в итоге оказываются поворотными в судьбе главного героя. Дело не в том, что в финале романа Нержин спускается в ад (покидает шарашку)[120]120
«Шарашечная» часть повествования жестко закольцована: она открывается прибытием в Марфино новой партии зэков (буквально первые фразы гл. 3 («Шарашка») – возгласы: «Новички! Новичков привезли!» – 20), а завершается описанием замаскированного воронка, в котором увозят Нержина и других списанных заключенных (716–720). Сама по себе смена контингента – типовая примета «круга первого».
[Закрыть], но в добровольности его выбора. Хотя уже субботним вечером Яконов, раздраженный отказом строптивца сменить «артикуляцию» на «математику» («туфту», оставляющую время для писательства, на изматывающий умственный труд), делает в блокноте запись «Нержина – списать» (61), судьба дарует герою шанс (подсовывает искушение) закрепиться «в круге первом» – Рубин предлагает Нержину принять участие в выявлении дипломата, звонившего в американское посольство: «Второй раз за сутки ему предлагали спасение. И второй же раз спасение это не радовало его» (335)[121]121
Третий шанс выпадает Нержину буквально перед этапом. Теперь соблазнителем выступает Сологдин: «Ещё не поздно. Дай согласие остаться расчётчиком – и я, может быть, успею тебя оставить. Тут в одну группу ‹…› Но придётся вкалывать, предупреждаю честно» (705). Эпизод этот (почти точно дублирующий предложение Яконова) нужен прежде всего для смысловой симметрии: непримиримые идеологические противники – Рубин и Сологдин – идут на сотрудничество с режимом (хоть и по разным причинам) и, сохраняя приязнь к Нержину (оба пытаются уберечь друга от низвержения в нижние круги лагерного ада), в равной мере не понимают и не принимают его выбора.
[Закрыть].
В «разговоре три нуля» особо важны два смысловых обертона. Во-первых, Нержин отказывается признать в неизвестном дипломате «подлого московского стилягу», который «спешит выслужиться перед боссами» (335). Нержин доверяет анониму, как доверяет он – преодолевая понятные сомнения – ведущему рискованную игру Руське Доронину, появление которого в конце главы формально обрывает спор друзей, а по существу становится аргументом в защиту загадочного информатора американцев. (Руська сообщает о плане разоблачения стукачей (339), то есть об авантюрном, но далеко не бессмысленном боевом действии против якобы неодолимой чекистской системы.) Во-вторых, Нержин видит в том, кого Рубин почитает аморальным корыстолюбцем, героя высокой литературы: «Лёвочка! Поэзия и жизнь – да составят у тебя одно. За что ты так на него серчаешь? Это же – твой Алёша Карамазов, он защищает Перекоп» (339). Володин отождествляется не только с двоящимся персонажем «стихотворного этюда» Рубина (237), но и с его прообразом из романа Достоевского. Рубин, который «не был поэтом, но иногда набрасывал стихи задушевные, умные» (237), может почувствовать и передать тайное единство противоборствующих юных идеалистов в прошлом, но не способен распознать (признать) их сегодняшнего наследника. Для него жизнь (воспринимаемая по идеологической – марксистской – схеме) отделена от поэзии. Для Нержина же (и тем более для автора) истинная поэзия неотделима от жизни, в которой поэт прозревает и открывает недоступные обыденному сознанию высшие смыслы. Герой не случайно цитирует строку Жуковского, отнюдь не предполагающую банального приукрашивания действительности: жизнь равна поэзии тогда (и только тогда), когда незваное Вдохновение наводит «животворящий луч» на «все земное». Нержин призывает (тщетно) «не поэта» Рубина мыслить о жизни «поэтически» – это касается и поступка советского дипломата (для которого Рубин сразу находит тривиальное низкое – и неверное! – объяснение), и жизненного выбора самого Нержина. Ранее, узнав об отказе Нержина перейти в Семёрку, Сологдин наставительно замечает: «Ты ведёшь себя не как исчислитель, а как пиит» (179).
Он совершенно прав: Нержин избирает писательскую стезю. А для того, чтобы стать настоящим писателем, чье «слово… – разрушит бетон» (653), ему в равной мере необходимо, нарушая законы здравомыслия, оставить уютную шарашку и разгадать тайну «предателя», открыть в нем человека, ведомого высоким чувством. Предлагая Рубину признать в корыстном стиляге Алёшу Карамазова, Нержин словно бы примеривается к собственному рассказу об этом человеке, угадывает (пока – неуверенно) в странном дипломате своего героя, по внешним параметрам (социальный статус и предыстория) значимо отличного от потенциального автора, но сущностно с ним схожего. Отвергая рубинскую трактовку звонка в американское посольство, Нержин убеждает себя: жизнь и поэзия могут быть едины, а сам он избрал верный (хоть и рискованный, опасный, возможно – самоубийственный) путь.
Между тем для большинства романных персонажей коренное различие жизни и литературы сомнению не подлежит. Любимая поговорка Даши, соседки Нади Нержиной по аспирантскому общежитию, – «жизнь – не роман». Повторенное героиней дважды (352, 355), речение это вынесено в название 49-й главы, близко соседствующей с 47-й («Разговор три нуля»), где всплыла чуть измененная формула Жуковского «Жизнь и Поэзия одно»[122]122
Разделяет их глава «Двойник» (в названии ощутимы традиционно литературные семантические обертоны), повествующая о невероятной (достойной приключенческого романа) авантюре Руськи Доронина.
[Закрыть]. Женские истории, представленные в сплотке глав об общежитии на Стромынке, внешне подтверждают правоту Даши. Откликаясь на рассуждения Людочки, намеревающейся обмануть испанского поэта (сымитировать девственность), Оленька «весело» восклицает: «Так героини мировой литературы совершенно зря каялись перед женихами и кончали с собой?» – и слышит в ответ: «Конечно ду-у-ры!» (348). «Книжные» деньги Оленька намерена потратить на «гранатовое, креп-жоржетовое» платье (357). Научная работа занимает почти всех аспиранток много меньше, чем житейские (женские) проблемы.
Впрочем, две стромынских девушки – Муза и венгерка Эржика – воспринимают коллизию «литература и жизнь» иначе. Поэтическое имя (Муза; ср. цитату из Жуковского в устах Нержина) и род занятий (Тургенев, традиционно почитаемый наиболее романтичным и возвышенным из русских классиков) некрасивой интеллигентной аспирантки, истово увлеченной своим делом, наглядно контрастирует с вербовкой чекистов, страшной западней, в которую она попала (346–347). Соответственно все представления Музы о мире словно бы ставятся под сомнение: верить в любовь, отвергать мещанство, восхищаться русскими литературными героями, которые (в отличие от западноевропейских, озабоченных деньгами и карьерой) ищут «справедливости и добра» (361), – временный (пока жестокие обстоятельства не возьмут за горло) удел «книжных» идеалистов.
Дело, однако, обстоит сложнее. Муза убеждена, что «истинная любовь перешагивает гробовую доску» (353) не только потому, что она начиталась Тургенева (и много кого еще, включая Жуковского), но и потому, что помнит об идиллических отношениях своих пожилых родителей, которые «до сих пор любили друг друга как молодожёны» (346). Она не представляет себе, какие испытания выпадают ныне разлученным возлюбленным. Надя Нержина склоняется к разводу с осужденным мужем, но в романе явлены и другие варианты поведения жен заключенных. Человека можно сломать, принудить к нарушению нормы, но оттого любовь не перестает быть любовью. Вера Музы в лучшие чувства (любящей женщины вообще и Нади – в частности) той же естественной природы, что ее неуступчивость в противоборстве с чекистами: «Как же можно рассуждать о гамлетовском и донкихотском началах в человеке – и всё время помнить, что ты – доносчица…» (352–353). Вопреки литературному миропониманию Музы, демобилизованный капитан Щагов не входит в число «тех неуёмных натур, кто постоянно тычется в поисках всеобщей справедливости» (370). Он действует подобно героям западных романов[123]123
«Собственно, это не было ново для нашей планеты, а только для революционной страны» (370).
[Закрыть] – планирует выгодную женитьбу без любви, пробивается к возросшему в цене «кандидатскому званию» (371) без особой страсти к науке, всеми силами борется за «свой кусок пирога» (372). Но при этом не сводит себя до амплуа Растиньяка. Порукой тому и мысленные оговорки Щагова[124]124
Ср.: «…он бы взял его («кусок пирога». – А. Н.) иначе, если б талантливых людей у нас не загрызали на полпути ‹…› несмотря на то что его невеста живёт в праздности, она не очень испорчена» (372).
[Закрыть], и – главное – его реакция на неожиданное признание Нади. Услышав о том, что ее муж отбывает срок, Щагов не бежит от жены зэка (как сперва кажется героине и читателю), но проникается особым чувством и к «жене солдата», и к самому фронтовику, которому выпала горькая участь. Боевой офицер отлично знает, что в тюрьму многих бывших солдат приводит резонный вопрос: «за что же дрались?» (370). И хотя сам он избрал другой путь, чувство фронтового братства берет верх над карьерными установками. Надина двоящаяся (согревающая и страшащая, чреватая изменой мужу) приязнь к Щагову обусловлена тем «обаянием фронта», что в ее глазах роднит двух капитанов (371). Здесь героиня не ошибается: тост Щагова – «за воскресение мёртвых!» (373) – выражает главное поэтическое чувство Нержина, чувство, что строит его жизнь и воплотится в его будущем романе о буднях шарашки, неизвестном герое и становлении писателя[125]125
В двухтомных изданиях романа «В круге первом» (начиная с «вермонтского» Собрания сочинений, 1978) первый том завершается 52-й главой, то есть тостом Щагова. Это середина повествования (пусть не строго формальная – в романе 96 глав), отчетливо маркированная во всех крупных сочинениях Солженицына.
[Закрыть].
Резкая метаморфоза Щагова всего сильнее свидетельствует о правоте Музы (и музы) и зыбкости казавшегося неоспоримым присловья Даши. Заметим, что Дашина жизненная трактовка положения и душевного состояния Нади («Он жив, но бросил её!») вполне – при соблазнительной правдоподобности – литературна и отнюдь не соответствует той окружающей персонажей действительности, о которой Даша не может (не хочет) думать. Муза тоже не способна прозреть до конца (сопоставить только что обрушившийся на нее зловещий сюжет с Надиным), но ее отвлеченная, уходящая от простых объяснений неизвестного, основанная на доверии к Наде версия происходящего очень близка к истине: «Значит, она жертвует собой во имя его счастья ‹…› Значит, почему-либо нужно, чтоб она молчала и не выходила замуж!» (354). Еще одним – комическим – опровержением Дашиной уверенности в том, что «жизнь – не роман» выступает ее собственная история с буфетчиком, где героиня скрывает свой высокий социальный статус, невольно воспроизводя полнящийся иронией сюжет «Барышни-крестьянки», что предполагает столь желанную для Даши свадебную развязку[126]126
Едва ли случайно Солженицын легким намеком вводит позднее в текст этот пушкинский шедевр. Вечер понедельника Володин собирался провести в театре – на «Акулине», оперетте Т. Н. Хренникова по мотивам последней повести Белкина (о чем, впрочем, герой, кажется, не знает, а читатель специально не информируется) (607). Вместо спектакля о веселом и счастливо завершившемся розыгрыше Володина ждет арест, проведенный с издевательскими чекистскими мистификациями.
[Закрыть]. Наконец, достойно внимания, что антироманная сентенция вложена в уста героини романа.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































