Текст книги "Проза Александра Солженицына"
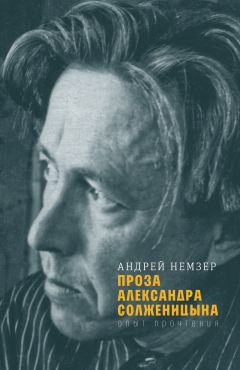
Автор книги: Андрей Немзер
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
«Жизнь – не роман», если роман (или сочинение иного жанра) эту самую жизнь игнорирует, упрощает, сводит к загодя известной схеме[127]127
Либо – вопреки намерениям автора и самой своей стати – воспринимается как выдумка или навязанный авторитет, не имеющие отношения к проблемам сегодняшнего читателя. Ср. отношение Клары Макарыгиной к школьному и университетскому курсам «литературы» (291).
[Закрыть]. Иными словами, жизнь – не «Избранное» Галахова, которое увлеченно читает венгерская аспирантка. «Эта книга раскрывала перед ней мир высоких, светлых характеров, цельность которых поражала Эржику. Персонажей Галахова никогда не сотрясали сомнения[128]128
Ср. колебания меж гамлетовским и донкихотским началами или просто рефлексию как важнйшую черту большинства главных героев Тургенева, наследием которого занимается Муза. Герои западных (да и некоторых русских) романов, что гонятся за славой, деньгами, карьерой, вовсе не рождаются «прагматиками», но приходят к этой позиции после долгих колебаний, описание (осмысление, истолкование) которых и составляет главный предмет авторского внимания.
[Закрыть] – служить родине или не служить, жертвовать собой или не жертвовать[129]129
Здесь необходимо вспомнить о выборе Володина. Формулы, извращенные советской демагогической практикой, обретают для Володина истинный смысл, а потому роковому решению сопутствуют страх, успокаивающий самообман, упреки себе за уже совершенный поступок, неведомые персонажам Галахова.
[Закрыть]. Сама Эржика по слабому знакомству с языком и обычаями страны ещё не видела таких людей тут, но тем более важно было узнавать их из книг» (347–348). Самообман Эржики коренится не только в вере бывшей подпольщицы в СССР как авангарда человечества, но и в трепетном отношении к словесности. Действительность, в которой есть «моментальные», то есть «временные», дурные черты (348), в сущности, прекрасна, ибо таковой предстает она в сочинениях Галахова, которым надлежит верить больше, чем собственному опыту. Эржика не замечает подмены, которую отлично понимает другой читатель, чья оценка галаховских сочинений введена в повествование раньше:
Еще книга была – «Избранное» известного Галахова. Несколько отличая имя Галахова и чего-то всё-таки ожидая от него, Хоробров уже читал этот том, но прервал с ощущением, что над ним так же издеваются, как когда составляли добровольный список на выходной. Даже Галахов, неплохо умевший писать о любви, давно сполз на эту принятую манеру писать как бы не для людей, а для дурачков, которые жизни не видели и по слабоумию рады любой побрякушке. Всё, что действительно рвало сердца человеческие, отсутствовало в книгах. Если б не началась война – писателям только оставалось перейти на акафисты. Война открыла им доступ к общепонятным чувствам. Но и тут выдували они какие-то небылые конфликты – вроде того, что комсомолец в тылу у врага десятками пускает под откосы эшелоны с боеприпасами, но не состоит на учёте ни в какой первичной организации и день и ночь терзается, подлинный ли он комсомолец, если не платит членских взносов.
(216–217)
Отношение Хороброва к Галахову не только предсказывает и дискредитирует читательскую реакцию Эржики, но и объясняет ее, а заодно и широкую популярность сочинений многократного сталинского лауреата. Галахов вовсе не бездарен. Он хочет выразить «общепонятные чувства». Он явно не случайно предан военной теме, в которой дозволяется сказать чуть больше, чем при разработке иных сюжетов. Он понимает, что новейшая литература не может быть бесконфликтной: если Эржике кажется, что галаховские персонажи никогда не сомневаются, то Хоробров примечает у них мнимые духовные коллизии (комически балансирующие на грани пародии). Полярные по оценке суждения двух читателей (изощренного и простодушного) одинаково свидетельствуют о разрыве жизни и поэзии в галаховских сочинениях, которые заменяют истинную литературу. Так готовится появление самого Галахова, напряженно играющего роль настоящего писателя[130]130
До выхода персонажа на сцену имя Галахова возникает трижды. Кроме рассмотренных эпизодов о читателях «Избранного», известный писатель упоминается в главе «Женщина мыла лестницу» – сообщается о его романе и женитьбе на старшей сестре Клары Макарыгиной. Абзацем выше говорится о браке другой сестры и Володина (289–290). Такое композиционное решение мотивировано не столько необходимостью указать на свойство Галахова, Макарыгиных и Володина и объяснить его присутствие на воскресном вечере в доме прокурора (это можно было сделать и в главе, посвященной празднеству), сколько движением все той же темы «жизнь и поэзия». В отличие от сестры (будущей жены Галахова), упоенно перечитавшей «всю мировую литературу от Гомера до Фаррера» (290), Клара равнодушна к словесности, которая не говорит ей «что-то очень главное о жизни» (291). Своим кошмаром («поломойка и сегодня стоит на их лестнице») она делится не с писателем Галаховым, который вроде бы должен знать про жизнь самое важное, а с младшим зятем, по всем статьям ей чужим, – Володиным (295–296). Клара интуитивно предпочитает мнимого писателя скрытому будущему герою того романа, что воссоздает жизнь и является ее неотменимой частью.
[Закрыть].
Поведение Галахова на вечеринке Макарыгиных точно соответствует типовым представлениям о писателе. Сановный прокурор Словута не ошибается, предполагая, что припоздавший Галахов ничего не рассказывает, потому как придумывает «новый роман». Тремя абзацами ниже сообщается:
Галахов действительно на прошлой неделе задумал писать о заговоре империалистов и борьбе наших дипломатов за мир, причём писать в этот раз не роман, а пьесу – потому что так легче было обойти многие неизвестные ему детали обстановки и одежды. Сейчас ему было как нельзя кстати проинтервьюировать свояка, заодно ища в нём типические черты советского дипломата и вылавливая характерные подробности западной жизни, где должно было происходить всё действие пьесы, но где сам Галахов был лишь мельком, на одном из прогрессивных конгрессов. Галахов сознавал, что это не вполне хорошо – писать о жизни, которой не знаешь, но последние годы ему казалось, что заграничная жизнь, или седая история, или даже фантазия о лунных жителях легче поддадутся его перу, чем окружающая истинная жизнь, заминированная запретами на каждой тропинке.
(451)
Галахов напрасно надеется, что обращение к «заграничной жизни» избавит его от всегдашних трудностей советского литератора. Сперва Володин озадачивает его сравнением писателей и следователей («Всё вопросы, вопросы, о преступлениях»), потом возражением на реплику о поиске в человеке «достоинств» («Тогда ваша работа противоположна работе совести») и, наконец, замечанием «Ведь у нас (дипломатов. – А. Н.) есть что скрывать» (452)[131]131
Ср.: «Главная-то работа (о которой знает и не хочет знать Галахов. – А. Н.) была вторая, тайная: встречи с зашифрованными личностями, сбор сведений, передача инструкций и выплата денег» (434).
[Закрыть]. Все высказывания Володина мотивированы его состоянием (звонок в американское посольство – «преступление», связанное с секретной составляющей дипломатической службы и совершенное по велению совести) – все они сводят на нет литературные установки Галахова. Автор, рассчитывавший получить ценную информацию от профессионала, не слышит (и не может услышать), что ему говорят, не видит в собеседнике героя (в обоих – здесь неразрывно связанных – смыслах слова), но испытывает от разговора странное (бессознательное) смущение, смешанное с раздражением.
Володин вовсе не хочет обидеть свояка, задавая ему болезненные вопросы о «военной теме» («Коллизии, трагедии – иначе б откуда вы их брали»[132]132
Ср. выше размышления Хороброва.
[Закрыть]), поставленных ей «пределах» и ее фальсификациях, назначении писателя («Ведь писатель – это наставник других людей, ведь так понималось всегда?»), смысле литературных свершений тридцатисемилетнего («Пушкина в это время уже ухлопали») Галахова, ответственности поколения (452–453), но каждая его фраза звучит приговором. Особенно убедительным потому, что Галахов все сказанное Володиным сам отлично знает. Как знает, что советскому литератору можно лишь «втайне» примериваться к «пушкинскому фраку» и «толстовской рубахе» (453), то есть к роли настоящего писателя (потому не случайно в речи его всплывает пошлая костюмная атрибутика). Галахов в глубине души понимает, что он совсем не такой писатель, какими были Пушкин и Толстой, что он принадлежит подменной литературе, той, что может обеспечить славу, но не бессмертие, «взмахи» которого, по страшной догадке героя, «только и были в тех немногих стихах, заучиваемых девушками» (455).
Отказ от бессмертия, совершенный не одним Галаховым, но всем (как ему кажется) литературным цехом, оправдывается необходимостью «влиять на течение жизни сейчас» (455). Но это влияние либо вовсе фиктивно (неотличимо от воздействия газет, транслирующих волю партии), либо ничтожно, когда одаренный и до известной степени стремящийся быть честным литератор (Галахов как раз из таких) соглашается «писать хоть ту четвёртую, восьмую, шестнадцатую, ту, чёрт её подери, тридцать вторую часть правды, которую разрешалось, хоть о поцелуях и природе, – хоть что-нибудь лучше, чем ничего» (455). Традиционная (неразрешимая и плодотворная) антиномия «чистое искусство – общественная польза» в советской ситуации утрачивает смысл: отказ от правды ведет к оскудению (в конечном итоге – смерти) поэзии. Потому Галахов и чувствует, что «его пьесы, его рассказы и его роман умерли у него на глазах ещё прежде, чем автор дожил до тридцати семи лет» (455). Потому (а не только из-за вновь нахлынувшего страха) Володину остается лишь «досказать» («но голосом потерянным и с кислой, кривой улыбкой, когда вот-вот растечётся лицо») единственно потребную его собеседнику банальность (начиненную издевательской двусмысленностью, что тоже едва ли ускользнет от «инженера человеческих душ»):
– А черты нашего дипломата? ‹…› Ты и сам можешь их себе хорошо представить. Высокая идейность. Высокая принципиальность. Беззаветная преданность нашему делу. Личная глубокая привязанность к товарищу Сталину. Неукоснительное следование инструкциям из Москвы. У некоторых – сильное, у некоторых – слабоватое знание иностранных языков. Ну, и ещё – большая привязанность к телесным удовольствиям. Потому что, как говорят, жизнь даётся нам – один только раз…
(456)
В последней фразе Володин повторяет непрестанно используемые советской пропагандой слова героя романа Николая Островского «Как закалялась сталь» (ч. 2, гл. 3): «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы самому главному в мире: борьбе за освобождение человечества». Галахов, как и читатель, должен опознать цитату и воспринять ее как литературную рекомендацию. Именно так должно писать о советских дипломатах, для которых «борьба за освобождение человечества» слилась с «привязанностью к телесным удовольствиям». Финал монолога Володина раскрывает те реальные смыслы, что стоят за произнесенными ранее правильными словами, необходимыми для создания правильного произведения о советских дипломатах и маскирующими как «эпикурейский» цинизм большинства володинских сослуживцев (и до недавней поры его самого), так и трагедию Володина нынешнего (и, возможно, еще кого-то из его прозревших, но таящихся коллег). Эти персонажи стоят своих потенциальных авторов, которым только вредно (что понимает и Галахов) знать, чем же на самом деле заняты и что чувствуют и думают «беззаветно преданные нашему делу» чиновники МИДа.
Как Володин не может раскрыться в разговоре на вечеринке, так его свояк не может угадать в собеседнике героя романа. Причиной тому – измена Галахова писательскому назначению; он существует не в литературе, а в советской литературе, озабочен не единством поэзии и правды (бессмертием своего и только своего слова), а соответствием принятым нормам[133]133
Ср. вопросы Володина: «…кто ты? Какими идеями ты обогатил наш измученный век?.. Сверх, конечно, тех неоспоримых, которые тебе даёт социалистический реализм» (453).
[Закрыть], адресует свои сочинения не «брату, другу и сверстнику-читателю», но «прославленному, главному критику Ермилову». Подмене книги, строящейся с учетом реакции надсмотрщика, предшествует подмена представлений о литературе как таковой. Принимаясь за каждую «новую большую вещь», Галахов параллельно сочиняет будущую статью Ермилова, которую погромщик начнет «с каких-нибудь самых святых слов Белинского или Некрасова <….> и выяснится, что Белинский или Герцен горячо засвидетельствуют, что новая книга Галахова выявляет нам его как фигуру антиобщественную, антигуманную, с шаткой философской основой» (456). Останься Галахов писателем, приговор ему был бы вынесен от имени фальсифицированной литературной традиции. Но это значит, что поддавшийся «контраргументам Ермилова» (456) сочинитель отторгается теми самыми классиками, фамилии которых бессовестно прикреплены советскими критиками к потребным для их зловещих игр фантомам. Имя Герцена маркировано – оно вводится не в зачине угадываемой статьи Ермилова, но в обвинительном пассаже, что придает ему особый вес. И это закономерно: одним из важнейших стимулов к душевному перевороту Володина (и его поступку) стали вопросы Герцена, которыми ошеломил благополучного племянника «тверской дядюшка»: «…где границы патриотизма? Почему любовь к родине надо распространять и на всякое её правительство? Пособлять ему и дальше губить народ?» (441). Эти же слова вспоминает Володин в лубянской камере, обретая «второе дыхание» (691, 692). Герцен с Володиным, а не с Галаховым[134]134
Несколько иначе роль Галахова (с указанием на его легко узнаваемого прототипа, К. М. Симонова) характеризуется в яркой статье: Лосев Лев. Поэзия и правда у Солженицына // Лосев Лев. Солженицын и Бродский как соседи. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010. С. 310–312. Там же (С. 313–316) справедливо указано на пьесу Симонова «Чужая тень» (1949) как «источник» облегченного сюжета в «лекарственной» версии романа (так называемый «Круг-87»), предназначавшейся для публикации в «Новом мире», широко ходившей в самиздате, напечатанной на Западе и до 1978 года замещавшей истинный текст.
[Закрыть].
Для того чтобы понять Володина (увидеть в нем не обычного дипломата или дипломата-предателя), надо быть писателем. Это не дано Рубину, влюбленному в настоящую литературу, иногда заражающемуся чужим поэтическим словом (не случайно в его нравящемся Нержину «перекопском» стихотворении возникает раздвоившийся Алёша Карамазов), но не способному почувствовать поэтичность (непредсказуемость, свободу) в окружающей действительности, которая, с его точки зрения, регулируется (и должна регулироваться) марксистскими законами. Это не дано Галахову, изначально одаренному поэтическим чувством и тягой к бессмертию, но променявшему их на внешне комфортное бытие успешливого советского литератора. Это дано Нержину, буквально ничего не знающему о человеке, позвонившем в американское посольство, но сперва отказывающемуся судить о нем по шаблону, а потом – годы спустя – достроившему личность и судьбу героя, который бесследно сгинул в казематах Лубянки, но – вопреки всему, и в том числе собственным предчувствиям, обрел бессмертие. Воскресение мертвых, за которое предлагает выпить Наде Щагов, это не только возвращение Нержина и других (оставшихся в живых) узников ГУЛАГа, но и сохранение памяти обо всех погибших. И едва ли не в первую очередь о тех, кто был уничтожен «за дело» – тех, кто дерзнул вступить в поединок с коммунистической системой, тщившейся поработить (лишить свободы) все человечество.
В выборе неведомого дипломата Нержин распознает свой выбор. Один должен совершить подвиг (пусть без практического результата), другой – сохранить в себе писателя. Бессмертие писателя невозможно без полного подчинения неразрывному единству жизни и поэзии, которое в свою очередь может потребовать самопожертвования. Его и совершает Нержин, расставаясь не только с относительным благополучием существования на шарашке, но и с самым дорогим – сделанными в Марфине набросками книги о революции. Чтобы стать писателем, должно на время оставить собственно писание и утратить материальные плоды своей работы. Стратегия Нержина прямо противопоставлена практике Галахова, которому «всё трудней становилось писать каждую новую хорошую страницу». Галахову требуются идеальные бытовые условия – «иначе он никак не мог писать» (455). Однако ни специально выбранное время («он заставлял себя работать по расписанию»), ни свежий воздух и «восемнадцать градусов Цельсия», ни чистота на столе (вообще-то, споспешествующие литературному труду и упомянутые не только для дискредитации персонажа!) не могут избавить его от соавторства с Ермиловым, сделать свободным. Галаховский эпизод – история умирания советского писателя, противопоставленная истории рождения через смерть писателя настоящего[135]135
Потому день рождения Нержина и приходится на Рождество, подразумевающее Воскресение. Отметим, что Галахов выводится на сцену именно 25 декабря (Рождество, день рождения Нержина, воскресенье).
[Закрыть], каким станет Нержин, будущий автор романа о шарашке, верности жизни-поэзии и бессмысленном подвиге прозревшего дипломата.
Тема духовного родства будущего автора (Нержина) и потенциального романного героя (Володина) актуализируется в финале разговора Нержина и Герасимовича. Вера Нержина в «слово», что «разрушит бетон», не встречает понимания у его собеседника, уповающего на действие практическое – военный переворот (по Нержину, невозможный и ненужный). Пытаясь подкрепить свою веру в слово (естественно соотнесенное с тем Словом, что было в Начале, что «исконней бетона»), Нержин говорит:
…Здесь – тайна. Как грибы по некой тайне, не с первого и не со второго, а с какого-то дождя – вдруг трогаются всюду. Вчера и поверить было нельзя, что такие нероды могут вообще расти, – а сегодня они повсюду! Так тронутся в рост и благородные люди, и слово их – разрушит бетон.
– Прежде того понесут ваших благородных кузовами и корзинами – вырванных, срезанных, усечённых…
(653)
Горькая реплика Герасимовича закрывает главу «На задней лестнице», прямо за которой следует глава об аресте Володина «Да оставит надежду входящий». Нержин не говорит Герасимовичу о странном дипломате, решившемся словом помешать черному делу, но, несомненно, помнит о нем (в разговоре с Герасимовичем важное место занимает тема атомной бомбы), этот неизвестный – один из нежданно обнаружившихся благородных людей. Мы знаем, что Володин переменился благодаря словам, в которых сохранилась подлинная история его семьи и его страны (письма и архив матери, разговоры с тверским дядюшкой). Он движется по тому же пути, который сознательно избрал Нержин, занятый восстановлением истории, уяснением причин сегодняшних бед – работой над книгой о революции. Нержин полагает, что только этот путь ведет сперва к внутреннему освобождению отдельных личностей, а затем к освобождению России: совершить подвиг, подобный володинскому, способен лишь человек, не только осознающий бедственное положение страны и исходящую от Сталина угрозу человечеству (как, например, Герасимович), но и приобщившийся к истории, увидевший ее трагически искривленный ход и принявший на себя ответственность за грехи родителей, о необходимости искупления которых говорит Володину дядюшка Авенир (447).
Интимный, страстный и побуждающий действовать интерес к новейшей истории России[136]136
Этот мотив сложно переплетен со многими другими, предсказывающими будущую книгу Нержина о русской революции и проясняющими ее творческую историю. Очевидно, что во внероманной реальности аналогом книги Нержина выступает заветный труд прототипа главного героя романа «В круге первом»; подробнее см. в главе V этой книги «Колесо в Круге».
[Закрыть] – важная, но далеко не единственная нержинская черта Володина. Обратимся вновь к «разговору три нуля».
– Никуда ты не денешься! – грозно толковал Рубин. – Придётся тебе дать отчёт: по какую сторону баррикады ты стоишь?!
– Вот ещё, мать твою, фанатиков перегрёб, – всю землю нам баррикадами перегородили! – сердился и Нержин. – Вот в этом и ужас! Ты хочешь быть гражданином вселенной, ты хочешь быть ангелом поднебесья – так нет же, за ноги дёргают: кто не с нами, тот против нас! Оставьте мне простору! Оставьте простору! – отталкивался Нержин.
(337–338)
Акцентированное повтором слово «простор» отсылает к названию уже знакомой читателю главы «На просторе», где Володин (словно предсказывая Нержина) делится с Кларой своей главной печалью. Значимость его монолога подчеркнута отсылкой к заглавью романа, семантика которого решительно изменяется именно в этой точке повествования (прежде читатель должен был видеть в словосочетании «круг первый» лишь ироническое именование шарашки): «Вот видишь – круг? Это – отечество. Это – первый круг. А вот – второй. – Он захватил шире. – Это – человечество. И кажется, что первый входит во второй? Нич-чего подобного! Тут заборы предрассудков. Тут даже – колючая проволока с пулемётами. Тут ни телом, ни сердцем почти нельзя прорваться. И выходит, что никакого человечества – нет. А только отечества, отечества…» (313). Нержин и Володин хотят быть «гражданами мира» в пору, когда чужеземный эквивалент понятия становится бранной кличкой, – тема разворачивающейся борьбы с космополитизмом проходит сквозь весь роман, начиная с диалога Рубина и Нержина в главе со знаково чужеземным, «вражеским» именем «Хьюги-буги»:
– Слушай, Глебка, в конце концов, ведь я – еврей не больше, чем русский? и не больше русский, чем гражданин мира?
– Хорошо ты сказал. Граждане мира! – это звучит безкровно, чисто.
– То есть космополиты. Нас правильно посадили.
(33)
«Правильно» посадят и Володина – не без помощи Рубина, которому идеологические шоры (вера в «классовую» природу справедливости и необходимость борьбы с империализмом) помешают остаться гражданином мира, а потому и истинным сыном отечества. Напомним, что свою исповедь Володин проговаривает на русском просторе и надиктована она тем скорбным чувством, что он испытывает при встрече с реальностью неприкрашенной, растоптанной большевиками России.
Спор Нержина и Рубина об информаторе американцев, атомной бомбе и судьбе человечества предсказывает и те политические убеждения Володина, решительно переменившие его судьбу:
– …Ты согласен получить Хиросиму? На русской земле?
– А по-твоему – воровать бомбу? Бомбу надо морально изолировать, а не воровать.
– Как изолировать?! Идеалистический бред!
– Очень просто: надо верить в ООН! Вам план Баруха предлагали – надо было подписывать! Так нет, Пахану бомба нужна![137]137
Сталину бомба еще как нужна. Она и должна сделать Пахана «императором Земли»:
«Начать можно будет, как атомных бомб наделаем…
‹…›
Вообще, путь к мировому коммунизму проще всего через Третью Мировую войну: сперва объединить весь мир, а уже там учреждать коммунизм. Иначе – слишком много сложностей» (160).
[Закрыть](339)
Ровно так рассуждает и Володин: «Новое назначение нравилось ему – и пугало. Иннокентий полюбил идею ООН – не Устав, а какой она могла быть при всеобщем компромиссе и доброжелательной критике. Он вполне был и за мировое правительство. Да что другое могло спасти планету?.. Но так шли в ООН шведы, или бирманцы, или эфиопы. А его толкал в спину железный кулак – не для того» (435). Не менее наглядна перекличка с аргументами Нержина в более поздних раздумьях ждущего возмездия Иннокентия:
Если бы объявили (о его звонке в американское посольство. – А. Н.) – соотечественники с наслаждением побили бы его камнями! Кто бы понял его? – хорошо, если тысяча человек на двести миллионов. Кто там помнит, что отвергли разумный план Баруха: отказаться от атомной бомбы – и американские будут отданы под интернациональный замок? ‹…›
Ты не дал украсть бомбы Преобразователю Мира, Кузнецу Счастья? – значит, ты не дал её Родине!
А зачем она – Родине? Зачем она – деревне Рождество?[138]138
Цитируемая глава называется «Князь Курбский». Возникающая в ней историческая аналогия: «Кто князь Курбский? – изменник. Кто Грозный – родной отец» (609), во-первых, отсылает к активно насаждаемой исторической мифологии 1940-х гг. (фильм С. М. Эйзенштейна, драматическая дилогия А. Н. Толстого, «Ливонская война» И. Л. Сельвинского и др.), демонизирующей «изменника» Курбского, во-вторых, актуализирует тему вынужденной эмиграции (бегства), заставляющей еще раз вспомнить о Герцене, в-третьих, перекликается с темой «мнимых изменников», развернутой в главе «Князь Игорь», что вновь сближает Володина с заключенными шарашки (в том числе с охотящимся за ним Рубиным, инициатором пародийного суда над героем «Слова о полку…»).
[Закрыть](609)
Густота мотивных перекличек между володинскими и нержинскими главами знаменует понимание неведомого обреченного героя, который, возрождаясь в слове, окажется похожим на своего будущего автора (Нержина-персонажа, Нержина 1949 года, еще не помышляющего о шарашечно-шпионском романе). Но не только на него.
«Разговор три нуля» закономерно завершается появлением Руськи Доронина, личность и судьба которого тоже дают Нержину-автору материал для реконструкции героя. Сопоставление двух персонажей, вступивших в поединок с системой (отказавшихся от роли шпионов, перешедших на сторону противника), дано прямо: за главой «Насчёт расстрелять» (разоблачение Руськи) следует глава «Князь Курбский», открывающаяся размышлением о «нашей способности к подвигу».
…Тяжелей всего даётся нам подвиг, если он добыт неподготовленным усилием нашей воли (случай Володина. – А. Н.). Легче – если был последствием усилия многолетнего, равномерно направленного (случаи Нержина и других опытных заключенных. – А. Н.). И с благословенной лёгкостью, если подвиг был нам прирождён: тогда он происходит просто, как вдох и выдох.
Так жил Руська Доронин под всесоюзным розыском – с простотой и детской улыбкой. В его кровь, должно быть, от рождения уже был впрыснут пульс риска, жар авантюры.
Но для чистенького, благополучного Иннокентия недоступно было бы – скрываться под чужим именем, метаться по стране.
(604)
Зримое различие персонажей, однако, не отменяет их родства. Оба все же совершают свои авантюрные подвиги (при этом лихость и опыт Руськи не спасают его от провала – он разоблачен и низвержен в тот же послепраздничный понедельник, что и Володин). Оба наделены детскими чертами – наивностью, жаждой справедливости, жизнелюбием («эпикурейство» Володина до его прозрения не так далеко отстоит от Руськиного желания жить в свое удовольствие). Отмеченное Кларой сходство Володина с вернувшимся в Россию Есениным (305) ассоциируется с русскостью и соответствующей имени русостью (340) молодого зэка[139]139
Есенинская тема прихотливо связывает Руську, Володина и Нержина. Дабы поддержать репутацию осведомителя, Руська сообщает майору Шикину о принадлежащей Нержину книге Есенина. Не желая возвращать сборник, чекист глумливо спрашивает Нержина, на что «намекается» строками:
Розу белую с чёрной жабойЯ хотел на земле повенчать. И слышит в ответ: «Очень просто ‹…› Не пытаться примирять белую розу истины с чёрной жабой злодейства!» (700). Ответ Нержина отсылает и к жизненной трагедии Есенина, и к искупительному подвигу Володина, который многим видится преступлением, и к невольному промаху Руськи, не подумавшему, каким злом может отозваться его затеянная с благородной целью двойническая игра.
[Закрыть]. Наконец, но не в последнюю очередь, оба персонажа – избранники еще одной чистой души, Клары Макарыгиной, что почти полюбила своего зятя (не будь они в свойстве, не вставай меж ними во время путешествия «на просторе» тень Дотнары, наметившиеся взаимопонимание и приязнь непременно бы выросли) и просто – вопреки всему, что внушалось ей с детства, – полюбила «врага народа».
Фигура Клары весьма важна для генезиса романа Нержина. Будущий автор знает не только о любви зэка и лейтенанта МГБ (в этом нет ничего удивительного – ср. отношения самого Нержина и Симочки и Сологдина и Еминой), но и о происхождении (семье, социальном статусе) Клары. И это не простое знание. Когда заходящийся страстью Руська называет старшему другу имя своей возлюбленной, тот совершенно потрясен:
– Тс-с-с… Клара…
– Клара?? Дочь прокурора?!!
(89)
Если дочь прокурора может полюбить заключенного, значит суть человека определяется не одними социальными обстоятельствами, значит и выходцы из номенклатуры способны чувствовать, а стало быть, и думать, различать добро и зло, совершать непредсказуемые поступки. Узнав о звонке некоего дипломата в американское посольство, Нержин соотносит его (возможно, сперва бессознательно) с чувством Клары к Доронину, в которое он уже поверил. В дальнейшем он параллельно достраивает судьбы и личности Клары и неизвестного, сводя их в один сюжет. Нержин знает, что его начальник Ройтман живет в построенном зэками доме у Калужской заставы, где сам он клал паркет. И – хотя прямых указаний в тексте на то нет – должен знать (со слов Ройтмана), что Макарыгины квартируют там же. Это объясняет появление главы «Женщина мыла лестницу», в которой раскрывается особенная стать Клары. При насыщенности шарашки информацией о людях, входящих в это закрытое сообщество, естественно предположить, что Нержину известно и о том, что одна сестра Клары – жена прославленного писателя-лауреата, а другая – дипломата, который отождествляется им с преступным мидовцем.
Все эти мотивировки введены в текст без педалирования и, в принципе, могут быть не замечены даже заинтересованным читателем. На то, что Нержин-персонаж является скрытым автором романа «В круге первом», прямых указаний в тексте нет. В окружающей романного Нержина реальности звонить в американское посольство мог и дипломат, не состоящий с Кларой в родстве, но в «нержинском» романе – это Володин, с годами угаданный зэком, который однажды поверил в его благородный порыв, а потом вырвал из небытия, одарил именем и судьбой. И таким образом оживил, оправдал и, кроме прочего, отблагодарил сгинувшего героя, чей «бессмысленный подвиг» помог его писательскому становлению.
Вибрация текста меж объективным повествованием (всё происходило именно так, а скрещения судеб возникают в результате игры случая) и повествованием субъективным (все эпизоды, происходящие вне шарашки, даны сквозь призму писательского воображения Нержина) вновь заставляет нас вспомнить о сложных отношениях жизни и поэзии, жизни и романа, резко расходящихся в обыденном или идеологизированном сознании и ложной словесности, но единых в том слове, которое стремится наследовать Слову начальному, а потому способно разрушить бетон и воскресить мертвых. Смысловая близость ключевых для романа речений человека жизни Щагова и человека поэзии Нержина, сложная система мотивных перекличек, насыщенность текста цитатами и реминисценциями (большая часть которых здесь оставлена за кадром[140]140
Легенды о святом Граале, «Фауст» (о финале которого вдохновенно и недоуменно размышляет Рубин), постоянно цитируемый Потаповым «Евгений Онегин», декабристские сюжеты (в их литературном преломлении, в том числе эпилог «Войны и мира»), «Ночь перед Рождеством» Гоголя и рождественские повести Диккенса (ассоциации с которыми вызваны временем действия), шедевры Дюма («Граф Монте-Кристо», читаемый Абрамсоном и Хоробровым, мушкетерская трилогия, введенная мотивом «Железной маски»), восхищающие Сологдина – по весьма специфическим причинам – романы Достоевского, отвергаемая Нержиным и любимая Рубиным проза Хемингуэя, «Молодая гвардия» Фадеева (обсуждение этого бестселлера занимало важное место в ранних редакциях и ушло в подтекст), «Далеко от Москвы» Ажаева и ряд иных сочинений так же плотно и значимо включены в структуру романа, как «Слово о полку Игореве», переписка Грозного с Курбским (и ее трактовки), программное стихотворение Жуковского, «Барышня-крестьянка», речь Тургенева «Гамлет и Дон Кихот», западноевропейский («бальзаковский») «роман карьеры» и поэзия Есенина, о которых – по необходимости бегло – говорилось выше.
[Закрыть]), появление Галахова, работающего над пьесой о борьбе за мир советских дипломатов (то есть негативом читаемой нами книги), настойчиво (но ненавязчиво) свидетельствуют об особой значимости литературной темы в романе Солженицына. «В круге первом» – книга о становлении писателя и своем собственном рождении, книга о том, как слово преодолевает кошмар истории и в конечном счете побеждает смерть, книга, естественно соотносящаяся с другими русскими романами XX века о тождестве творчества и бессмертия – «Даром», «Мастером и Маргаритой», «Пушкиным» и «Доктором Живаго». Приступая к работе над романом о жизни на шарашке и неизвестном герое, Солженицын не читал ни Набокова, ни Булгакова, ни Пастернака (Тынянова если и читал, то отнюдь не в интересующем нас ключе). Тем закономернее и символичнее, что книга, которую великий писатель (тогда – никому не ведомый и не предполагавший скорой встречи с читателем) счел вполне состоявшейся (что не исключало позднейших переработок), оказалась на важнейшей линии движения русской прозы XX века.
В предисловии к подлинному (освобожденному от вынужденных искажений и «усовершенному») роману Солженицын писал:
«Судьба современных русских книг: если и выныривают, то ущипанные. Так недавно было с булгаковским “Мастером” – перья потом доплывали».
Позволю себе дерзкое предположение: автор «В круге первом», отмечая сходство судеб двух книг, намекал и на сходство их сущностей, на их смысловое родство, обусловленное общностью великой традиции, которая и в страшном XX веке сохраняла верность заветной формуле Жуковского «Жизнь и Поэзия одно».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































