Текст книги "Перекличка Камен. Филологические этюды"
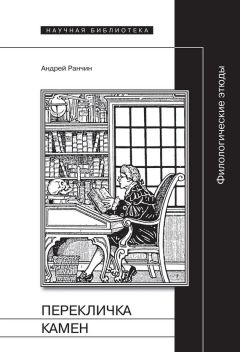
Автор книги: Андрей Ранчин
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 43 страниц)
И лозины, и чернобыльник нещадно раскачивает холодный ветер; «унылому звуку», издаваемому лозинами на ветру, соответствует свист ветра в поросли чернобыльника (XII; 333). В обоих случаях Брехунов обманывается, принимая лозины за лес, а чернобыльник – за стены изб. Однако два образа не столько созвучны, сколько контрастны один по отношению к другому: посаженные крестьянскою рукою лозины – верный знак близкого жилья; сухой бурьян в поле, по ошибке принятый было Брехуновым за деревенские избы, – свидетельство окончательной утраты пути, тщетности потуг Василия Андреича выбраться из пучины снежного моря.
У мотающегося под порывами ветра чернобыльника есть и образ-двойник, наделенный противоположным колористическим признаком, – белая рубаха, висящая вместе с другим «замерзшим бельем» на веревке в одном из дворов на околице Гришкина: «Белая рубаха особенно отчаянно рвалась, махая своими рукавами» (XII; 308). Покидая Гришкино, Брехунов и Никита вновь замечают эту рубаху: «[Б]елая рубаха уже сорвалась и висела на одном мерзлом рукаве» (XII; 309). Потом, в третий раз, они видят это забытое на ветру белье, вторично попадая в деревню. И, наконец, когда они в последний раз выезжают из деревни, белья «теперь уже не видно было» (XII; 319). Рубаха, как и чернобыльник, раскачиваемая ветром, метонимически обозначает человека. С одной стороны, этот образ – предвестие смерти Брехунова: белый – цвет смерти (ср. народный обычай надевать перед смертью белые рубахи); белый – цвет снега, засыпающего дорогу и затягивающего пеленой окрестности; белы лицо и борода у полузамерзшего, заиндевевшего от мороза Никиты. У Никиты, входящего в гришкинскую избу, «запушенное снегом лицо, глаза и борода» (XII; 315). И потом, в уже вставших санях: «густо засыпанный снегом Никита» (XII; 329).
Черный и белый как цвета смерти и траура – банальность. Толстой оживляет цветовые образы, создавая неожиданный и яркий оксюморон – белую тьму: «Белая колеблющаяся темнота», «однообразная белая колеблющаяся тьма» (XII; 327).
Вместе с тем белый – традиционный цвет чистоты и праведничества, соответственно, параллель между бьющейся на ветру белой рубахой и застигнутым метелью и паническим ужасом Брехуновым может скрывать еще один смысл – указывать на предсмертное просветление «черного», «темноликого» Василия Андреича, отдающего свою жизнь ради спасения работника Никиты.
Один из ключей к семантике образа чернобыльника и черного цвета находится в самом тексте рассказа. Внук гришкинского знакомца Брехунова Петруха увлеченно цитирует вычитанное им в хрестоматии для народного чтения пушкинское стихотворение: «Буря с мглою небо скроить, вихри снежные крутя, аж как зверь она завоить, аж заплачеть, как дитя» (XII; 318, ср. с. 319). Сходство пушкинского «Зимнего вечера» с сюжетом толстовского рассказа поверхностное – их роднит только мотив разгулявшейся зимней стихии. Упоминая об одном поэтическом тексте Пушкина, автор «Хозяина и работника», вероятно, отсылает читателя к другому – к стихотворению «Бесы», в которых есть и мотив утраты пути, кружения «средь заснеженных равнин», и чернеющие обманные образы, принимаемые бесовской силой. Так и в «Хозяине и работнике» «[п]о всему полю кружило, и не видно было той черты, где сходится земля с небом» (XII; 304).
Однако у Толстого чернеющие сквозь снежную завесу образы – не только морок злой силы, завлекающей путника в смертельную игру. Не земля с озимого поля и не картофельная ботва сбивают хозяина и работника с пути, черные лозины выводят их к деревне, – хотя и не к той, в которую они направлялись. Просвечивающие, чернеющие сквозь пелену предметы – вехи на пути к спасению от мороза и снега, выводящие героев к жилью. Черное в отличие от белого сначала соотнесено скорее с жизнью, чем со смертью, – как телега с подгулявшими крестьянами. И лишь с того мгновения, когда Василий Андреич, оказывается возле поросли чернобыльника, сквозь черный цвет начинает отчетливо проступать смерть.
Однако семантика черного цвета и в заключительной части рассказа далека от однозначности. Уверенный в собственной гибели посреди снежной пустыни, Василий Андреич, «взглянув вперед <…> увидал что-то черное. Это был Мухортый и не один Мухортый, но и сани <…>» (XII; 335–336). Здесь и суждено будет умереть, замерзнув, Василию Андреичу, но не бессмысленно: закрывая собою от снега и мороза работника Никиту, его хозяин умирает телесно, но рождается вновь духовно. Черные в этом белом море Мухортый и сани – те «вехи», которые выводят героя к высшей, еще неведомой ему самому цели: к жертве собою ради ближнего.
Из всех образов рассказа, связанных с черным цветом, чернобыльник – самый действенный как символ. В нем заключен библейский новозаветный прообраз, семантический архетип. Чернобыльник – другое название растения полынь[282]282
Чернобыль, чернобыльник – «крупный вид полыни». – Даль В.И. Толковый словарь великорусского языка. М., 1995. (Репринтное воспр. изд.: 1955 г., напеч. со 2-го изд. 1880–1882 гг.). Т. 4. С. 595.
[Закрыть]. В Откровении святого Иоанна Богослова одна из эсхатологических казней погрязшего в грехах, отвернувшегося от Бога человечества такова: «Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде полынь; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки» (Откр. 8: 10–11). «Хозяин и работник» – это тоже своего рода эсхатологический текст, «откровение смерти»[283]283
Определение Льва Шестова, относящееся к «Хозяину и работнику» и к повести «Смерть Ивана Ильича» (закончена и издана в 1886 г.); см.: Шестов Л. На весах Иова (Странствования по душам) // Шестов Л. Соч.: В 2 т. М., 1993. (Приложение к журналу «Вопросы философии». Серия «Из истории отечественной философской мысли»). Т. 2 / Вступ. ст., сост. и подгот. текста А.В. Ахутина; Примеч. А.В. Ахутина и Э. Паткош. С. 113–147.
[Закрыть], дарованное Василию Андреичу Брехунову. Толстовский рассказ повествует не о «большой», а о «малой» эсхатологии – о судьбе одной грешной души, прошедшей через предсмертные мытарства к свету любви и правды. Толстой отнюдь не повторяет семантику исходного образа. Общее между звездой Полынь и чернобыльником – эсхатологический фон, связь с мотивами суда и смерти. В Откровении святого Иоанна Богослова падение звезды Полынь – наказание, приводящее грешников к смерти. В «Хозяине и работнике» душевный перелом, испытанный героем при виде мертвого чернобыльника, ведет к гибели старого, ветхого «я» в Брехунове, являясь условием пробуждения души – «я» вечного. В то же время выход героя к порослям чернобыльника – знак уже совершенно неизбежной кончины физической: дорога в мир живых отрезана, деревни нет. Василию Андреичу обстоятельства, жизнь дважды давали возможность остаться в тепле и уюте деревни, избежать замерзания посреди снежной равнины. Он отказался. Третьего случая ему не дано. Но у Толстого физическое выживание и духовное спасение разведены по разным полюсам бытия: если бы Василий Андреич не обманулся и вышел к деревне, а не к бессмысленно мотающимся на ветру засохшим растениям, он бы не воскрес, не пробудился духовно.
В этой связи можно вспомнить идею Д.С. Мережковского, рассматривающего творчество Толстого (в том числе и рассказ «Хозяин и работник») в пределах антиномии духа и плоти[284]284
Мережковский Д.С. Толстой и Достоевский // Мережковский Д.С. Толстой и Достоевский. Вечные спутники / Подгот. текста, послесл. М. Ермолаева; Коммент. А. Архангельской и М. Ермолаева. М., 1995.
[Закрыть]. При интерпретации произведений Толстого этот подход приводит к неизбежным упрощениям, однако к изображению смерти и «пробуждения» Брехунова он применим в полной мере.
Вместе с тем – особенно в случае с Василием Андреичем Брехуновым – невозможно принять мысль Д.С. Мережковского, тонко проанализировавшего смерти толстовских героев, но убежденного, что их предсмертные мысли и чувства вторичны от плоти, от ее болезни и ран: «Есть ли это, однако, последнее освобождение, победа духа над плотью? Так Л. Толстой думает, или хотел бы думать. Но едва ли оно так. Ведь нечто новое, решающее здесь произошло сначала в теле; душа только отражает то, что уже произошло в теле; только объясняет слабость тела, как “слабость любви”, как сознание своего страшного одиночества и беззащитности; но собственно от себя ничего не прибавляет. И здесь, как везде, как всегда у Толстого, не тело следует за душою, а, наоборот, душа за телом: что сначала в теле, то потом в душе. Телесное первоначально, духовное или, лучше сказать, “душевное” – производно. Душевное вытекает из телесного, как следствие из причины. Тело уходит из жизни в не-жизнь, опускается в “черную дыру” – и душа влечется за телом; тело тянет душу. Воскресение духа есть только умирание тела, не начало чего-то нового, сверхживотного, а только конец старого, животного – отрицание плоти – одно отрицание, без утверждения того, что за плотью»[285]285
Там же. С. 222.
[Закрыть]. Не физическое замерзание, а сокрушение гордыни толстовского героя – первое событие в ряду, заканчивающемся его новым, духовным рождением. Это перерождение мотивировано изначально именно психологически, а не физически, не телесными ощущениями. Так же и Иван Ильич Головин претерпевает перемену не из-за физического воздействия болезни: боль – знак ожидающей его смерти, предчувствие которой ломает, разбивает вдребезги привычный уклад жизни и самоуверенность персонажа.
Об Апокалипсисе как подтексте толстовского рассказа свидетельствует, по-видимому, и такая деталь, как потеря Брехуновым перчатки с правой руки и ознобление ее. Конечно, «разоблачение» и «уязвление» именно правой руки может быть понято просто как сокрушение горделивца жизнью, силою обстоятельств: правая рука, десница в противоположность шуйце традиционно – в том числе и в Библии – ассоциируется с могуществом и властностью и олицетворяет правоту (в случае Брехунова – ложную). Символическое значение правой руки отражено, например, и в богослужении проскомидии – приуготовительной части литургии: диакон (а также и священник), надевая поручи, или нарукавницы, «помышляет о всетворящей, содействующей повсюду силе Божией и, воздевая на правую, произносит он: Десница Твоя, Господи, прославилася в крепости; десная рука Твоя, Господи, сокрушила врагов и множеством славы Своей Ты истребил супостатов. Надевая на левую руку, помышляет о самом себе, как о творении рук Божиих <…>»[286]286
Гоголь Н.В. <«Размышления о Божественной Литургии»> // Гоголь Н.В. Духовная проза / Сост. и коммент. В.А. Воропаева, И.А. Виноградова; Вступ. ст. В.А. Воропаева. М., 1992. С. 328.
[Закрыть].
Однако для толстовского рассказа могут быть особо значимы два новозаветных контекста. Первый – речение Христа: «[е]сли правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя» (Мф. 5: 30). В «Хозяине и работнике» соблазны гордыни и власти у главного героя отсекает сила обстоятельств, в известном смысле тождественная Провидению или, по крайней мере, исполняющая провиденциальную роль. Потеря Брехуновым рукавицы и ознобление обнаженной ладони функционально подобны отсечению правой руки. Второй контекст – из Откровения святого Иоанна Богослова: людям, поклоняющимся Антихристу, «положено будет начертание на правую руку» с именем «зверя» и числом имени его (Откр. 13: 16). Соотнесенность детали из толстовского рассказа с этим примером семантически противоположна соотнесенности с Христовым речением: утрата рукавицы и ознобление ладони – как бы знак, печать греха, положенная давным-давно на правую руку Василия Андреича, но страшный, смертельный холод этой печати он ощутил только перед лицом небытия.
Символические образы толстовского рассказа в художественном мире романа осязаемо предметны и имеют реальные мотивировки. И цепь предметов, характеризуемых как черные или чернеющиеся, и белая рубаха, и чернобыльник укладываются в якобсоновскую характеристику и так называемого «реализма С» («уплотнение повествования образами, привлеченными по смежности»), и так называемого «реализма Е» («требование последовательной мотивировки, реализации поэтических приемов»)[287]287
Якобсон Р.О. О художественном реализме // Якобсон Р. Работы по поэтике / Вступ. ст. Вяч. Вс. Иванова; Сост. и общ. ред. М.Л. Гаспарова. М., 1987. (Серия «Языковеды мира»). С. 391, 392.
[Закрыть]. «Хозяин и работник» – произведение притчевой природы, однако языком притчи в нем как бы говорит сама жизнь, автор же выступает словно лишь простым регистратором, фиксирующим происходящее. Поэтому и глубинные библейские основы толстовской символики приглушены, погружены в «пелену» текста, оставаясь, однако, различимыми для внимательного взгляда. При этом символика в рассказе «Хозяин и работник» отличается семантической двойственностью, двуплановостью, для притчи нехарактерной и как бы компенсирующей, восполняющей однозначность авторской нравственной идеи.
Символика имен в рассказе Льва Толстого «Хозяин и работник»
[288]288
Впервые: Slavia Orientalis. 2010. Т. 59. № 4. Печатается с изменениями.
[Закрыть]
Борис Эйхенбаум писал в ранней статье «Лев Толстой» (1919), и по сей день лучшем очерке эволюции поэтики писателя: «Фамилии действующих лиц у Толстого вообще не обладают способностью символизации или обобщения, как у Достоевского, но зато, правда, взамен этого их имена как-то особенно суггестивны – Наташа, кн. Андрей, Пьер, Анна. По-видимому, тут сказывается влияние семейно-бытового стиля, в котором пишет Толстой: имена эти не ощущаются нами как символы или типы, но наполнены особым эмоциональным содержанием, накопляющимся у нас по мере усвоения всех деталей жизни, внутренней и внешней. Рядом с этим фамилии – Ростова, Безухов, Волконский (так! – А.Р.), Каренина – звучат безжизненно и безразлично»[289]289
Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой: исследования. Статьи / Сост., вступ. ст., общ. ред. И.Н. Сухих; Коммент. Л.Е. Кочешковой, И.Ю. Матвеевой. СПб., 2009. С. 58. Развивая в примечании это наблюдение, автор статьи утверждает: «Наоборот, у Достоевского фамилии всегда являются плодом творчества и потому обладают яркой суггестивностью» (Там же. С. 58, примеч. 17).
[Закрыть].
Это наблюдение (очевидно, одно из особенно дорогих автору) было повторено в посмертно изданной книге «Лев Толстой. Семидесятые годы»: «Во всей литературе, связанной с Гоголем и с натуральной школой, человек изображается как социальный или психологический тип; он наделяется определенными чертами, сказывающимися в каждом поступке, в каждом слове, даже в фамилии. Не только Чичиков, Хлестаков, Плюшкин, Ноздрев, но и Раскольников, и Свидригайлов, и Смердяков, и Карамазовы носят свои фамилии не как случайные условные обозначения, а как характерные и характеризующие их прозвища. Совсем иное у Толстого: его люди – не типы и даже не вполне характеры; они “текучи” и изменчивы, они поданы интимно – как индивидуальности, наделенные общечеловеческими свойствами и легко соприкасающиеся. Поэтому для героев Толстого характерны не фамилии (которые большей частью незначительны или прямо неудачны), а имена: не Безухов, а Пьер, не Болконский, а князь Андрей, не Ростова, а Наташа, не столько Каренина, сколько Анна. Для Толстого характерны эти семейные, домашние обозначения своих героев: читатель знакомится с ними интимно, ощущает их в той или иной степени похожими на себя. Толстовский принцип интимности и “текучести”, резко отличающий его психологический реализм от реализма других писателей, восходит к Пушкину – как развитие и дозревание его метода. Ближайшая родственница Наташи Ростовой – конечно, Татьяна Ларина, недаром имя Татьяны, как и Наташи, говорит нам гораздо больше, чем фамилия»[290]290
Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой: исследования. Статьи. С. 656–657.
[Закрыть].
Эта же мысль варьируется в эйхенбаумовской статье «Пушкин и Толстой» (1937)[291]291
Там же. С. 706.
[Закрыть].
Замечание Бориса Эйхенбаума, несмотря на справедливость противопоставления толстовской психологической поэтики принципам типизации и характерологии, не соответствует реальности. Во-первых, писатель отнюдь не безразличен к функциям фамилий. В «Войне и мире» они преимущественно призваны нести определенный исторический ореол, являясь вариациями фамилий реальных исторических лиц и/или дворянских родов (ср.: Болконские – Волконские, Безуховы – Безбородко, Ростовы – Толстые, Курагины – Куракины). Не меньшее значение имеет для Толстого внутренняя форма, этимология. В «Анне Карениной» фамилия супруга героини «говорящая», она произведена от греческого слова; «каренон» по-гречески (у Гомера) «голова». С декабря 1870 года Толстой учил греческий язык. По признанию писателя сыну Сергею, фамилия Каренин произведена от этого слова. Объясняя происхождение фамилии Каренина, Сергей Толстой размышляет: «Не потому ли он дал такую фамилию мужу Анны, что Каренин – головной человек, что в нем рассудок преобладает над сердцем, то есть чувством?»[292]292
Толстой С.Л. Об отражении жизни в «Анне Карениной» // Литературное наследство. Т. 37/38. М., 1939. С. 569.
[Закрыть]
В ряде случаев у фамилий толстовских персонажей прослеживается отчетливый литературный генезис. Так, фамилия Облонского соотнесена с фамилией Обломова[293]293
См. об этом: Ранчин А.М. Комментарии // Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 8 т. / Подгот. текстов, сост., вступ. ст. и коммент. А.М. Ранчина. М., 2006. Т. 4. С. 523.
[Закрыть]. Литературного происхождения, по-видимому, и фамилия Вронского. В книге «Лев Толстой. Семидесятые годы» Борис Эйхенбаум заметил: «Сама фамилия Вронского, выбранная Толстым после долгих поисков (Гагин, Балашов), звучит как сознательная стилизация: точно Толстой намеренно подчеркивает связь этого персонажа с литературными героями 30-х годов (Пронский, Минский и пр.). Любопытно, фамилия эта есть и у Пушкина – в черновике отрывка “На углу маленькой площади” (“женат, кажется, на Вронской”)»[294]294
Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой: исследования. Статьи. С. 655.
[Закрыть].
Во-вторых, имена толстовских персонажей отнюдь не являются просто «семейными, домашними обозначениями». Для писателя значимы их этимология и исконный смысл. Для функций имени Наташи Ростовой важна его семантика в латинском языке (natalia – «рождающая») – героиня «Войны и мира», действительно, представлена как дающая жизнь («плодовитая самка» в Эпилоге); кроме того, существенно место памяти святой Наталии в церковном календаре (и, тем самым, дата именин Наташи Ростовой) – это 26 августа старого стиля, день Бородинского сражения[295]295
См. мою статью «Символика в “Войне и мире”: из опытов комментирования книги Л.Н. Толстого» в настоящей книге.
[Закрыть]. Также функционально имя Николая Ростова: в нем сконденсированы представления о Николе (Николае) Угоднике и его покровительстве русскому народу, в том числе в ратном деле[296]296
См. мою статью «Николай: символика имени в “Войне и мире” Л.Н. Толстого» в настоящей книге.
[Закрыть]. Имена Андрея Болконского и Пьера Безухова также наделены подобным семантическим ореолом, указывая на мужественность князя Андрея (ср. значение его имени в греческом языке: νδρετορ – «мужественный») и на место Пьера/Петра, с образом которого связан комплекс ключевых авторских идей, в произведении («Петр» по-гречески «камень», Иисус Христос, нарекая апостолу Симону имя Петр, именует его камнем, на котором будет основана Церковь). Совпадение имен любимых толстовских героев с именами братьев апостолов Андрея и Симона-Петра выделяет Болконского и Безухова как главных персонажей «Войны и мира», в образах которых заключен глубинный философский смысл[297]297
При этом, однако, невозможно принять мнение Елены Полтавец (Полтавец Е. Гора, голова и пещера в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина и «Войне и мире» Л. Н. Толстого // Литература, 2004, № 10), считающей, что князь Андрей Болконский и граф Пьер Безухов соотнесены непосредственно с апостолами братьями Андреем и Симоном-Петром. Такого рода прямая, «лобовая» символизация имени и самого персонажа автору «Войны и мира» глубоко чужда. См об этом: Ранчин А.М. Символика в «Войне и мире». Показательно, что писатель намеренно вуалирует тезоименность графа Безухова апостолу, неизменно называя персонажа своей книги не Петром, а, на французский манер, Пьером.
[Закрыть].
«Говорящие» фамилии у Толстого встречаются спорадически. Обыгрывание Толстым семантики имен персонажей сходно с поэтикой имен у Гоголя и Достоевского, хотя и не является столь же последовательным.
Одним из толстовских произведений, в которых имена персонажей и фамилия главного героя семантизированы и наделены символической функцией, является рассказ «Хозяин и работник» (1895). Первое встречающееся в рассказе имя-символ принадлежит не персонажу, а святому, в день и в ночь после праздника которого происходят описываемые далее события. Затем следует первое упоминание о центральном персонаже – купце Василии Андреиче Брехунове: «Это было в семидесятых годах, на другой день после зимнего Николы. В приходе был праздник, и деревенскому дворнику, купцу второй гильдии Василию Андреичу Брехунову, нельзя было отлучиться: надо было быть в церкви, – он был церковный староста, – и дома надо было принять и угостить родных и знакомых. Но вот последние гости уехали, и Василий Андреич стал собираться тотчас же ехать к соседнему помещику для покупки у него давно уже приторговываемой рощи. Василий Андреич торопился ехать, чтобы городские купцы не отбили у него эту выгодную покупку. Молодой помещик просил за рощу десять тысяч только потому, что Василий Андреич давал за нее семь. Семь же тысяч составляли только одну треть настоящей стоимости рощи. Василий Андреич, может быть, выторговал бы и еще, так как лес находился в его округе, и между ним и деревенскими уездными купцами уже давно был установлен порядок, по которому один купец не повышал цены в округе другого, но Василий Андреич узнал, что губернские лесоторговцы хотели ехать торговать Горячкинскую рощу, и он решил тотчас же ехать и покончить дело с помещиком. И потому, как только отошел праздник, он достал из сундука свои семьсот рублей, добавил к ним находящихся у него церковных две тысячи триста, так чтобы составилось три тысячи рублей, и, старательно перечтя их и уложив в бумажник, собрался ехать» (XII; 297).
Зимний праздник святителя Николая (Николы) Мирликийского – 6 декабря старого стиля (19 декабря нового стиля). Часто это время сильных морозов, именовавшихся никольскими. Греческое имя Николай, как и имя брехуновского работника Никиты (в отличие от хозяина уцелевшего после ночи в морозной степи, когда они сбились с пути) содержит корень nоk-, означающий «победа» (ср. греческое слово ντ́κη). Николай Мирликийский назван тезоименным победе в службе на праздник 6 декабря. И в рассказе Толстого смиренный и простой мужик Никита духовно побеждает надменного горделивого купца Брехунова; Николай-Никола Мирликийский, один из самых почитаемых в народе святых, словно приходит на помощь Никите – почти своему тезке.
Имя Николай обладает символическим смыслом и связано с почитанием святителя Николая, в старом русском варианте – Николы (в народной огласовке – Миколы) Мирликийского (Николая Угодника, Николая Чудотворца). Николай (Никола) Мирликийский особенно почитался на Руси.
Николай Чудотворец в народном представлении – самый добрый святой: «В отличие от некоторых других святых (например, от Ильи-Пророка) и даже в отличие от самого Христа, образ Николы не несет в себе ничего грозного, страшного. Никола это постоянный милостивец русского народа. Ради проявления милости ему приходится иногда обманывать других святых и самого Христа, настолько в народном сознании Никола живет как воплощенная снисходительность к нашим земным несчастьям и как деятельная, практическая любовь и пособничество в нужде»[298]298
Синявский А. Иван-дурак: Очерк русской народной веры. М., 2001. С. 215.
[Закрыть].
В апокрифических легендах о святом Николае говорилось о его простом происхождении – из «смердовичей»[299]299
См.: Смирнова Э.В. Икона Николая из Боровичей // Сообщения Гос. Русского музея. Л., 1961. Т. 7. С. 58–59.
[Закрыть]. Не случайно Платон Каратаев, олицетворяющий в «Войне и мире» народную душу, молится кроме Флора и Лавра (Фролы и Лавры) именно Николе Угоднику (т. 4, ч. 1, гл. XII).
Одна из функций святого Николая – охранитель в пути, а также провожатый душ в рай. Показательны народные пословицы: «Никола в путь, Христос подорожник!», «Бог на дорогу, Никола в путь!»[300]300
Цитируются по кн.: Успенский Б.А. Филологические разыскания в области славянских древностей (Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского). М., 1982. С. 11.
[Закрыть] Никола Мирликийский как помощник и покровитель путешественников представлен также в агиографии. Никола Угодник спасает в бурю на море Димитрия, который «имѣяи вѣру и надѣждю велику къ святому Николѣ». Димитрий плыл на праздник святого Николы, терпя бедствие; оказавшись уже на морском дне, он воззвал: «Святый Николае, помози ми!» – и был изведен святым на берег и оказался в собственном доме. В Сказании о чудесах Николы Мирликийского он «съ плавающими плаваетъ, по пути ходящимъ помощьникъ»[301]301
Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1999. Т. 2. XI–XII века. С. 222, 242.
[Закрыть].
Застигнутый бураном Брехунов тоже пытается молиться Николе Угоднику, но его молитва, являющаяся попыткой своеобразного «торга» со святым, тщетна: «“Царица небесная, святителю отче Миколае, воздержания учителю”, – вспомнил он вчерашние молебны, и образ с черным ликом в золотой ризе, и свечи, которые он продавал к этому образу и которые тотчас приносили ему назад и которые он чуть обгоревшие прятал в ящик. И он стал просить этого самого Николая-чудотворца, чтобы он спас его, обещал ему молебен и свечи. Но тут же он ясно, несомненно понял, что этот лик, риза, свечи, священник, молебны – все это было очень важно и нужно там, в церкви, но что здесь они ничего не могли сделать ему, что между этими свечами и молебнами и его бедственным теперешним положением нет и не может быть никакой связи» (XII; 336).
«Недейственность» молитвы Брехунова может быть объяснена не только бесполезностью молитв святому как таковой (за этим подразумеваемым в рассказе мотивом стоит отрицание церковного христианства, характерное для позднего Толстого), но и – в символическом, мифопоэтическом плане текста[302]302
Символической природой обладает в «Хозяине и работнике» и пространство; см. об этом мою статью «Чернобыльник: об одном символе в рассказе Л.Н. Толстого “Хозяин и работник”» в настоящей книге.
[Закрыть] – небогоугодностью моления купца и неприятием молитвы горделивца Николой – покровителем простых и смиренных – таких, как выживающий в буране работник Брехунова Никита[303]303
Отчество жены Брехунова – Николаевна (Миколавна): «И спрашивает он у жены: “Что же, Миколавна, не заходил?” – “Нет, – говорит, – не заходил”. И слышит он, что подъезжает кто-то к крыльцу. Должно, он. Нет, мимо. “Миколавна, а Миколавна, что ж, все нету?” – “Нету”» (XII; 339). Таким образом, символически святой Николай словно оказывается «тестем» Василия Андреича. Однако же он все равно отворачивается от жестокосердого стяжателя.
[Закрыть].
Гордыня – один из главных грехов Василия Андреича, если не главный. Уже незадолго до смерти он рассуждает: «При родителях какой наш дом был? Так себе, деревенский мужик богатый: рушка да постоялый двор – и все имущество в том. А я что в пятнадцать лет сделал? Лавка, два кабака, мельница, ссыпка, два именья в аренде, дом с амбаром под железной крышей, – вспоминал он с гордостью. – Не то, что при родителе! Нынче кто в округе гремит? Брехунов.
А почему так? Потому – дело помню, стараюсь, не так, как другие – лежни али глупостями занимаются. А я ночи не сплю. Метель не метель – еду. Ну и дело делается. Они думают, так, шутя денежки наживают. Нет, ты потрудись да голову поломай. Вот так-то заночуй в поле да ночи не спи. Как подушка от думы в головах ворочается, – размышлял он с гордостью. – Думают, что в люди выходят по счастью. Вон, Мироновы в миллионах теперь. А почему? Трудись. Бог и даст. Только бы дал бог здоровья» (XII; 327).
Имя хозяина, очевидно, значимое: по-гречески βασιλε и βασιλω – ‘царь’, βασιλεω – ‘царствовать’, βασιλικ – ‘царственный’; таким образом автор указывает на властолюбие и гордыню самоуверенного купца. Отчество Андреич производно от имени Андрей, значащего ‘мужественный’. Соответствие поведению героя здесь ироническое: Брехунов ведет себя во время метели отнюдь не мужественно, а сначала самонадеянно, затем – до неожиданного духовного перелома – трусливо и подло, бросая на верную смерть Никиту. Фамилия Брехунов указывает на ложность жизненной позиции Василия Андреича («брехать» – ‘лгать’).
Символично также имя работника Никиты. Его небесный покровитель – по-видимому, святой мученик Никита[304]304
В народном сознании мученик Никита мог входить в число наиболее прославленных святых, воспринимаясь как один из апостолов. Старый казак дед Япишка (Епишка) – прототип деда Ерошки из повести «Казаки», собеседник и своего рода приятель Толстого в период военной службы писателя на Кавказе, говорил о Никите Мученике как об одном из апостолов; см. запись в дневнике автора «Казаков»: «Мой хозяин, старик ермоловских времен, казак, плут и шутник Япишка, назвал его (казака Луку. – А.Р.) Маркой на том основании, что, как он говорит, есть три апостола: Лука, Марка и Никита Мученик, и что один, что другой, все равно» (запись в толстовском дневнике от 10 августа 1851 года [XXI; 49–50]). Юмор старого казака заключался, очевидно, в назывании знакомца другим именем, но никак не в причислении великомученика Никиты к числу апостолов. Ведь к шутке с казаком Лукой имя святого Никиты никакого отношения вообще не имеет.
[Закрыть], и жизнь брехуновского работника была тяжелой и исполненной мучений. По-гречески νικητικ – ‘способный к победе’. Греч. νκη – ‘победа’, νικω – ‘побеждать, превосходить’. Имя Никита – однокоренное с именем Николай, которое означает ‘победитель народов’. Никита оказывается победителем и над смертью, и над нравственными принципами, над грехами хозяина, который, отогревая замерзающего работника своим телом, жертвует ради него собственной жизнью, как бы сливаясь с ним в одно бессмертное «я»: «И вдруг радость совершается: приходит тот, кого он ждал, и это уж не Иван Матвеич, становой, а кто-то другой, но тот самый, кого он ждет. Он пришел и зовет его, и этот, тот, кто зовет его, тот самый, который кликнул его и велел ему лечь на Никиту. И Василий Андреич рад, что этот кто-то пришел за ним. “Иду!” – кричит он радостно, и крик этот будит его. И он просыпается, но просыпается совсем уже не тем, каким он заснул. Он хочет встать – и не может, хочет двинуть рукой – не может, ногой – тоже не может. Хочет повернуть головой – и того не может. И он удивляется; но нисколько не огорчается этим. Он понимает, что это смерть, и николько не огорчается и этим. И он вспоминает, что Никита лежит под ним и что он угрелся и жив, и ему кажется, что он – Никита, а Никита – он, и что жизнь его не в нем самом, а в Никите. Он напрягает слух и слышит дыханье, даже слабый храп Никиты. “Жив, Никита, значит, жив и я”,– с торжеством говорит он себе» (XII; 339).
Таким образом, духовный путь смерти и воскрешения Василия Андреича Брехунова отмечен в толстовском тексте вехами символических имен.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































