Текст книги "Перекличка Камен. Филологические этюды"
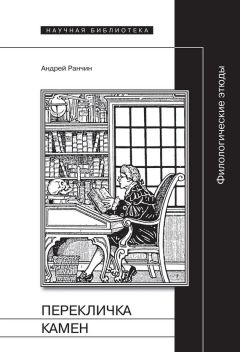
Автор книги: Андрей Ранчин
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 40 (всего у книги 43 страниц)
И, наконец, последнее. Тайное общество, убивающее во имя прогресса, общество, которому XIX столетие обязано почти всеми своими научными и иными достижениями («Азазель»), кровавая и ненужная России война на Востоке («Турецкий гамбит»), боязнь и нелюбовь Запада к России («“Левиафан”»), военный заговор и устранение претендента на власть посредством редкого яда («Смерть Ахиллеса»), заговор охранителей во имя оберегания чистоты православия («Пелагия и красный петух») – все это, как я уже отмечал в главе первой, приметы не столько века XIX, сколько наших дней[1058]1058
При этом, однако, свойства акунинского художественного мира во многом схожи с теми, которые присущи классическому детективу – порождению XIX столетия, о самом известном образце коего А. Генис сказал так: «В сочинениях доктора Уотсона последний раз расцвел накал внятной и разумной вселенной, этой блестящей утопии XIX века, которую сплели железнодорожные рельсы и телеграфные провода» (Генис А. Вавилонская башня: искусство настоящего времени. Эссе. М., 1997. С. 55).
[Закрыть]. Разумею в данном случае даже не саму реальность, а современные мифы о ней, те трафареты сознания, в которых преломляется история нашего времени. Чтение акунинских романов позволяет если не преодолеть эти мифы, то отстраниться от них. Уцелел же Эраст Фандорин вопреки всем своим врагам. Да здравствует исторический оптимизм!.. Даст Бог, все будет хорошо. Читайте Акунина, господа: это чтение утешительное.
Эпилог
Что есть массовая литература? «Понятие массовой литературы подразумевает в качестве обязательной антитезы некоторую вершинную культуру. <…>
Массовая литература должна обладать двумя, взаимно противоречащими признаками. Во-первых, она должна представлять более распространенную в количественном отношении часть литературы. При распределении признаков “распространенная – нераспространенная”, “читаемая – нечитаемая”, “известная – неизвестная” массовая литература получит маркированные характеристики. Следовательно, в определенном коллективе она будет осознаваться как культурно полноценная и обладающая всеми качествами, необходимыми для того, чтобы выполнять эту роль. Однако, во-вторых, в этом же обществе должны действовать и быть активными нормы и представления, с точки зрения которых эта литература не только оценивалась бы чрезвычайно низко, но она как бы и не существовала вовсе. Она будет оцениваться как “плохая”, “грубая”, “устаревшая” или по какому-нибудь другому признаку исключенная, отверженная, апокрифическая.
Таким образом, один и тот же текст должен восприниматься читателем в двойном свете. Он должен иметь признаки принадлежности к высокой культуре эпохи и в определенных читательских кругах ей приравниваться <…>. Однако для другого читателя той же эпохи этот же текст должен обладать признаками выключенности из какой-то системы: господствующей, ценной или, по крайней мере, официальной»[1059]1059
Лотман Ю.М. Массовая литература как историко-культурная проблема // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Таллин, 1993. Т. 3. С. 382.
[Закрыть].
Романы Бориса Акунина, оцениваемые в рамках оппозиции «высокой» и «массовой» словесности, выявляют свою парадоксальность. Они как бы одновременно принадлежат и «серьезному», и «массовому» искусству – для одного и того же читателя. Сложная поэтика аллюзий, интертекстуальных связей, включенность в контекст литературной традиции роднят их с «высокой» литературой; установка на «стабильность художественного языка, поэтику хорошего конца», «установка на сообщение, интерес к вопросу: “Чем кончилось?”» (Ю.М. Лотман)[1060]1060
Там же. С. 387, 388. Иначе, очень выразительно и точно, об этом же писал Б. Пастернак в письме С. Спендеру от 22 августа 1959 г.: «Если взять великий роман прошлого столетия <…>, если из ткани такого романа, скажем, “Мадам Бовари”, постепенно вычесть, одно за другим, действующие лица, их развитие, ситуации, события, фабулу, тему, содержание… После такого вычитания от второсортной развлекательной литературы ничего не останется. Но в названном произведении <…> останется самое главное: характеристика реальности как таковой, почти как философской категории, как звена и составной части духовного мира, которые вечно сопутствуют жизни и окружают ее» (цит по изд.: Пастернак Б. Доктор Живаго: Роман. Повести. Фрагменты прозы / Вступ. ст. Д. Лихачева; Сост., послесл. Е.Б. Пастернак, В.М. Борисова. М., 1989. С. 701).
[Закрыть] – черты «массовой» литературы, доминантные в нарративной поэтике акунинских текстов. Конечно, в современной культуре, и прежде всего в постмодернистской поэтике, литературная иерархия «высоких» и «низовых» текстов размыта. Да, элитарный постмодернистский текст может стремиться выдать себя за феномен «массовой» словесности.
И тем не менее оппозиция «высокой» и «массовой» литературы в современной культуре не отменена. Глубоко нетривиальная семантика «Лолиты» будет безнадежно искажена, если читатель воспримет набоковский роман как скабрезный «полупорнографический» текст; смысл «Имени розы» Умберто Эко или «Парфюмера» Патрика Зюскинда улетучится, испарится, ежели первый текст окажется истолкован как полутриллер-полудетектив из эпохи Средних веков, а второй будет прочитан как повествование об экзотичном маньяке. Разрушится художественный мир текстов, исчезнет их глубинная символика: реинтерпретация Рая и невинности у Набокова, соблазны и вызовы, стоящие перед современными интеллектуалами, у Эко, травестия истории Христа у Зюскинда.
У Бориса Акунина все иначе. Это массовое искусство для читателя достопочтенной словесности. У него сюжет и система аллюзий – отдельно, как котлеты и мухи в хорошей ресторации, у Донона или Бореля. Любитель авантюрного чтения вполне удовлетворится приключениями, филологически озабоченный читатель, кроме того, попробует расплести паутину интертекста. Но каждый останется при своем, ибо авантюрность и цитатность («литературность») у Бориса Акунина – сосуды несообщающиеся, уровни, друг от друга изолированные. Криминальное чтиво и интеллектуальное чтение в разных флаконах, но в одной упаковке[1061]1061
Впрочем, по мере развития «фандоринского» и смежных с ним проектов изготовление романов, кажется, превратилось для автора в чисто коммерческое занятие, а сами романы, соответственно, упростились. И игровые цитаты, и игровые аллюзии на современность становятся редки. К примеру, в «Шпионском романе» литературных цитат раз-два и обчелся, а аллюзия на недавние события едва ли не единична (приземление севшего рядом со стадионом «Динамо» «Юнкерса», вызвавшее перетряску в руководстве ВВС, и дело Матиаса Руста со всеми вытекающими последствиями). Из такого же рода аллюзий – газ «Кола Си», якобы используемый в спецлаборатории.
[Закрыть].
И наконец, автор «фандоринского» и «провинциального» циклов откровенно моралистичен, что в наши дни пристало более именно «массовым» литераторам. Его Фандорин – приверженец законности и порядка, ценящий личную свободу и независимость. Почти либерал, готовый служить, но не прислуживаться. В «Статском советнике» устами Фандорина изрекается мысль о горе России из-за того, что благое дело защищают дураки и негодяи – представители власти, а за зло борются подвижники-революционеры. Здесь же просвещенный жандармский офицер Смольянинов произносит декларацию разумных реформ: «Нужно только перенаправить настроение просвещенной части общества от разрушительности к созиданию, а непросвещенную часть общества следует образовывать и постепенно воспитывать в ней чувство самоуважения и достоинства». А в «Пелагии и красном петухе» выкрест Бердичевский разъясняет самому себе, а заодно и читателям, что зло России – не в евреях.
В соотношении с классическими текстами акунинские сочинения выглядят как бы их дайджестом, экстрактом – наподобие томиков русской классики в кратком изложении, столь милых сердцу нерадивых школяров. Оставлена фабула. Впрочем, детектив и родственные ему творения – всегда как бы такая выжимка «большого» искусства. «Детектив – признак как социального, так и литературного здоровья. Он удобен тем, что обнажает художественные структуры. В принципе любое преступление – это идеальный в своей наготе сюжет. Каждая следственная версия тождественна психологическому мотиву»[1062]1062
Генис А. Вавилонская башня. С. 56.
[Закрыть].
Акунинские романы собираются из мотивов и аллюзий – кубиков, как домики в детском конструкторе. Но собрать эти тексты непросто. Борис Акунин достигает в своей игре истинного мастерства.
Постмодернистское путешествие в пространстве и времени в романе Бориса Акунина «Алтын-Толобас»
[1063]1063
Впервые: Russian Literature. Holland, 2011. Vol. LXIX–I. Печатается с дополнениями.
[Закрыть]
Роман Бориса Акунина «Алтын-толобас» (2001) построен по принципу последовательного чередования двух сюжетных линий: двух путешествий в Россию – немецкого дворянина Корнелиуса фон Дорна, приехавшего в Московию в XVII веке с целью наняться на военную службу, и историка Николаса Фандорина – его отдаленного потомка, выросшего в Англии и пытающегося в России открыть тайну письма-завещания, составленного Корнелиусом. Две сюжетные линии обладают высокой мерой изоморфности, Николас словно повторяет путь Корнелиуса. Пересечение границы России в обоих случаях представлено как перемещение из «цивилизованного/европейского» культурного пространства в «варварское» и связано с неприятностями, смертельными опасностями и своего рода культурным шоком. Происходит развенчание мифа о противоположности «старой» (дореволюционной), якобы культурной, и «новой» (советской и постсоветской), «дикой» России, который внушал Николасу отец сэр Александер. Счастливо избежав гибели, Корнелиус и Николас в итоге поступают совсем не так, как предусматривали изначально: не возвращаются на родину, а женятся и остаются в России. Открытие России обоими персонажами приводит к разрушению однозначной культурной оппозиции «Запад – Россия». Изначально заданное представление о движении в пространстве из Европы в Россию как о перемещении по оси культурных и этических координат от «нормального» локуса в локус «варварства» и «земного ада» по ходу развертывания сюжета корректируется и осложняется. В конечном счете оказываются проницаемыми не только границы государств, но и границы между культурными пространствами.
Между тем временные границы демонстрируют свою непроницаемость. Корнелиус не может предвидеть ни свое будущее, ни судьбу сокровенной книги – Замолея. Историк Николас, будучи в шаге от разгадки судьбы библиотеки Ивана Грозного (Либереи) и обладая необходимой информацией, совершает роковую ошибку, как будто бы навсегда оставляя загадку без надежды на раскрытие. Обнаружение искомого предмета (историческая ценность, сундук – «алтын-толобас») подменено встречей с девушкой и женитьбой на ней как обретением ценности (ср. омонимию названия сундука и имени героини – Алтын). Такое переозначивание, мена означаемых при сохранении означающего – характерный постмодернистский прием.
Таким образом История демонстрирует свою непроницаемость для того, кто, предпринимая ментальное путешествие, пытается проникнуть в ее пространство. В отличие от «трансфера» в географическом и культурном пространстве аналогичная операция во времени невозможна.
Николаса Фандорина исторические штудии привлекали как возможность «[y]знать как можно больше о человеке из прошлого: как он жил, о чем думал, коснуться вещей, которыми он владел – и тогда тот, кто навсегда скрылся во тьме, озарится светом, и окажется, что никакой тьмы и в самом деле не существует.
Это была не рациональная позиция, а внутреннее чувство, плохо поддающееся словам. Уж во всяком случае не следовало делиться столь безответственными, полумистическими воззрениями с профессором Крисби. Собственно, Фандорин потому и специализировался не по древней истории, а по девятнадцатому веку, что вглядеться во вчерашний день было проще, чем в позавчерашний. Но изучение биографий так называемых исторических деятелей не давало ощущения личной причастности. Николас не чувствовал своей связи с людьми, и без него всем известными. Он долго думал, как совместить приватный интерес с профессиональными занятиями, и в конце концов решение нашлось. Как это часто бывает, ответ на сложный вопрос был совсем рядом – в отцовском кабинете, на каминной полке, где стояла неприметная резная шкатулка черного дерева»[1064]1064
Акунин Борис. Алтын-толобас: Роман. СПб., 2002. С. 9–10. Далее при цитировании романа страницы этого издания указываются в тексте статьи.
[Закрыть].
Однако именно этот личностный контакт с прошлым, желание вжиться в сознание человека иной эпохи оказываются невозможны, как демонстрируют разыскания Николаса, связанные с завещанием предка: текст завещания был прочитан не совсем точно, понять поступки Корнелиуса его потомок не смог, в исторически достоверную семейную легенду о женитьбе на дочери боярина Матфеева не поверил. Terra incognita для Николаса – даже жизнь его деда Эраста Петровича: «К сожалению, вследствие сугубой деликатности занятий этого сыщика-джентльмена, Николас обнаружил очень мало документальных следов его деятельности, поэтому вместо научной статьи пришлось опубликовать в иллюстрированном журнале серию полубеллетризованных скетчей, основанных на семейных преданиях. С точки зрения профессиональной репутации затея была сомнительной» (с. 12).
С точки зрения, на которой стоит автор «Алтына-толобаса», история может быть предметом различного рода литературных/культурных игр (одной из которых и занят автор), являясь видом воображаемого. Но ее постижение, ее адекватное представление нереальны. В этой связи можно вспомнить утверждение Ж. Дерриды, ставшее одним из ключевых основоположений постмодернистской рецепции Прошлого, Истории: «Рациональность, которая управляет письмом в его расширенном и углубленном понимании, уже не исходит из логоса; она начинает работу деструкции (déstruction): не развал, но подрыв, де-конструкцию (dé-construction) всех тех значений, источником которых был логос. В особенности это касается значения истины»[1065]1065
Деррида Ж. О грамматологии / Пер. с фр., вступ. ст. и коммент. Н.С. Автономовой. М., 2000. С. 24.
[Закрыть].
По характеристике М.Н. Липовецкого, опирающегося на идеи Линды Хатчин (Linda Hatcheon), для постмодернистского восприятия истории отличительны:
«1. Отказ от поиска не только какой бы то ни было исторической правды, но и телеологии исторического процесса в целом. Эта черта безусловно связана с принципиальной для постмодернистского сознания установкой на релятивность и множественность истин;
2. Не только в постмодернистской поэтике, но и в современной исторической науке (школа “Анналов”, труды Мишеля Фуко) исторический процесс предстает как сложное взаимодействие мифов, дискурсов, культурных языков и символов, то есть как некий незавершимый и постоянно переписываемый метатекст. В этом контексте разрушается традиционная, еще Аристотелем определенная, антитеза истории и литературы как, соответственно, реального и возможного, факта и вымысла (домысла);
3. Понимание истории как незавершимого текста естественно порождает особую эстетическую интенцию <…>. С одной стороны, так формируется особого рода исторический взгляд на настоящее, которое ничем не отличается от прошлого, точно так же непрерывно сочиняется и переписывается. С другой стороны, в этой интенции проступает связь постмодернистской философии истории с диалогической поэтикой, ориентированной, как известно, на расширение зоны контакта с вечно неготовым настоящим;
4. Наконец, особую важность в воплощении этой концепции истории приобретают такие элементы постмодернистской поэтики, как интертекстуальность и ирония. <…> Причем интертекстуальность, как правило, носит пародийный или иронический характер, подрывая претензии субъекта на историческое знание – как в прошлом, так и в настоящем»[1066]1066
Липовецкий М.Н. Русский литературный постмодернизм. (Очерки исторической поэтики). Екатеринбург, 1997. С. 29–31.
[Закрыть].
Несмотря на сомнительность ряда утверждений (школа «Анналов» отнюдь не отрицала понятие исторической истины в классическом смысле слова, ранние работы М. Фуко еще не являются в чистом виде постмодернистскими/постструктуралистскими, отношения между прошлым и современностью в постмодернистской словесности едва ли могут быть соотнесены с диалогической поэтикой, которая невозможна при релятивизации понятия «истина»), в целом эта характеристика (в основном применимая и к «Алтыну-толобасу») вполне точна.
В более ранних сочинениях, входящих в цикл «Провинциальный детектив», посвященный монахине Пелагии, и в цикл «Приключения Эраста Фандорина», Борис Акунин непосредственно изображал прошлое (XIX век), однако историчность картины была мнимой: полотно «Истории» было соткано из аллюзий на современность и из разнообразных литературных интертекстов[1067]1067
См. мою статью «Романы Бориса Акунина и классическая традиция: повествование в четырех главах с предуведомлением, нелирическим отступлением и эпилогом» в настоящей книге.
[Закрыть]. Прошлое (XVIII век) и настоящее (пласт, в котором главным героем является персонаж «Алтына-толобаса» Николас Фандорин) соположены также в недавнем романе «Сокол и ласточка»[1068]1068
См.: Акунин Борис. Сокол и ласточка: Роман. М., 2010.
[Закрыть], причем здесь, как бы в качестве компенсации за промах, допущенный в «Алтыне-толобасе», Николасу удается разгадать тайну старинного клада. Существенно, однако, что это происходит внезапно, случайно – по наитию, а не является результатом исследовательской тактики бывшего историка[1069]1069
А в «Детской книге» потомку и тезке Эраста Петровича – мальчику по прозвищу Ластик удается через «хронодыру» попасть в прошлое (причем он едва не встретился со своим знаменитым предком), но не удается предотвратить предопределенный ход событий: маленький герой оказывается их созерцателем, а не собственно участником: прошлое все-таки закрыто для него.
[Закрыть].
Такое представление можно охарактеризовать как постмодернистское. Мотив утраты рукописи/библиотеки восходит к «Имени розы» Умберто Эко, одному из наиболее известных постмодернистских «исторических» романов. Ученый лекарь и фармацевт Адам Вальзер, в руки которого попадает Замолей (апокрифическое Евангелие от Иуды) – книга, содержащая разрушительное сокровенное богоотрицающее знание, контрастно соотнесен со старым монахом Хорхе из романа Эко: персонаж Акунина, одержимый поклонник Разума, стремится обнародовать книгу, способную привести к войнам и потрясениям моральных основ; охранитель Хорхе скрывает рукопись «Поэтики» Аристотеля с главой о комедии, ознакомление с которой способно реабилитировать смех, признаваемый орудием дьявола. В обоих романах сокровенные рукописи гибнут, а библиотеки, их содержавшие (монастырское хранилище в «Имени розы» и Либерея Ивана Грозного в «Алтыне-толобасе»), оказываются утраченными (собрание монастырских манускриптов сгорает, а царское книжное собрание остается погребенным в земле и неразысканным).
Вступая в интертекстуальную соотнесенность с романом Эко, мотив нераскрытой тайны и идея непроницаемости Истории у Бориса Акунина обнаруживают свою игровую, ироническую сущность. Тотальный, метафизический характер иронии – черта также постмодернистская.
Постмодернистская семиотическая игра проявляется и в столкновении языков, производящем часто комический эффект переводимости/непереводимости. Участниками такого семиотического конфликта оказываются как различного рода дискурсы – языки в общесемиотическом смысле слова, так и собственно лингвистические системы. Пример первого рода: «Впрочем, к чему лукавить с самим собой? История привлекала Николаса не как научная дисциплина, призванная осмыслить жизненный опыт человечества и извлечь из этого опыта практические уроки, а как увлекательная, завораживающая погоня за безвозвратно ушедшим временем. Время не подпускало к себе, ускользало, но иногда свершалось чудо, и тогда на миг удавалось ухватить эту жар-птицу за эфемерный хвост, так что в руке оставалось ломкое сияющее перышко.
Для Николаса прошлое оживало, только если оно обретало черты конкретных людей, некогда ходивших по земле, дышавших живым воздухом, совершавших праведные и ужасные поступки, а потом умерших и навсегда исчезнувших. Не верилось, что можно взять и исчезнуть навсегда. Просто те, кто умер, делаются невидимыми для живущих. Фандорину не казались метафорой слова новорусского поэта, некоторые стихи которого признавал даже непримиримый сэр Александер: “…На свете смерти нет. / Бессмертны все. Бессмертно все. Не надо / бояться смерти ни в семнадцать лет, ни в семьдесят. / Есть только явь и свет, / ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. / Мы все уже на берегу морском, / и я из тех, кто выбирает сети, / когда идет бессмертье косяком”» (с. 9).
Эпитет «новорусский», имеющий в современном русском языке значение, никак не охватывающее творчество цитируемого в книге Арсения Тарковского, употреблен для его характеристики фандоринским отцом, для которого катастрофическая точка отсчета – революция 1917 года: в этой системе координат и «классик» – хранитель традиции Арсений Тарковский оказывается «новорусским» стихотворцем. Таким образом демонстрируется релятивность точек отсчета, систем координат и оценок в принципе.
Подобным образом и название «Челси», в речи Николаса должное нести коннотации ‘классическая английскость’ и противопоставленное новорусскому сленгу, российский читатель романа (помнящий не столько об этом топониме, сколько об одноименном футбольном клубе, который приобрел олигарх Роман Абрамович) воспринимает с семантическим ореолом ‘новорусскость’: «Николас любить щегольнуть перед какой-нибудь русской путешественницей безупречным московским выговором и знанием современной идиоматики. Неизменное впечатление на барышень производил прекрасно освоенный трюк: двухметровый лондонец, не по-родному учтивый, с дурацкой приклеенной улыбкой и безупречным пробором ровно посередине макушки – одним словом, чистый Англичан Англичанович – вдруг говорил: “Милая Наташа, не завалиться ли нам в Челси? Там нынче улетная тусовка”» (с. 6–7).
Примеры второго рода (весьма многочисленные) – конфликтное сосуществование литературного русского языка и современного криминального арго, а также макароническая поэтика немецких/старорусских (в линии Корнелиуса) и английских/русских (в линии Николаса) фрагментов. Лингвистический контраст может указывать на взаимонепроницаемость, закрытость двух сополагаемых культур, как в случае с размышлением Николаса о посещенной им родине предков: «В кромешном мраке, в стране of no return (по-русски так не скажешь), вдруг зажигался огонек, источавший слабые, манящие лучи. Сделай шаг, ухватись за эти бесплотные ниточки, и, может быть, тебе удастся схватить Время за край черной мантии, заставить его возвратиться!» (с. 15).
Или как в случае с признанием, сделанным Корнелиусу боярышней Сашенькой Матвеевой: «– Мне всё ведомо, – стремительным шепотом заговорила боярышня. – Батюшка сказывал. Уезжаешь? Что ж, дай тебе Бог, Корней, счастья сыскать. А я и так знала, что нам с тобою не судьба. Раньше я больно высоко летала, теперь вот вниз паду, о землю разобьюсь. Прощай, mon amour impossible. По-русски-то так и не скажешь, стыдно.
Сашенька обхватила высокого мушкетера за шею, быстро поцеловала в губы, и прежде чем растерянный Корнелиус успел ответить на объятье, выбежала из залы прочь» (с. 379).
И далее – в размышлении ошеломленного фон Дорна: «Капитан вздохнул и замотал головой, отгоняя непрошеное видение: серые глаза Сашеньки, когда они посмотрели на него в упор, переносица в переносицу. Mon amour impossible…
Вспомнилась арапская притча. Досидел-таки крокодил в своем болоте, дождался, чтоб луна упала к нему прямо в когтистые лапы» (с. 380).
В последнем примере «цивилизованное» и «варварское» становятся предметом игровой инверсии: немец Корнелиус отождествляет себя с миром дикости (с крокодилом из «арапской» притчи), москвитянка боярышня Матвеева, галантно изъясняющаяся по-французски, олицетворяет начало «культуры». Тем самым вновь утверждается идея релятивизма систем ценностей и культур.
Другой пример проявления такого релятивизма – фрагмент, в котором фон Дорн рассуждает о варварском обычае московитов зарывать заживо в землю женщин-мужеубийц. Корнелиус «вспомнил, как купцы рассказывали про жестокий обычай московитов – жену, что убьет мужа, не жечь на костре, как принято в цивилизованных странах, а закапывать живой в землю, пока не издохнет» (с. 70–71).
Читатель, несомненно, обе казни должен оценить как равно «варварские» и бесчеловечные.
Так же релятивен и статус языковых стилей. Для Николаса криминальный жаргон – предмет любопытства и коллекционирования. Вынужденный изъясняться с проводником на этом наречии после ограбления, акунинский персонаж предварительно изучил блатную лексику по специальному блокнотику: «Николас положил неприятному человеку руку на плечо, сильно стиснул пальцы и произнес нараспев:
– Борзеешь, вша поднарная? У папы крысячишь? Ну, смотри, тебе жить. [“Борзеть” = терять чувство меры, зарываться; “вша поднарная” (оскорб.) = низшая иерархия тюремных заключенных; папа = уважаемый человек, вор в законе; “тебе жить” (угрож.) = тебе не жить.]
<…> Николас никогда не видел, чтобы человек моментально делался белым, как мел, – он всегда полагал, что это выражение относится к области метафористики, однако же проводник действительно вдруг стал совсем белым, даже губы приобрели светло-серый оттенок, а глаза заморгали часто-часто.
– Братан, братан… – зашлепал он губами, и попытался встать, но Фандорин стиснул пальцы еще сильней. – Я ж не знал… В натуре не знал! Я думал, лох заморский. Братан!
Тут вспомнилась еще парочка уместных терминов из блокнота, которые Николас с успехом и употребил:
– Сыскан тебе братан, сучара. [“Сыскан” = сотрудник уголовного розыска, шире – милиционер; “сучара” (презр.) = вор, поддерживающий контакты с милицией.]
Здесь важно было не сфальшивить, не ошибиться в словоупотреблении, поэтому Николас ничего больше говорить не стал – просто протянул к носу злодея раскрытую ладонь (другую руку по-прежнему держал у него на плече).
– Ну?
– Щас, щас, – засуетился проводник и полез куда-то под матрас. – Все целое, в лучшем виде…
Отдал, отдал все, похищенное из кейса: и документы, и портмоне, и ноутбук и, самое главное, бесценный конверт. Заодно вернул и содержимое бумажника мистера Калинкинса.
Ведьмовской лес дрогнул перед решимостью паладина и расступился, пропуская его дальше.
Можно было объяснить свершившееся и иначе, не мистическим, а научным образом. Профессор коллоквиальной лингвистики Розенбаум всегда говорил студентам, что точное знание идиоматики и прецизионное соблюдение нюансов речевого этикета применительно к окказионально-бытовой и сословно-поведенческой специфике конкретного социума способно творить чудеса. Поистине лингвистика – королева гуманитарных дисциплин, а русский язык не имеет себе равных по лексическому богатству и многоцветию. “Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! – думал Николас, возвращаясь в купе. – Нельзя не верить, чтобы такой язык не был дан великому народу”» (с. 48–49, курсивом даны авторские пояснения, они же выписки из николасовского словарика русского арго).
В ироническом модусе повествования успехом Фандорина комически подтверждается ценность лингвистических изысканий. (Дополнительный комический игровой эффект основан на тождестве фамилии английского профессора-языковеда и фамилии российского певца Александра Розенбаума – известнейшего исполнителя блатных песен.) А итоговая мысль Николаса, поданная как его собственный вывод, – не что иное, как цитата из хрестоматийно известного стихотворения в прозе «Русский язык» И.С. Тургенева, имевшего в виду отнюдь не воровское наречие.
А в конце романа тот же криминальный сленг в устах профессионального наемного убийцы звучит уже как нормальная, нейтральная речь: «– Что, гнида, узнал сердечного друга? Узнал. И навалил в портки. Правильное решение. – Шурик убрал руку, брезгливо вытер о рубашку. – Захотел Седого кинуть? Зря, Макс, зря. Сам навел, сам семафорил, немалые бабульки схавал, а после придумал для себя скрысятничать? Обиделся на тебя Седой, жутко обиделся» (с. 352).
В известном смысле оба путешествия – и Корнелиуса фон Дорна, и его потомка – могут быть описаны посредством такой категории, как «трансфер». Я вынужден оговориться, что использую при анализе акунинского романа термин «трансфер» (насколько это делаю) скорее метафорически, чем строго терминологически. Тем не менее это не чистая условность. Во-первых, роман построен на соотнесенности двух временных планов: XVII века, царствования Алексея Михайловича, – к этому времени относится история приехавшего в Россию Корнелиуса фон Дорна, и настоящего, в котором разворачиваются приключения его потомка Николаса Фандорина. Два плана (две истории) обнаруживают очень высокую (превосходящую меру случайности и правдоподобия) меру изоморфности, так что можно говорить или о трансфере прошлого в настоящее, или, наоборот, о перемещении современности в XVII столетие.
Причем для сходных событий выбирается одна и та же лексика – о грабителях и прежде, и ныне говорят «пошаливают»; слово дается в латинской транслитерации – с точки зрения языкового сознания героев. Случайный попутчик Николаса латвийский коммерсант Айвар Калинкинс предостерегает: «– После паспортного контроля и таможни мы с вами запрем дверь на замок и цепочку, потому что… пошаливают. – Мистер Калинкинс произнес это слово по-русски (получилось: because they there… poshalivayut), пощелкал пальцами и перевел этот специфический глагол как “hold up”. – Настоящие бандиты. Врываются в купе и отбирают деньги» (с. 20–21).
Чуть дальше это же словечко употребляет в разговоре с ограбленным Николасом проводник поезда Рига – Москва: «– Это запросто, – сказал он, глядя на пассажиров безо всякого интереса. – Пошаливают. (Снова это непереводимое ни на один известный Николасу язык слово!) Железная дорога за утыренное ответственности не несет. А то с вами, лохами, по миру пойдешь» (с. 45).
В первом из вышеприведенных примеров дополнительный (комический) игровой эффект создается фамилией латыша-русофоба: она либо созвучна со словом «калинка», либо от него производна (калинк-ин-с). Если такое предположение справедливо, то собеседник Николаса оказывается русским по происхождению, к фамилии которого, по правилам образования латышских фамилий, прибавлен необходимый грамматический элемент «-с». Так или иначе, «Калинкинс» аукается с «калинкой» – затертым «брендом» «русскости» («калинка-малинка» из хрестоматийной народной песни).
Происходит и трансфер реалии из настоящего в прошлое: Корнелиус фон Дорн узнает, как зовут в России завсегдатаев кабаков, – пьецухи. (Пьяниц на самом деле называли «питухи».) Слово дается сначала в латинской транслитерации, а затем уже по-русски, явно отсылая к фамилии современного русского прозаика Вячеслава Пьецуха; фрагмент испещрен примерами межъязыковой игры – транслитерацией латиницей специфических для Корнелиуса русизмов и включением в прямую речь персонажа родной для него немецкой лексики: «Перед тем как подняться на крыльцо кабака (по-туземному kruzchalo) Корнелиус взял из поленницы суковатое полено.
Пропойцы (по-русски pjetsukhi) оглянулись на голого человека с интересом, но без большого удивления – надо думать, видали тут и не такое. Двух прислужников, что кинулись вытолкнуть вошедшего, фон Дорн одарил: одного с размаху поленом по башке, другому въехал лбом в нос. Потом еще немного попинал их, лежащих, ногами – для острастки прочим, а еще для справедливости. Не иначе как эти самые подлые мужики его, одурманенного да ограбленного, отсюда и выволакивали.
Кабатчик (по-русски tszelowalnik) ждал за прилавком с допотопной пистолью в руке. От выстрела капитан увернулся легко – присел. После ухватил каналью за бороду и давай колотить жирной мордой об стойку. И в блюдо с грибами, и в черную размазню (это, как объяснили купцы, и была знаменитая осетровая икра), и в кислую капусту, и просто так – о деревяшку. Удары были хрусткие, сочные – Корнелиус отсчитывал их вслух, по-немецки. Пьецухи наблюдали с уважением, помочь целовальнику никто не захотел.
Сивобородый сначала терпел. На zwei und zwanzig стал подвывать. На dreissig заплевался кровью прямо в капусту. На drei und vierzig перешел на хрип и попросил пощады» (с. 63).
Такую межъязыковую/междискурсную игру можно рассматривать как частный случай интертекстуальности – принципа, присущего постмодернизму par excellence. (Собственно литературными аллюзиями «Алтын-толобас» по сравнению с более ранними произведениями Акунина как раз небогат[1070]1070
Ср.: Ранчин А. Романы Бориса Акунина и классическая традиция.
[Закрыть].) Напомню ставший хрестоматийным пассаж Юлии Кристевой: «<…> Горизонтальная ось (субъект – получатель) и вертикальная ось (текст – контекст) в конце концов совпадают, обнаруживают главное: всякое слово (текст) есть такое пересечение двух слов (текстов), где можно прочесть по меньшей мере еще одно слово (текст). <…> Тем самым на место понятия интерсубъективности встает понятие интертекстуальности, и оказывается, что поэтический язык поддается как минимум двойному прочтению»[1071]1071
Кристева Ю. Слово, диалог и роман [1966] / Пер. с фр. Г.К. Косикова // Кристева Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики / Пер. с фр. Г.К. Косикова, Б.Н. Нарумова; Сост. Г.К. Косикова. М., 2004. (Серия «Книга света»). С .167.
[Закрыть].
По определению М.Н. Липовецкого, постмодернизм исходит из представления, согласно которому «сама реальность – это всего лишь комбинация различных языков и языковых игр, пестрое сплетение интертекстов. В итоге поиск эквивалентов реальности отступает на задний план, зато вперед выдвигается обыгрывание языковых условностей»[1072]1072
Липовецкий М.Н. Русский литературный постмодернизм. С. 21.
[Закрыть].
Поэтика «Алтына-толобаса» вполне соответствует (правда, в упрощенном, «массовом» варианте) «особой структуре постмодернистского образа, проявляющейся на всех уровнях текста: от словесного тропа до мирообраза». По характеристике М.Н. Липовецкого, «[э]то структура, в которой на первый план выходит сам процесс постоянной перекодировки, “переключения” с одного культурного языка на другой, от “низкого” к “высокому”, от архаического к новомодному, и наоборот…»[1073]1073
Там же. С. 22.
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































