Текст книги "Перекличка Камен. Филологические этюды"
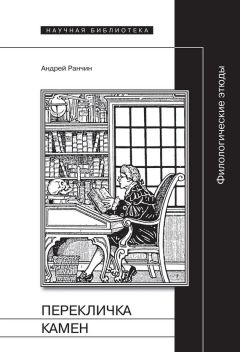
Автор книги: Андрей Ранчин
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 43 страниц)
Не соглашаясь с этим суждением и считая его, перефразируя самого поэта, очень варварским, но неверным, нельзя не признать, что у нас нет языка, нет терминов для хотя бы относительно точного описания такого поэтического механизма.
Остается последний вопрос: предусматривал ли сам Бродский, что столь тонкая игра будет и должна быть разгадана читателем? Известный исследователь русской поэзии Роман Тименчик заметил: идеальный филолог «само собой, комментирует то, что должен был понимать в тексте исторический читатель <…> но также и то, что исторический читатель мог – а то и должен был – недопонимать в случае авторской установки на “красивые непонятности” <…>»[471]471
Тименчик Р.Д. Монолог о комментарии // Тименчик Р. Что вдруг: Статьи о русской литературе прошлого века. Иерусалим; М., <2008>. С. 589.
[Закрыть]. Ни в коей мере не претендуя на титул идеального комментатора Бродского, рискну предположить: поэт предусмотрел возможность и высокую вероятность непонимания стихотворения большинством читателей. Идеальным читателем «Полярного исследователя» оказывается сам создатель. Происходит автокоммуникация. В чем еще раз проявляется одиночество поэтического «я», которое есть постоянная тема Бродского. Случай в поэзии ХХ века не такой уж и редкий.
II. «Перекличка камен»: преломление традиций
«Слово о полку Игореве» в поэзии Иосифа Бродского: несколько наблюдений к теме[472]472
Впервые: Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2007. № 5. Переиздано в кн.: Ранчин А.М. Древнерусская словесность и ее интерпретации: Маргиналии к теме. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. Печатается с дополнениями.
[Закрыть]
Предметом дальнейшего анализа будут преимущественно аллюзии на «Слово о полку Игореве» в стихотворении «Узнаю этот ветер, налетающий на траву…» (1975), входящем в цикл «Часть речи» (1975–1976). Перечитаем внимательно текст этого произведения, последовательно анализируя его – от строки к строке.
Строки 1–4:
Узнаю этот ветер, налетающий на траву,
под него ложащуюся, точно под татарву.
Узнаю этот лист, в придорожную грязь
падающий, как обагренный князь (II; 399).
Эти четыре строки образуют единое семантическое и, в некоторой мере, синтаксическое целое. Они состоят из двух предложений, каждое из которых однотипная конструкция – предикативное ядро: сказ. (глагол в форме 1-го л. ед. ч.) + указ. мест. + прямое дополнение (сущ. муж. р.) + причастный оборот, относящийся к этому дополнению (причастие + дополнение – существительное жен. р. в предложном [местном] падеже) + сравнительный оборот. Совпадают сказуемые, открывающие оба предложения – первую и третью строки соответственно (узнаю), и следующие за ними местоимения (этот ветер и этот лист). Таким образом, в первых четырех строках используется синтаксический параллелизм, усиленный благодаря анафоре.
Синтаксически начало стихотворения абсолютно ясно, однако семантика этих строк не столь очевидна. На первый взгляд не вполне понятно узнавание лирическим «я» – субъектом высказывания – ветра и листа: ветер и лист нельзя «узнать».
Естественно, это узнавание не может быть понято буквально. Один из инвариантных мотивов цикла «Часть речи» – расставание с родиной, причем он представлен сразу, в первом из стихотворений: «уже не ваш, но / и ничей верный друг вас приветствует с одного / из пяти континентов, держащегося на ковбоях; / я любил тебя больше, чем ангелов и самого, / и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих» («Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря…» [III; 125]). Соответственно, подразумевается узнавание в американской осени, в американском листопаде – осени и листопада русских.
Но эта очевидная трактовка не разрешает всех недоумений. Неожиданным, внешне не мотивированным выглядит сравнение ложащейся, никнущей под ветром травы с татарвой. Уподобление листа князю мотивировано подразумеваемой ассоциацией «падающий [значит, осенний, красный] лист – обагренный [окровавленный, израненный] князь». Но эта ассоциация сначала может показаться поверхностной и натянутой. Одна из мотиваций первого сравнения – языковая, построенная на паронимической аттракции трава – татарва. Сопоставление предстает своего рода лингвистическим метаописанием: как трава ложится под ветер, так и лексема «трава» под лексему «татарва». В «татарве» как бы свернута «трава»: т[ата]рва.
Метаописательность вообще присуща Бродскому и, может быть, особенно циклу «Часть речи».[473]473
Она задана уже заглавием «Часть речи»: цикл – часть русской речи, часть русской поэзии, ее своеобразная манифестация.
[Закрыть] Поэтому закономерным был бы поиск интертекстуального ключа или ключей к образам травы – татарвы и листа – князя[474]474
Образ листа – обагренного князя соотнесен с царственным багрянцем листвы в пушкинской «Осени»: «В багрец и в золото одетые леса» (III–I; 320). В Древней Руси (Бродский мог учитывать это) князья часто носили верхнюю одежду красного цвета «разных тонов до пурпурного и малинового». – Свердлов М.Б. Домонгольская Русь: Князь и княжеская власть на Руси VI – первой трети XIII вв. СПб., 2003. С. 575.
Образ осени в стихотворении Бродского намеренно противоречив: он соотнесен и с пушкинским образом творческой осени, и одновременно с образом бесплодной осени – символом оскудения из стихотворения Е.А. Баратынского «Осень». В цикле «Часть речи» соотнесенность с «Осенью» Баратынского особенно значима для стихотворения «Заморозки на почве и облысенье леса…». См. об этом: Ранчин А. «На пиру Мнемозины»: Интертексты Бродского. М., 2001. (Новое литературное обозрение. Серия «Научная библиотека»). С. 245–246.
К автоинтертекстуальному фону стихотворения «Узнаю этот ветер, налетающий на траву…» относится также, по-видимому, стихотворение Бродского «Ты ветер, дружок. Я твой / лес…» (III; 265), адресованное М.П. Басмановой. Это стихотворение в «Сочинениях» Бродского датировано 1983 г., но Лев Лосев убедительно доказывает, что на самом деле оно написано в 1963 или 1964 г. – на десять с лишним лет раньше, чем цикл «Часть речи». См.: Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. М., 2006. (Серия «Жизнь замечательных людей». Вып. 1220 (1020)). С. 296, примеч. 163. Таким образом, ветер в стихотворении из цикла «Часть речи» ассоциируется с М.Б., с ее покоряющей властью, а лист («обитатель» леса) – с лирическим «я», «раненным» любовью; мнимая «пейзажная» зарисовка первого четверостишия прочитывается как иносказательное, словно табуированое выражение любовной темы, открыто явленной в других текстах цикла.
[Закрыть]. Один из этих ключей спрятан в стихотворении Осипа Мандельштама «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма…» (1931). Есть в нем и «татарва», и ассоциативно связанные с ней «князья». Приведем соответствующие строки и – для необходимого понимания их – ближайший контекст:
Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.
Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима,
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда.
И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый,
Я – непризнанный брат, отщепенец в народной семье –
Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье[475]475
Мандельштам О. Полное собрание стихотворений / Вступ. ст. М.Л. Гаспарова и А.Г. Меца; Сост., подгот. текста и примеч. А.Г. Меца. СПб., 1995. (Серия «Новая Библиотека поэта»). С. 203.
[Закрыть].
Из различных существующих толкований этого стихотворения мне представляется предпочтительной интерпретация М.Л. Гаспарова: «Обращено стихотворение, вероятнее всего, к русскому языку. Сквозной образ стихотворения – колодезные срубы: в первой строфе на дне их светится звезда совести (образ из Бодлера), во второй расовые враги топят в них классовых врагов <…>. Это значит: <…> поэт <…> принимает на себя смертные грехи народа, которому он чужд. <…> Мы видим, что отношение поэта к отвергнутому современному миру сложнее, чем кажется с первого взгляда»[476]476
Гаспаров М.Л. Поэт и культура. Три поэтики Осипа Мандельштама // Мандельштам О. Полное собрание стихотворений. С. 44.
[Закрыть].
Интерпретация М.Л. Гаспарова нуждается лишь в одной корректировке. И.З. Сурат совершенно справедливо отводит мнение, что адресатом этого «темного» стихотворения является русский язык: «<…> Разве русский язык требует от поэта тех жертв, о которых дальше идет речь? Этих жертв может требовать только народ, а точнее – поэт сам готов идти на любые жертвы ради того, чтоб народ признал его своим, ради сохранения связи с народом через поэтическую речь и общую историю. “Привкус несчастья и дыма”, “смола кругового терпенья”, “совестный деготь труда” – это те свойства поэзии, которые делают ее близкой народу, лежат в основании их общности»[477]477
Сурат И. Мандельштам и Пушкин. М., 2009. С. 179.
[Закрыть]. Исследовательница оспаривает мнение М.Л. Гаспарова, но он лишь повторил трактовку, принадлежащую О. Ронену[478]478
См.: Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. СПб., 2002. С. 49.
[Закрыть].
Добавлю, что упоминание о «князьях», опускаемых в «срубы» на «бадье», отсылает у Мандельштама, очевидно, не только к давней русской истории, к временам монголо-татарских нашествий (впрочем, такой эпизод в точности, кажется, не известен), но и к событию недавнего прошлого – к убийствам большевиками великих князей и княгинь из дома Романовых, тела которых были сброшены («опущены») в шахты. Помимо великих княжон и наследника цесаревича Алексея – детей последнего российского императора, сброшенных в шахту после расстрела вместе с родителями, это великая княгиня Елизавета Федоровна и князья Сергей Михайлович, Игорь Константинович, Константин Константинович и Иоанн Константинович, в ночь на 18 июля 1918 года сброшенные в шахту Нижняя Селимская недалеко от города Алапаевска (все они, кроме великого князя Сергея Михайловича, были сброшены в шахту живыми)[479]479
На этот реальный подтекст мандельштамовского стихотворения впервые указал О. Ронен: Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. С. 51. Мандельштамовская «татарва» ассоциируется с новым советским «варварским» поколением; см. об этом: Шиндин С.Г. К интерпретации стихотворения Мандельштама «Сохрани мою речь навсегда…» // Поэзия и живопись: Сб. трудов памяти Н.И. Харджиева. М., 2000. С. 642.
[Закрыть]. Замена реальных шахт на колодезные «срубы», в частности, по-видимому, мотивирована чеховским интертекстом: в комедии «Вишневый сад» упоминается звук, похожий на звук лопнувшей струны; возможным источником этого звука оказывается упавшая бадья в шахте. Автор стихотворения «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма…», вспоминая события революции и послереволюционного времени, мог истолковать чеховский образ-символ как эсхатологический, а «бадья» из «Вишневого сада» естественно рождала ассоциации шахты с колодцем.
В стихотворении Бродского от мандельштамовской противоречивой «готовности-неготовности» принять недавнее прошлое и выросшее из него настоящее советской России ничего не остается. Воспоминание о «татарве», расправляющейся с князьями, предстает здесь как символ кровопролитной, жестокой истории Отечества – как старинной, так и не столь недавней.
Соседство травы, словно ложащейся под татарву, о которых говорится в первых двух строках стихотворения Бродского, с раненым князем, очевидно, мотивировано историей далекого прошлого – событиями 1223 года, первого столкновения русичей с монголо-татарами – битвы при Калке. Это история гибели Мстислава Романовича Киевского и его двух зятьев – князей Андрея и Александра Дубровецкого, защищавших укрепленный стан и сдавшихся татарам только на условии сохранения жизни себе и своим ратникам, но обманутых. Свидетельства об их трагической и позорной смерти Бродский, несомненно, знал, так как они постоянно повторяются не только в научных трудах, но и в популярных исторических сочинениях, и в различных курсах и учебниках истории. Приведу эти известия в изложении Н.М. Карамзина, чью «Историю государства Российского» Бродский, вероятно, ко времени написания стихотворения прочитал: «Остервенелые жестоким сопротивлением великодушного Мстислава Киевского, и вспомнив убиение своих Послов в нашем стане, Моголы изрубили всех Россиян, трех Князей задушили под досками, и сели пировать на их трупах!»[480]480
Карамзин Н.М. История государства Российского: В 12 т. / Отв. ред. А.Н. Сахаров; Подгот. текста В.Ю. Афиани, В.М. Живова, В.П. Козлова. М., 1991. Т. 2–3. С. 487.
[Закрыть] Известие о гибели трех князей восходит к свидетельству Тверской летописи под 6732 (1224) годом: татары «князей издавиша, подкладше подъ дощки, а сами на верху сѣдоша обѣдати, и тако издохошася и животъ свой скончаша»[481]481
ПСРЛ. М., 2000. Т. 15. Рогожский летописец. Тверской сборник. Стб. 342.
[Закрыть].
Расправа, учиненная монголо-татарами над тремя князьями, и убийство большевиками родственников и свойственников Николая II для Бродского, по-видимому, символически смыкаются и перекликаются, осознаются поэтом как вехи, знаменующие торжество деспотизма, некоей метафорой которого становится «татарщина» (‘азиатчина’).
Обратимся к следующим четырем строкам стихотворения – с 5-й по 8-ю:
Растекаясь широкой стрелой по косой скуле
деревянного дома в чужой земле,
что гуся по полету, осень в стекле внизу
узнает по лицу слезу.
Как и первое четверостишие, эти четыре строки образуют единое целое, причем не только семантически, но и непосредственно синтаксически: это одно предложение, правда испытавшее воздействие инверсии и перестановок – приема, который характерен и для других текстов цикла «Часть речи»[482]482
О синтаксисе в текстах цикла см.: Pärli Ű. Синтаксис и смысл. Цикл Часть речи И. Бродского // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia V. (Studia Finlandiensia 16). Helsinki, 1996.
[Закрыть].
С.Н. Бройтман и Х.-Е. Ким восстанавливают исходный вид синтаксической структуры этих четырех стихов так: «Сама по себе инверсированность как бы мотивирована архаическим синтаксисом “Слова о полку Игореве” или Державина (к которому отсылают “кайсацкое имя” и “Орда”). Но перед нами принципиально нерасчленимый, синкретический синтаксис, по существу, внутренняя речь, хотя возможны попытки ее расширения и приведения к привычному порядку.
Попробуем это сделать. “Осень в чужой земле, растекаясь широкой стрелой по косой скуле деревянного дома, узнает, что [как] гуся по полету, слезу в стекле [внизу], [катящуюся] по [его – дома] лицу”»[483]483
Бройтман С.Н., Ким Х-Е. О природе художественной реальности в цикле И. Бродского «Часть речи» // Поэтика Иосифа Бродского: Сб. научных трудов. Тверь, 2003. С. 336.
[Закрыть].
Выбрав формой анализа последовательное чтение, ограничимся сначала синтаксисом пятой – восьмой строк. Реконструкция С.Н. Бройтмана и Х.-Е. Ким, в общем, конечно, верна, но, по-моему, напрашиваются два уточнения. Несомненен параллелизм осень узнает гуся по полету – узнает по лицу слезу; между тем в конструкции «узнает гуся по полету» предлог «по» лишен пространственного значения и нет подразумеваемого причастного оборота, как в конструкции «узнает слезу в стекле [внизу], [катящуюся] по [его – дома] лицу». Скорее у Бродского используется принцип синекдохи: сказано об осени, которая «узнает слезу по лицу» (узнает лицо, а потому и слезу на этом лице). И слеза эта, может быть, катится не только по оконному стеклу: отождествление «косой скулы» дома только с окном и, соответственно, слезы – только с каплей дождя, пролитой осенью, небесспорно. Осень, вероятно, узнает в «слезе» и дождевую каплю, и собственно слезу, скорее всего катящуюся по лицу лирического героя.
По замечанию С.Н. Бройтмана и Х.-Е. Ким, «[в] таком зыблющемся целом ни картина ветреной осени, ни сцена татарского набега не являются (несмотря на заданный аналитизм сравнения) автономными и расчлененными реальностями: перед нами одновременно пейзаж и батальная сцена (не случайно позже возникает “Слово о полку Игореве”)»[484]484
Там же. С. 335.
[Закрыть].
Собственно, перед нами две ситуации узнавания: в первой (стихи 1–4) лирический герой узнает осень, во второй (стихи 5–8) – осень узнает саму себя («американская» «русскую») и, вероятно, лирического героя, стоящего у окна в доме. Через это четверостишие также проходит мотив «татарщины», на который явно указывает метафора «косая [монгольская, татарская] скула» вместо привычных для физиономической характеристики человека монгольской расы языковых штампов «широкая скула» и «косые глаза»; эпитет «широкая» «отобран» у «скулы» кособокого дома и «подарен» «стреле». «Стрела», особенно с эпитетом «широкая», поданным как трансформация исходной лексемы «широкоскулая», напоминает о блоковской «стреле татарской древней воли» из цикла «На поле Куликовом» (III; 249). Напоминает скорее полемически, так как «татарва» в произведении Бродского никак не ассоциируется со свободой. Ассоциация между «татарвой» и «осенью», бесспорно, мотивирована соотнесенностью для поэта «желтой расы» и желтого цвета осени. Эта соотнесенность раскрыта в стихотворении «Эклога 5-я (летняя)» (1981):
И долго среди бугров и вмятин
матраса вертишься, расплетая,
где иероглиф, где запятая;
и снаружи шумит густая,
еще не желтая, мощь Китая (III; 225).
А в стихотворении «Восходящее желтое солнце следит косыми…» (1978) с «желтой расой» (японцами) соотнесен желтый цвет косых солнечных лучей:
Восходящее желтое солнце следит косыми
глазами за мачтами голой рощи,
идущей на всех парах к Цусиме
крещенских морозов. <…> (III; 203).
Теперь обратимся к стихам 9–12 стихотворения «Узнаю этот ветер, налетающий на траву…» – последним четырем строкам этого текста:
И, глаза закатывая к потолку,
я не слово о номер забыл говорю полку,
но кайсацкое имя язык во рту
шевелит в ночи, как ярлык в Орду.
В заключительном четверостишии, наконец, названы два претекста-подтекста, непосредственно связанные с «татарской»/ «тюркской» темой этого стихотворения. Это Г.Р. Державин – не только как автор «Фелицы», адресованной «богоподобной царевне / Киргиз-кайсацкия орды»[485]485
Державин Г.Р. Стихотворения / Вступ. ст., подгот. текста и общая редакция Д.Д. Благого / Примеч. В.А. Западова. Л., 1957. («Библиотека поэта». Большая серия. 2-е изд.). С. 97.
С ордынской царевной в автобиографическом плане стихотворения Бродского, вероятно, соотнесена М.Б. Лексема «Орда» становится, очевидно, элементом паронимической межъязыковой игры: «имя, <…> словно пропуск в Орду» – и английское «Word» – «слово».
[Закрыть], но и как автор «Видения мурзы», прямо заявляющий о своем татарском происхождении: «И в шутках правду возвещу; / Татарски песни из-под спуду, / Как луч, потомству сообщу…»[486]486
Державин Г.Р. Стихотворения. С. 113.
[Закрыть]; также это Державин – герой «Стихов о русской поэзии» Мандельштама, указывающего на татарское происхождение автора «Фелицы» и «Видения мурзы»[487]487
«Сядь, Державин, развалися, / Ты у нас хитрее лиса, / И татарского кумыса / Твой початок не прокис». – Мандельштам О. Полное собрание стихотворений. С. 218.
[Закрыть]. И это «Слово о полку Игореве». На оба эти претекста указали С.Н. Бройтман и Х.-Е. Ким, прибавив к ним также мандельштамовское «Я слово позабыл, что я хотел сказать…». Исходную, «правильную синтаксическую структуру этих строк они восстанавливают так: «[С]трока “я не слово о номер забыл говорю полку” требует, чтобы мы для устранения очевидной бессмыслицы соединили “слово о” не с находящимся рядом (“номер”), а с далеко отстоящим “полку” – и тогда восстанавливается фрагмент фразы: “Слово о полку [Игореве]”, особенно учитывая заданные вначале мотивы “князя” и “набега”. Так прочитанная фраза отсылает нас к метатекстуальному уровню художественной реальности, к Слову, и одновременно позволяет увидеть здесь еще одну реминисценцию из метастихотворения Мандельштама: “Я слово позабыл, что я хотел сказать…”. К этому относится и “язык во рту”, который “шевелит” “кайсацкое имя, как ярлык в Орду” – вновь отсылка к “татарской” теме, и к Державину (см. начало “Фелицы”: “Богоподобная царевна / Киргиз-Кайсацкия орды!”)»[488]488
Бройтман С.Н., Ким Х-Е. О природе художественной реальности в цикле И. Бродского «Часть речи». С. 336–337.
[Закрыть].
К указанным подтекстам можно прибавить цветаевское «Имя твое – льдинка на языке» (I; 288) как аналог и прообраз имени, шевелимого языком; этот образ из «Стихов к Блоку» М.И. Цветаевой, возможно, указывает на блоковские обертоны «русской/татарской» темы в стихотворении Бродского. Но это частность. На мой взгляд, С.Н. Бройтман и Х.-Е. Ким реконструируют исходную синтаксическую структуру строк Бродского верно, но односторонне: вполне возможна, например, и исходная конструкция: «Я говорю полку, [что] забыл не слово [вариант: не Слово о полку], а номер»; возможны и некоторые иные реконструкции[489]489
См. подробнее мою статью «Три заметки о полисемии в поэзии Иосифа Бродского» в настоящей книге.
[Закрыть].
Поэзия Державина и «Слово о полку Игореве» поставлены рядом, очевидно, как символы одного из истоков новой русской поэзии (автор «Фелицы») и истока всей русской словесности («Слово…»)[490]490
Отождествление в стихотворении Бродского «татарского» («татарва», державинская тема, Орда как символ отечества и, вероятно, «праколыбель» русской культуры) с половецким мотивировано, в частности, синонимией лексем «татары» и «половцы», характерной, например, для памятников Куликовского цикла, в которых монголо-татары Мамая именуются половцами.
Выбор же Бродским для «соседства» с «татарской» поэзией Державина именно «Слова о полку Игореве», отчасти, возможно, объясняется влиянием версии О.О. Сулейменова о «Слове…» как синтезе древнерусской и половецкой традиций. Сочинение Сулейменова «Аз и Я: Книга благонамеренного читателя» (Алма-Ата, 1975) вышло в свет в первой половине того же года, когда был начат цикл «Часть речи»; уже в середине 1975 г. книга вызвала в СССР необычайно бурную, далекую от академизма реакцию и подверглась осуждению партийных инстанций в 1976 г. См.: Бобров А.Г. Сулейменов Олжас Омарович // Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: В 5 т. СПб., 1995. Т. 5. С. 83–85. Бродский едва ли мог ее не заметить. Впрочем, это не более чем предположение: для положительного утверждения необходимы свидетельства о точной дате стихотворения и о знакомстве поэта с книгой Сулейменова.
О «восточной теме» в поэзии Бродского см. прежде всего: Лосев Л. Иосиф Бродский. С. 159–165.
[Закрыть].
Начало стихотворения, содержащее мотив узнавания, контрастирует с концовкой, в которой говорится о забывании, причем в плане выражения это забывание проявляется в разрушении имени[491]491
Строго говоря, «забыто», выпало из текста как раз имя – «Игореве».
[Закрыть] (названия) древнерусской «песни», которое разорвано на отдельные лексемы. Но одновременно именно благодаря упоминанию в финале о «Слове…» – ключе к тексту – начинает работать механизм памяти и узнавания, и власть поэзии торжествует над «дырявой» памятью лирического «я»: читатель должен по крупицам собрать рассыпанное по всему стихотворению «золото» «Слова…».
Прежде всего, отсвет «Слова…» ложится на образ листа, падающего в грязь, – раненого князя. В древнерусской «песни» русские воины после первой битвы с половцами «орьтъмами и япончицами, и кожухы начаша мосты мостити по болотомъ и грязивымъ мѣстомъ, и всякыми узорочьи Половѣцкыми»[492]492
Слово о полку Игореве. Снимок с первого издания 1800 г. гр. А.И. Мусина-Пушкина под ред. А.Ф. Малиновского. С приложением статьи проф. М.Н. Сперанского и факсимиле рукописи А.Ф. Малиновского. М., 1920. [Ироическая песнь о походе на половцов удельного князя Новагорода-Северского Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия, с переложением на употребляемое ныне наречие. М., 1800]. С. 11. Далее «Слово…» цитируется по этому изданию, страницы указываются в тексте.
[Закрыть]. О падении листвы как знаке горя, принесенного тюрками-половцами, говорится в двух фрагментах «песни»: «Ничить трава жалощами, а древо стугою (принятая конъектура: с тугою. – А.Р.) къ земли преклонилось» – о поражении Игоря (С. 15); «Нъ уже Княже Игорю, утрпѣ солнцю свѣтъ, а древо не бологомъ листвiе срони: по Рсii (принятая конъектура: по Рси и. – А.Р.), по Сули гради подѣлиша; а Игорева храбраго плъку не крѣсити» (С. 32).
Плачущая Ярославна упоминает о кровавых (обагренных) ранах супруга: «омочю бебрянъ руквъ въ Каялѣ рѣцѣ, утру Князю кровавыя его раны на жестоцѣмъ его тѣлѣ» (С. 38).
Соотнесен с «песнью» об Игоревом походе и образ стрелы. Во время второй битвы Игоря с половцами «съ вечера до свѣта летятъ стрѣлы каленыя» (с. 17); Ярославна обращается к ветру: «о вѣтрѣ! вѣтрило! чему <,> Господине <,> насильно вѣеши? Чему мычеши Хиновьскыя стрѣлкы на своею не трудною крильцю на моея лады вои? <…> Чему <,> Господине <,> мое веселiе по ковылiю развѣя?» (С. 38). Сравнение дождевой капли со стрелой также восходит к древнерусскому памятнику: «итти дождю стрѣлами» (С. 12). А в лексеме «растекаясь», открывающей строку «Растекаясь широкой стрелой по косой скуле», начинают мерцать ассоциации со знаменитым описанием Бояна, который «аще кому хотяше пѣснь творити, то растѣкашется мыслiю по древу <…>» (С. 3). Перекличка подхвачена эпитетом дома «деревянный», напоминающим о «древе» Бояна. Но сходство с древнерусской «песнью» в плане означающих у Бродского сочетается с различием, даже противоположностью в семантике: создатель «Слова…» пишет о поэтическом парении «песнотворца» Бояна, автор стихотворения рисует печальную картину «плачущей» осени.
Строка же «И, глаза закатывая к потолку», оказываясь соотнесенной со «Словом…», воспринимается как описание поэтического «шаманства» наподобие Боянова.
«Узнаю этот ветер, налетающий на траву…» – не единственное стихотворение Бродского, содержащее аллюзии на «Слово…». Отсылка к «Слову…» («за бугром» – за границей и, соответственно, «за шеломянемъ») есть в стихотворении «Заморозки на почве и облысенье леса…»[493]493
См. об этом: Ахапкин Д. «Филологическая метафора» в поэтике Иосифа Бродского // Русская филология: Сб. научных работ молодых филологов. Тарту, 1998. Вып. 9. С. 229–231.
[Закрыть]. Присутствуют такие отсылки и в «1972 годе» (1972)[494]494
Ср.: Безносов Э. «…Одна великолепная цитата» // Мир Иосифа Бродского. Путеводитель: Сб. / Сост. Я.А. Гордин. СПб., 2003. С. 42. Помимо очевидных «враги и братия», «черпая кепкой, что шлемом суздальским»; и образа «чаши <…> в пиру Отечества» (III; 18) это сравнение «Сердце скачет, как белка, в хворосте / ребер» (III; 18), предметно указывающее на учащенное сердцебиение. В «Слове…» же, при отдаленном сходстве, напротив, речь идет о «высокой материи» – о поэтическом парении Бояна, который «растѣкашется мыслiю по древу» (С. 3); распространена версия, что это неправильное чтение вместо исконного «мысiю» – белкой. См. обзор интерпретаций и современное обоснование этого чтения в статье: Соколова Л.В. Мысль // Энциклопедия «Слова о полку Игореве». Т. 3. С. 295. Возможно, правы те исследователи (Шарыпкин Д.М. Боян в «Слове о полку Игореве» и поэзия скальдов // ТОДРЛ. Л., 1976. Т. 31; Хазагеров Г.Г. Функционирование фигур и тропов в «Слове о полку Игореве» и «Задонщине» // Филологические науки. 1990. № 3. С. 5; Николаева Т.М. «Слово о полку Игореве»: Поэтика и лингвистика текста. «Слово о полку Игореве» и пушкинские тексты. М., 1997. С. 22–23), которые считают: в зачине «Слова…» используется прием обыгрывания омонимии «мысль-мысь» и в тексте даны оба смысла; один – явлен, другой – подразумевается.
Строка «хрупая рыбу, пускай сырая» (III; 18), очевидно, восходит к так наз. сказанию о траве евшан из Галицко-Волынской летописи (под 6709 (1201) годом). Бродский мог естественно отождествить изгнанника и беглеца из родной земли хана Сырчана, о котором сообщает сказание, со своим лирическим «я». В научной и научно-популярной литературе это сказание постоянно упоминается как один из аналогов «Слова о полку Игореве». В летописном тексте прославляется Владимир Мономах: возносится похвала князю, «погубившему поганыя измаилтяны, рекомыя половци, изгнавшю Отрока (отца Кончака. – А.Р.) во обезы, за Желѣзная врата, Сърчанови же оставшю у Дону, рыбою оживъшю». – Текст цитируется по изд.: Хрестоматия по древней русской литературе XI–XVII вв. / Сост. Н.К. Гудзий. Коммент. А.М. Ранчина. М., 2004. С. 164, репринтное воспр. 7-го издания 1962 г. (Цитирую текст по хрестоматии Н.К. Гудзия, так как одно из более ранних ее изданий было, почти бесспорно, Бродскому знакомо.)
[Закрыть]. Цитируется «Слово…» и в «Эклоге 4-й (зимней)»:
Время есть мясо немой Вселенной.
Там ничего не тикает. Даже выпав
из космического аппарата,
ничего не поймаете: ни фокстрота,
ни Ярославны, хоть на Путивль настроясь.
Вас убивает на внеземной орбите
отнюдь не отсутствие кислорода,
но избыток Времени в чистом, то есть
без примеси вашей жизни, виде (III; 201).
А в «Представлении» встреча Игоря с Ярославной иронически представлена как ключевая мифологема русского национал-патриотического сознания: «У меня в душе Жар-птица и тоска по государю. / Скоро Игорь воротится насладиться Ярославной» (III; 299).
Бродский обыкновенно обращается к «Слову…», когда пишет о творчестве, о разлуке с отечеством (трактуемой как своего рода переход в иной мир), о расставании с любимой, о старении, о противостоянии не-существованию речью, Поэзией. «Слово…» для него, по-видимому, – текст, в котором заданы некие архетипы этих ситуаций и состояний. Потому что это одно из первых произведений русской словесности – словно бы «прообраз» всех последующих; и потому что «[о]бщая сюжетная схема “Слова” представляет собой последовательность событий, типичную для мифологического цикла гибели/воскресения»[495]495
Гаспаров Б.М. Поэтика «Слова о полку Игореве». М., 2000. С. 25–26. Обоснование этого утверждения см.: Там же. С. 198–201, 321–322.
[Закрыть], и обращение к «Слову…», оставаясь средством сказать на языке тысячелетней традиции о трагических ситуациях в собственной судьбе, все-таки становится и неким средством преодоления небытия и затерянности во вселенском вакууме.
Так и в стихотворении «Узнаю этот ветер, налетающий на траву…» воспоминание о «Слове…» становится средством преодоления забвения и ненапыщенным, но твердым заявлением автора о принадлежности к тысячелетней русской словесности[496]496
По мнению Ю. Левинга, непосредственным претекстом послужил не оригинальный текст «Слова…», а поэтический перевод Н.А. Заболоцкого; см.: Левинг Ю. Иосиф Бродский и Андрей Тарковский (Опыт параллельного прочтения) // Новое литературное обозрение. 2011. № 112. С. 273, примеч. 7. Однако все отмеченные автором статьи строки из перевода Н.А. Заболоцкого встречаются также и в оригинальном тексте «Слова…» – переводчик здесь очень точен. По-видимому, помимо «Слова…» у стихотворения Бродского есть и кинематографический претекст – фильм А.А. Тарковского «Андрей Рублев»; см. об этом: Там же. С. 273–287. Лев Лосев посчитал основным претекстом цикл А.А. Блока «На поле Куликовом»; см.: Лосев Лев. Примечания // Бродский И. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Л.В. Лосева. СПб., 2011. (Серия «Новая Библиотека поэта»). Т. 1. С. 615. Это не совсем так: большинство «древнерусских» образов в этом стихотворении восходят не к Блоку, а именно к «Слову о полку Игореве» либо же являются общими для древнерусского памятника и цикла «На поле Куликовом». (Блок, как известно, обильно черпал из «Слова…» и из других древнерусских произведений; ср.: Левинтон Г.А., Смирнов И.П. «На поле Куликовом» Блока и памятники Куликовского цикла // ТОДРЛ. Л., 1979. Т. 34. Куликовская битва и подъем национального самосознания. С. 72–95.)
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































