Текст книги "Перекличка Камен. Филологические этюды"
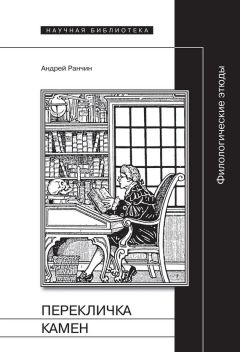
Автор книги: Андрей Ранчин
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 43 страниц)
Miscellanea
Поэзия грамматики и грамматика поэзии: из размышлений над концепцией Р.О. Якобсона
[699]699
Статья написана в соавторстве с А.А. Блокиной. Впервые: Teoria literatury w świetle jкzykoznawstwa. Toruс, 2011. Печатается с изменениями.
[Закрыть]
Известная идея Р.О. Якобсона о наделении грамматических элементов в поэтическом тексте художественной («поэтической») функцией[700]700
Наиболее известный пример, содержащий теоретическое обоснование такого подхода, – статья «Поэзия грамматики и грамматика поэзии». См.: Якобсон Р.О. Поэзия грамматики и грамматика поэзии // Poetics. Poetyka. Поэтика. Warszawa, 1961. S. 397–417.
[Закрыть] в последнее время вызвала резкую оценку в прошлом одного из наиболее известных российских структуралистов В.М. Живова, «уличившего» якобсоновский подход к литературному произведению (как и структурализм в целом) в «варварском» редукционизме и в неспособности учесть исторический параметр культуры: «Поворот к истории отнюдь не был моим индивидуальным жестом. Долго питаться такой нездоровой и непривлекательной пищей, как грамматика поэзии и поэзия грамматики и сходные по интеллектуальному варварству блюда, нормальные люди не могли»[701]701
Живов В.М. Предисловие // Живов В.М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002. С. 10.
[Закрыть].
В разборах Р.О. Якобсона по грамматике поэзии историко-литературное измерение текстов действительно не принимается во внимание, но это, очевидно, объясняется тем, что они имели прежде всего демонстрационный характер. Историко-литературный и биографический аспекты при исследовании литературы он в некоторых случаях мог прекрасно учитывать, что показывает, например, статья о статуе и скульптурном мифе у А.С. Пушкина[702]702
Якобсон Р.О. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р.О. Работы по поэтике / Вступ. ст. Вяч. Вс. Иванова; Сост. и общ. ред. М.Л. Гаспарова. М, 1987. (Серия «Языковеды мира»). C. 145–180, пер. с англ. Н.В. Перцова.
[Закрыть].
В действительности в принципе якобсоновский подход не исключает учета исторического (историко-литературного) параметра. Грамматические «фигуры» приобретают поэтическую функцию на фоне литературной традиции, нарушаемых конвенций жанра. При этом внимание к языку/коду привлекается с помощью дополнительных средств: одних грамматических «фигур», очевидно, недостаточно. Пример – стихотворение Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла…». Приведем его текст полностью:
На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой… Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит – оттого,
Что не любить оно не может.
(III–I: 158)
Стихотворение соотнесено с жанром элегии, представляя собой своеобразную модель разновидности этого жанра, утвердившуюся в так называемой поэтической школе В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова[703]703
См. об этом элегическом каноне: Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб., 1994.
[Закрыть]. Пушкинский текст открывается свернутой элегической экспозицией – упоминанием о ночи и ночном пейзаже. Ночной пейзаж – традиционный антураж русской элегии, начиная с переводного «Сельского кладбища» Жуковского или с «Мечты» К.Н. Батюшкова (уже в ее первой, ранней редакции). «Холмы», в пушкинском тексте означающие, очевидно, горы Кавказа, разумеется, не являются обязательной деталью элегического пейзажа. Но и они могут нести жанровые коннотации (ср. «холмы златые» в элегии Жуковского «Вечер» и «холмы, одетые последнею красой / Полуотцветшия природы» в «Славянке»[704]704
Жуковский В.А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1999. Т. 1. Стихотворения 1797–1814 годов / Ред.: О.Б. Лебедева, А.С. Янушкевич. С. 75; М., 2000. Т. 2. Стихотворения 1815–1852 годов / Ред.: О.Б. Лебедева и А.С. Янушкевич. С. 20.
[Закрыть]. Несомненен элегический ореол у такой пейзажной детали, как река (Арагва), рождающей ассоциации с быстротечностью времени, с его движением. Параллели – в «образцовых» элегиях Жуковского («Сельское кладбище», «Вечер», «Славянка»). Холмы и водный поток стали элегическим стереотипом (ср., например, у Е.А. Баратынского: «Заснули рощи надъ потокомъ; / Легла на холмы тишина»[705]705
Боратынский Е.А. Полн. собр. соч. и писем. М., 2002. Т. 1. Стихотворения 1818–1822 годов / Ред.: А.Р. Зарецкий, А.М. Песков, И.А. Пильщиков. С. 134, ср. с. 135. Здесь и далее стихотворения Баратынского цитируются в старой орфографии и пунктуации, сохраненной в указанном издании.
[Закрыть]).
Семантика пушкинского текста также вписывается в эту элегическую традицию. Таковы прежде всего рефлексия, раздумья и воспоминания о прошлом. Оксюморонные словосочетания («грустно и легко», «печаль <…> светла») описывают сложное, неразрывное сочетание горьких и радостных эмоций, характерное для поэзии Жуковского, в том числе для его элегий. «Унынье» у Пушкина наделено парадоксальным с точки зрения словарной семантики позитивным значением: не оно «мучит», а его «ничто не мучит, не тревожит», то есть это душевное состояние дорого лирическому «я»; само оно не тревожит душу, а хранится и оберегается. Но это слово с такой же или близкой семантикой – одно из наиболее частых в поэтическом лексиконе Жуковского. Уныние, хотя чаще как негативное чувство, стало отличительным знаком русской элегии первой четверти XIX века[706]706
Трактовка такого элегического концепта, как уныние, Пушкиным (уныние не исключает светлого настроя души и любви) противостоит семантике уныния, например, у Е.А. Баратынского в стихотворении «Уныние» (другое название: «Рассеивает грусть веселый шум пиров…»): «Одну печаль свою, унынiе одно / Способенъ чувствовать унылой!». – Боратынский Е.А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 1. С. 155.
[Закрыть]. По характеристике современника – В.К. Кюхельбекера, «[п]рочитав любую элегию Жуковского, Пушкина или Баратынского, знаешь все. Чувств у нас уже давно нет: чувство уныния и тоски поглотило все прочие»[707]707
Кюхельбекер В.К. О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие // Критика первой четверти XIX века / Сост., вступ. ст., преамбулы и примеч. М.Л. Майофис, А.Р. Курилкина. М., 2002. (Серия «Библиотека русской критики»). С. 454.
[Закрыть].
Для стихотворения «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» характерно устранение лирического «я» как грамматического субъекта действия и переживания. Это устранение совершается либо посредством безличных конструкций («Мне грустно и легко»), либо благодаря замене «я» как грамматического субъекта его эмоцией (не Я полон тобою, а «Печаль моя полна тобою») или органом, метонимически замещающим «я» и в культурной традиции ответственным за чувства (не Я горю и люблю, а «сердце вновь горит и любит»). Грамматика служит средством выражения мотива непроизвольности чувства, неподвластности любви воле «я».
Как продемонстрировала Анна Вежбицкая, безличные грамматические конструкции в русском языке сами по себе обладают семантикой неконтролируемости, непроизвольности обозначаемого действия, состояния, эмоции: «Говоря о людях, можно при этом придерживаться двух разных ориентаций: можно думать о них как об агентах, или “деятелях”, и можно – как о пассивных экспериенцерах. В русском, в отличие от многих других европейских языков, обе ориентации играют одинаково важную роль. Это, в частности, означает, что пассивно-экспериенциальный способ в русском языке имеет более широкую сферу применимости по сравнению с другими славянскими языками, еще более, нежели в немецком или французском, и значительно более широкую, чем в английском.
При экспериенциальном способе представления лицо, о котором говорится в предложении, как правило, выступает в грамматической форме дательного падежа, а предикат обычно имеет “безличную” форму среднего рода. Одним из основных семантических компонентов, связанных с таким способом представления, является отсутствие контроля: ‘не потому, что X это хочет’. <…>.
Безличная форма глагола и дательный падеж имени в предложениях, где идет речь о человеческих чувствах, тоже выражают отсутствие контроля. В русском языке есть целая категория эмоциональных слов (особого рода наречия и наречные выражения), которые могут употребляться только в синтаксических конструкциях с этими формами и которые обозначают, главным образом, пассивные неволитивные эмоции».
По мнению Анны Вежбицкой, в этом заключается одна из отличительных особенностей русского языка в сравнении, например, с английским; ведь «русский язык располагает <…> богатым арсеналом средств, дающих людям возможность говорить о своих эмоциях как о независимых от их воли и ими не контролируемых». В безличных конструкциях «субъект изображен не как активный контролер жизненных ситуаций <…> а как пассивный экспериенцер. По всей видимости, русский язык всячески поддерживает и поощряет именно такую точку зрения»[708]708
Вежбицкая Анна. Русский язык // Вежбицкая Анна. Семантические универсалии и базисные концепты. М., 2011. С. 343, 342, 345, пер. с англ. Г.Е. Крейдлина.
[Закрыть].
Но в пушкинском тексте, на наш взгляд, эта семантика грамматики актуализирована и акцентирована благодаря контрастной соотнесенности с традицией элегического жанра и, соответственно, нарушению читательских ожиданий. Русская элегия первой четверти XIX века не обязательно предполагает присутствие «я» как грамматического субъекта (его нет, к примеру, в «Сельском кладбище» Жуковского и в батюшковской «Мечте»). Однако в этих случаях грамматическое отсутствие не значимо, так как высказывания в тексте не предполагают трансформации в «Я-конструкции» и не описывают состояния лирического субъекта. Между тем в пушкинском стихотворении это возможно, по крайней мере частично (ср.: «Мне грустно» и Я грущу)[709]709
Конструкция «мне легко» не предполагает автоматической грамматической трансформации в личное предложение.
[Закрыть]. Существеннее, однако, другое. «Сельское кладбище» и «Мечта» – медитативные элегии, в то время как «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» – это любовное признание в элегическом жанре. В этой разновидности лирики в предпушкинское и пушкинское время было обязательным выражение чувств посредством высказываний, в которых «я» занимало позицию грамматического субъекта.
Пушкинское стихотворение можно соотнести с элегией Е.А. Баратынского «Разуверение». Оба текста отличаются краткостью и тяготением к поэтике фрагмента. Стихотворение Баратынского начинается с обращения к былой возлюбленной, утверждает невозможность возрождения прежней любви:
Не искушай меня без нужды
Возвратомъ нѣжности твоей:
Разочарованному чужды
Всѣ обольщенья прежнихъ дней!
Ужъ я не вѣрю увѣреньямъ,
Ужъ я не вѣрую въ любовь,
И не могу предаться вновь
Разъ изменившимъ сновидѣньямъ!
Слѣпой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнемъ слова,
И друг заботливый, больнова
Въ его дремоте не тревожь!
Я сплю, мне сладко усыпленье:
Забудь бывалыя мечты:
Въ душѣ моей одно волненье,
А не любовь пробудишь ты[710]710
Боратынский Е.А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 1. С. 236.
[Закрыть].
Пушкинский текст открывается свернутой пейзажной экспозицией в духе элегий Жуковского, однако во втором четверостишии так же, как и в «Разуверении», содержится обращение к любимой женщине («Тобой, одной тобой»), а завершается текст констатацией не зависящего от лирического «я» душевного настроения. Однако – полемически по отношению к «Разуверению» – это не глубинное равнодушие, таимое под «волненьем», а именно любовь. Желанию героя Баратынского охранить свой «сон» от «волненья» противостоит пушкинское высказывание о покое как гармоническом сочетании «унынья» и любви.
Приятель Пушкина П.А. Плетнев в статье «Письмо к графине С. И. С. о Русских поэтах» оценил эту элегию Баратынского чрезвычайно высоко, как новое открытие в эволюции, казалось бы, уже застывшего жанра: «Между тем, как мы воображали, что язык чувств уже не может у нас сделать новых опытов в своем искусстве, явился такой поэт, который разрушил нашу уверенность. Я говорю о Баратынском. В элегическом роде он идет новою, своею дорогой. Соединяя в стихах своих истину чувств с удивительною точностию мыслей, он показал опыты прямо классической поэзии. Состав его стихотворений, правильность и прелесть языка, ход мыслей и сила движений сердца выше всякой критики. Он ясен, жив и глубок. Во всем отчет составляет отличительность его стихов. Нет слова, нет оборота, нет картины, где бы вы не чувствовали ума и вдохновения. Разбирайте строго каждый его стих, следуйте за ним внимательно до конца стихотворения: и вы признаетесь, что он извлек все лучшее из своего предмета, отбросил все излишнее и не забыл ничего необходимого. Но сколько разнообразия во всех его самых легких произведениях! Игривое и важное, глубокое и легкое, истинное и воображаемое: все он постигнул и выразил. Рассмотрите его элегию: Разуверение»[711]711
Северные Цветы на 1825 год, собранные Бароном Дельвигом. Изданы Иваном Олениным. СПб., 1825. С. 65–67.
[Закрыть].
Эту оценку он повторил в письме Пушкину от 7 февраля 1825 года: «Мне хотелось сказать, что до Баратынского Батюшков и Жуковский, особенно ты, показали едва ли не все лучшие элегические формы, так, что каждый новый поэт должен бы непременно в этом роде сделаться чьим-нибудь подражателем, а Баратынский выплыл из этой опасной реки – и вот, что особенно меня удивляет в нем» (XIII; 140).
Пушкину оценка Баратынского в плетневской статье показалась, очевидно, чрезмерно восторженной (ср. реплику в письме брату Льву Сергеевичу, конец января – первая половина февраля 1825 года: «Плетнев неосторожным усердием повредил Баратынскому» [XIII; 142])[712]712
О том, что это высказывание подразумевает именно статью Плетнева, см., например, комментарий Б.Л. Модзалевского в издании: Пушкин А.С. Письма, 1815–1825 / Под ред. и с примеч. Б.Л. Модзалевского. М.; Л., 1926. Т. 1. С. 402.
[Закрыть]. Не исключено, что «На холмах Грузии…» создавалось как своего рода запоздалый ответ автору «Разуверения», как опыт в соревновании, посвященном обновлению элегии.
Безличные конструкции в сочинениях, относящихся к другим жанровым традициям, очевидно, теряют в своей выразительности и ощутимости, как это, например, происходит с репликой Фауста «Мне скучно, бес» из пушкинской же «Сцены из Фауста» (II; 434). Слабее, чем в «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», акцентированы безличные конструкции в таких случаях, как «то чудится тебе» («Подруга дней моих суровых…» [III–I; 33]) или «Мне не спится» («Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» [III–I; 250]). Первая из двух конструкций в отличие от «Мне грустно» не предполагает возможности автоматической трансформации в личное предложение. Во втором случае безличное предложение включено в контекст, в котором ярко представлено именно деятельное начало, выраженное в личных формах: «Я понять тебя хочу, / Смысла я в тебе ищу…» (III–I; 250).
О глубокой осознанности пушкинской поэтики грамматики свидетельствует, конечно, финал стихотворения – сентенция о неподвластности любви воле и разуму: «И сердце вновь горит и любит – оттого, / Что не любить оно не может». Семантика, латентно выраженная в грамматике, выведена в светлое поле сознания и закреплена в виде закона бытия.
На намеренный характер этой поэтики грамматики указывают и черновики стихотворения. Его автор отказался от личных «Я-конструкций», присутствовавших в черновых рукописях. В Первой редакции строка «Тобой, одной тобой – унынья моего» имела первоначальный вариант:
Я снова юн и твой – и сердца моего
В ней также были стихи:
Я твой попрежнему тебя люблю я вновь
И без надежд и без желаний.
Их отброшенные варианты также содержали «Я-конструкции»:
а. Люблю, люблю тебя
б. что прежде, без надежд
в. [как было] без надежд
г. Как было некогда, я вновь тебя люблю.
Кроме того, были отброшены варианты с личными конструкциями е, ж и з:
е. я люблю
ж. Я снова ю<н>
з. Я вновь т<ебя люблю> <?>
Личную форму имеет глагол-сказуемое и в записи, являющейся вероятным наброском стихотворения:
И чувствую душа в сей <нрзб.> час
Твоей любви тебя достойна.
Личная конструкция была и в тексте Второй черновой редакции:
Я твой попрежнему – тебя люблю я вновь
И без надежд, и без желаний
Как пламень жертвенный чиста моя любовь
И нежность девственных мечтаний.
(III–II; 723–724)
Таким образом, грамматика поэзии актуализируется на том литературном фоне, исследование которого является прерогативой истории литературы, и категоричное противопоставление якобсоновской концепции и историко-культурного подхода обнаруживает свою спорность[713]713
Эти наблюдения, высказанные в первоначальной версии настоящее статьи, развивает А.К. Жолковский: Жолковский А.К. «На холмах Грузии»: восемь строк о свойствах страсти и бесстрастия // Звезда. 2013. № 4. Сердечно признателен А.К. Жолковскому за возможность ознакомиться с его работой до публикации.
[Закрыть].
ТАСС уполномочен заявить
[714]714
Печатается впервые.
[Закрыть]
Торквато Тассо, как известно, к числу любимых пушкинских поэтов не принадлежит, среди итальянских ренессансных стихотворцев Пушкин предпочитал автора «Неистового Роланда» сочинителю «Освобожденного Иерусалима». Впрочем, не только комплиментарные упоминания Тассо/Тасса, но и аллюзии на его знаменитую поэму у создателя «Руслана и Людмилы» весьма многочисленны[715]715
О теме «Пушкин и Тассо» см. подрбнее в статьях: Пильщиков И.А. Пушкин и Тассо: (Несколько замечаний) // Страницы истории русской литературы: Сб. ст.: К 70-летию проф. В.И. Коровина. М., 2002. С. 133–141; Дёмин А.О. Тассо Торквато // Пушкин: Исследования и материалы. СПб., 2004. Т. XVIII/XIX: Пушкин и мировая литература. Материалы к «Пушкинской энциклопедии». С. 325–328 (здесь же – библиография работ).
[Закрыть]. Неоднократно отмечался и тассовский след в пушкинском стихотворении «Осень», написанном октавами и содержащем перифрастическое именование красавиц-чаровниц «Армиды младые» – по имени героини – волшебницы и обольстительницы из поэмы «Освобожденный Иерусалим».
Но как будто бы в пушкинском отрывке имеется и еще одна перекличка с этой поэмой. Объясняя свою странную любовь к осеннему времени года, автор признается в пятой строфе:
Как это объяснить? Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева.
Улыбка на устах увянувших видна;
Могильной пропасти она не слышит зева;
Играет на лице еще багровый цвет.
Она жива еще сегодня, завтра нет (III–I; 319–320).
Это признание созвучно равернутому сравнению из XIII песни «Освобожденного Иерусалима» и вместе с тем контрастно по отношению к нему. Вопрос о том, по каким источникам Пушкин знакомился с текстом Тассо или перечитывал его, в данном случае не столь существен, поскольку в «Осени» дается парафраза, причем полемическая, а не точная цитата. В библиотеке Пушкина имелись два позднее утраченных издания (1828 и 1836 годов) поэмы Тассо на итальянском языке[716]716
Библиотека А. С. Пушкина: (Библиогр. описание) [Сост. Б.Л. Модзалевский]. СПб., 1910 (Отд. отт. из изд. «Пушкин и его современники», вып. IX–X). Репринтное изд.: М., 1988. С. 43, 46, № 155, 171.
[Закрыть]. Однако учитывая, что итальянским языком автор «Осени» владел не свободно, предпочительнее предположить, что «Освобожденный Иерусалим» он прочитал по-французски. Французских переводов поэмы к этому времени было несколько[717]717
О переводах «Освобожденного Иерусалима» см.: Пильщиков И.А. Из истории русско-итальянских литературных связей (Батюшков и Тассо) // Philologica. 1997. Т. 4. № 8/10. С. 25.
[Закрыть]. В кругу друзей и добрых знакомых поэта пользовался популярностью второй из двух переводов, выполненных П.-М. Баур-Лормианом (P.-M. Baour-Lormian); первый, изданный в 1796 году, известности не приобрел – в отличие от второго, опубликованного в 1819 году. В письме от 22 ноября 1819 года князь П.А. Вяземский сообщал А. И. Тургеневу: «Я теперь читал “Освобожденный Ерусалим” Baour-Lormian. Весьма хороший перевод <…>»[718]718
Остафьевский архив князей Вяземских / Под ред. и с примеч. В.И. Саитова. СПб., 1899. Т. 1: Переписка князя П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым: 1812–1819. С. 359. На эту цитату обратил внимание И.А. Пильщиков; см.: Пильщиков И.А. Из истории русско-итальянских литературных связей. С. 51, примеч. 64.
[Закрыть].
В редакции первода Баур-Лормиана издания 1819 года созвучный пушкинскому фрагмент из XIII песни (деления на строфы в переводе нет) выглядит так:
Telle aux voeux de l’amour par la douleur ravie,
Une jeune beauté ne tient plus à la vie.
Mais si le mal secret qui dévore son sein,
Si la fièvre cruelle au retour assassin,
Cèdent aux soins de l’art, ou respectent son âge,
D‘une gaоté folâtre elle reprend l’usage.
Recouvre de son teint l’incarnat vif et pur,
Lève ses yeux charmans ou luit un mol azur,
Et, déjà reprenant son voile et sa guirlande,
Aux autels de l’amourles dépose en offrande[719]719
[Tasse Т.], La Jérusalem délivrée, Traduite en vers français par P. L.M. Baour-Lormian, 2e edition. Paris, 1819. Т. II. P. 394–395.
[Закрыть].
В подстрочном переводе:
Так, похищенная страданием у обетов любви,
Юная красавица более не дорожит своей жизнью.
Но если тайная боль, которая снедает ей грудь,
Если убийственно возобновляющаяся жестокая лихорадка
Отступают перед хитростями искусства или из уваажения к ее возрасту,
То она [красавица] вновь резвится и веселится.
Она вновь обретает живой и невинный румянец на лице,
Она поднимает очаровательные глаза, в которых сияет нежная лазурь,
И вот уже, снова взяв свою вуаль [свое покрывало] и свой венок из цветов,
Она приносит их в дар [в жертву] на алтари любви[720]720
Выражаю сердечную признательность М.А. Абрамовой за помощь в переводе.
[Закрыть].
В тексте Тассо представлена классическая, «банальная» антитеза: юная красота с ее радостями – смерть; красавица радуется и румянец вновь покрывает ее щеки, когда отступает болезнь. У Пушкина логика образа парадоксальная – индивидуальная и «преддекадентская»: смерть и красота соседствуют, румянец играет на ланитах больной, а не выздоровевшей девы. Мало того, он может быть вызван не только жизненными силами, но и самой болезнью (ср. устойчивое выражение «чахоточный румянец»[721]721
Правда, в художественной литературе это выражение распространяется, кажется, не в пушкинскую эпоху, а позднее (ср. «чахоточный румянец» Ипполита в «Идиоте» Ф.М. Достоевского, ч. 3, гл. V, звонаря в «Слепом музыканте» В.Г. Короленко). Не исключено, что само выражение восходит к пушкинской «Осени».
[Закрыть]). Тассо любуется красотой, противопоставленной смерти, Пушкин – умирающей красотой.
Несомненно, эту перекличку нельзя считать цитатой – семантика исходного текста в ней «перевернута»; возможно, ее не следует называть даже аллюзией: тассовско-бауровский претекст выступает всего лишь как стимул для поэтической мысли автора «Осени». Скорее это проявление взаимодействия двух текстов в общем «резонантном пространстве», как назвал этот феномен В.Н. Топоров[722]722
Топоров В.Н. О «резонантном» пространстве литературы (несколько замечаний) // Literary Tradition and Practice in Russian Culture. Papers from the International Conference on the Occasion of the Seventieth Birthday of Yury Mikhailovich Lotman. Russian Culture: Structure and Tradition, 2–5 July 1992. Keele University, Rodopi, 1993. P. 19.
[Закрыть]. Относится ли эта перекличка к области литературного генезиса или же она функциональна и автор рассчитывал на ее узнавание – вопрос, кажется, праздный и неуместный. «Необязательность» переклички (претекст лишь слабо мерцает в новом тексте) соответствует одной из основных тем «Осени» – спонтанности, непредсказуемости, прихотливой иррациональности поэтического воображения: поэт, как говорится в X и XI строфах, – всего лишь медиум в этой высокой игре. Вместе с тем, если учитывать ассоциации между строфикой Пушкина и Тассо («торкватовы октавы») и имя-намек «Армиды», нельзя исключать: изощренный и памятливый читатель приглашается автором к участию в своеобразной литературной шараде – шараде на узнавание/разгадывание перекличек.
«Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова: семинарий
[723]723
Впервые: Литература. 1999. № 25. Печатается с дополнениями.
[Закрыть]
Тайна Печорина
Существуют бесспорные истины, аксиомы: «Волга впадает в Каспийское море», «целое больше части», «вода кипит при температуре 100 градусов по Цельсию»… Истины такого рода есть и в литературной науке и особенно в школьном преподавании словесности; одна из них – утверждение, что центральный персонаж лермонтовского романа «Герой нашего времени» Григорий Александрович Печорин – незаурядная, неординарная натура, сильная личность, характер страдающий, глубоко разочарованный жизнью. Как принято считать, эта неординарность Печорина подчеркнута сравнением с Грушницким – его сниженным, пародийным двойником. Это мнение о Печорине восходит к статье В.Г. Белинского о романе Лермонтова. Высказано оно было Белинским с резкой настойчивостью и тоном, не допускающим сомнений.
Мнение о Грушницком как «кривом зеркале» Печорина столь же распространено, как и восходящее к статье Белинского утверждение о незаурядности и глубине печоринского характера. «Эта противоположность Печорина и Грушницкого, раскрытая Лермонтовым со всей полнотой психологической и исторической правды, доведена им до такой обобщающей показательности, что дает право в контрасте между Печориным и Грушницким видеть противоположность личности и личины, индивидуальности и подражательности, свободной мысли и следования трафаретам», – писал, например, С.Н.Дурылин в своей книге «“Герой нашего времени” М.Ю. Лермонтова»[724]724
Дурылин С.Н. «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова. М.; 1940. С. 120.
[Закрыть].
Все доказательства в пользу этого мнения уже давно высказаны, и в убедительности им трудно отказать. Грушницкий демонстрирует свое презрение к «чинам и званиям», но будучи произведен в офицеры, спешит, надев новый мундир, показаться в обществе. О наигранности поведения Грушницкого говорится еще в первой печоринской дневниковой записи, открывающей повесть «Княжна Мери».
Так свидетельствует о Грушницком главный герой. Но не менее красноречиво об этом персонаже говорят его собственные поступки. И прежде всего, конечно, участие в подлой интриге, согласие предложить Печорину на дуэли незаряженный пистолет – собственно, согласие на циничное убийство соперника.
Итак, все ясно, все решено? Многие годы казалось так. Но десять лет назад критик и литературовед А.М. Марченко опубликовала статью «Печорин: знакомый и незнакомый», в которой смело отвергла доселе неоспоримые оценки Печорина и Грушницкого[725]725
Статья А.М. Марченко напечатана в сборнике «“Столетья не сотрут…”: Русские классики и их читатели» (М., 1989. С. 161–222); далее при цитировании название статьи и сборника я не указываю, приводя только страницы этой книги.
[Закрыть].
Печорин ничем не лучше Грушницкого, его разочарование наиграно, а глубина характера иллюзорна, утверждает А.М. Марченко. Ее аргументы таковы.
Во-первых, это свидетельства чернового рукописного текста романа. Здесь Печорин назван «человеком толпы»; в рукописи предисловия к роману (опубликованного во втором отдельном издании 1841 г.) более настойчиво, чем в печатном тексте, подчеркивалось несходство автора и центрального персонажа и иронически упоминалось о некоем журнале, смешавшем «имя сочинителя с именем героя его повести». А.М. Марченко полагает, что Лермонтов вычеркнул эти слова, потому что они метили не только в таких недоброжелательных критиков, как С.О. Бурачок, но и в восторженно принявшего роман Белинского.
Во-вторых, это новая интерпретация ряда фрагментов окончательного, канонического текста «Героя нашего времени». Так, А.М. Марченко замечает, что в описании внешности Печорина, принадлежащем повествователю (обычно именуемому исследователями «странствующим офицером») и содержащемся в повести «Максим Максимыч», подчеркнуты «ослепительно чистое белье», отсутствие «играющего воображения» в глазах и женственная слабость. Чистое белье героя, по мнению исследовательницы, говорит о его франтовстве, столь чуждом самому Лермонтову, который, по воспоминаниям современников, одевался на Кавказе подчеркнуто небрежно. Глаза Печорина свидетельствуют, что ему чуждо поэтическое, творческое начало, и в этом отношении он также противопоставлен сочинителю романа, утверждает А.М. Марченко. Наконец, женственность Печорина, доказывает автор статьи, свидетельствует об избалованности, изнеженности, некоей инфантильности «героя нашего времени».
Печорин в повести «Княжна Мери» упоминает некую «историю», из-за которой он был переведен на Кавказ. Обыкновенно утверждалось, что Лермонтов подразумевал причастность своего центрального персонажа к каким-то событиям, имевшим политический смысл (при этом судьба Печорина вольно или невольно уподоблялась судьбе самого автора). Но А.М. Марченко напоминает, что в черновике «Княжны Мери» эта история была названа прямо – «дуэль» и что в окончательном тексте повести приятель главного героя доктор Вернер, передавая слова о нем княгини Лиговской, называет темную «историю» печоринского прошлого «похождениями». Уверенность матери Мери в быстрой перемене судьбы Печорина к лучшему окончательно убеждает А.М. Марченко в том, что Лермонтов имеет в виду некий неблаговидный, аморальный поступок персонажа: серьезные политические «истории» правительство Николая I так легко не прощало, напоминает исследовательница. Печорин же вскоре покидает Кавказ и возвращается в Россию, а спустя время беспрепятственно получает разрешение на путешествие за границу, в Персию.
А.М. Марченко пишет о том, что Печорин явно проигрывает в сравнении и с прямодушным и добросердечным Максимом Максимычем, и с внимательным и пытливым путешественником – повествователем, наделенным литературным даром. Подробно автор статьи рассказывает о бесцеремонном и жестоком вторжении Печорина в судьбу несчастной Бэлы, о разыгрывании им «колониального романа»: «Как хищник, и притом коварный, ведет он себя с Бэлой: расплачивается за нее с Азаматом не собственным, а чужим конем!» (с. 202). Сам же Лермонтов, хотя и участвовал в Кавказской войне, относился к горцам с уважением и симпатией. Напоминает исследовательница и о признании героя, что он испытал хорошо знакомое чувство – зависть, наблюдая участие и внимание княжны Мери к Грушницкому.
Особенное внимание А.М. Марченко уделяет истолкованию свидетельства, что и Печорин, и Грушницкий служили на Правом фланге Кавказской армии, куда обыкновенно стремились ловцы званий и наград. Подлинные же «труженики войны» (а среди них и сам Лермонтов) находились на Левом фланге. Сближая, а не противопоставляя Печорина и Грушницкого, А.М. Марченко обращается к роману «Проделки на Кавказе», опубликованному в 1844 году под псевдонимом Е. Хамар-Дабанов (вероятный автор этого произведения – кавказская знакомая Лермонтова генеральша Е.П. Лачинова); этот роман содержит явные переклички с «Героем нашего времени». В «Проделках на Кавказе» рассказывается о пустоватом малом Николаше, портрет которого напоминает описание внешности Печорина, а также сообщается о… дальнейшей судьбе Грушницкого, который, оказывается, не был убит: дуэль с Печориным была предотвращена комендантом. Печорин, говорит Грушницкий из «Проделок на Кавказе», «как герой нашего времени, <…> должен быть и лгун и хвастун, поэтому-то он и поместил в своих записках поединок, которого не было» (цитируется по статье А.М. Марченко, с. 200).
Но как же быть с язвительной характеристикой, которая дается Грушницкому в «Княжне Мери»? Как быть с действительно подлой интригой Грушницкого и драгунского капитана против Печорина? А.М. Марченко отмечает, что «Княжна Мери» – самая «литературная» повесть в «Герое нашего времени», ее сюжет состоит из набора традиционных мотивов и эпизодов – здесь и подслушивание и подглядывание за центральным персонажем, и адюльтер, и ночное свидание, и связанные шали, по которым герой спускается из окна, и кровавая дуэль (А.М. Марченко сопоставляет «Княжну Мери» со «светской повестью», уместнее было бы сравнить ее прежде всего с романом приключений). Уж не сочинил ли Печорин все это, спрашивает исследовательница, напоминая о свидетельстве повествователя-издателя, что тексты из «Журнала» Печорина носят следы литературной обработки и, может быть, приготовлялись для печати. Затем автор статьи добавляет важные соображения: «Конечно, Грушницкий смешон, а потом и жалок, да и драгунский капитан отвратителен в своем наглом плебействе. Но как-то слишком уж отвратителен – карикатурно! И где гарантия, что и Максим Максимыч не оказался бы похожим на этого пошлого армейца, если бы нам его представил иной офицер – не тот, что вез с собой записки о Грузии (то есть повествователь, которому принадлежит обрамляющий рассказ в повести «Бэла», повесть «Максим Максимыч» и предисловие к «Журналу» Печорина. – А.Р.), а тот, что, участвуя в трагической для обеих сторон войне и тоже ведя Журнал, заносит на его страницы лишь то, что касается его собственной персоны» (с. 198–199).
Конечно, А.М. Марченко предвидит возражения в свой адрес, но не выказывает особенного желания защититься контраргументами. За одним исключением: следуя аргументам, высказанным Б.Т. Удодовым, она доказывает, что не только «Тамань» (как это принято считать), но и «Фаталист» создавались как самостоятельные произведения, и лишь позднее, включив их в состав «Героя нашего времени», Лермонтов отождествил их центрального персонажа с Печориным. Глубина и серьезность философских вопросов, которые задает сам себе Печорин в «Фаталисте», явно диссонируют с создаваемым А.М. Марченко образом Печорина – светского хлыща и жуира.
Итак, попробуем разобраться в рассуждениях исследовательницы, разберем возможные «за» и «против».
Свидетельства чернового текста романа. Строго говоря, текст черновика важен для исследования творческой истории произведения, но на нем нельзя основываться при истолковании окончательного, итогового текста: ведь замысел автора порой радикально меняется от черновика к печатной редакции. Могут серьезно измениться и характеристики персонажей. Но слова из черновика повести «Максим Максимыч»: «в этом отношении Печорин принадлежал к толпе» – имеют совсем не тот смысл, какой в них вкладывает А.М. Марченко: повествователь всего лишь подчеркивает, что он боролся с «природными склонностями», но не победил их и потому «он не стал ни злодеем, ни святым».
Истолкование окончательного текста. Начнем с анализа портрета. Щепетильность Печорина в отношении одежды, некоторое франтовство несомненны и бесспорно сближают его с Грушницким. Но франтовство это – особенного рода. Грушницкий сначала разыгрывает роль человека, безразличного к чинам и званиям, «драпируясь» в толстую солдатскую шинель. Но затем он, получив офицерский чин, меняет драпировку, рядясь в новенький мундир. В печоринской же одежде выражены одновременно два противоположных стремления. С одной стороны, – любовь к изысканному платью, щегольство («бархатный сертучок его, застегнутый только на две нижние пуговицы, позволял разглядеть ослепительно чистое белье, изобличавшее привычки порядочного человека»). С другой же стороны, – пренебрежение внешним видом одежды, безразличие к ней («запачканные перчатки»). Одежда Печорина, если угодно, столь же «противоречива», как и черты характера, о которых говорят лицо, телосложение и манеры персонажа. Но такая деталь, как расстегнутые верхние пуговицы «сертучка», особенно важна. Печорин подчеркнуто демонстрирует чистоту и изысканность собственного белья, а это значит, что рисовка и позерство, обнаруживаемые Грушницким, в какой-то степени не чужды и ему.
Что же до печоринской женственной изнеженности, то А.М. Марченко как будто забыла очевидное: эта женственность (примеры которой – маленькая рука с худыми, очень тонкими пальцами, «нервическая слабость» тела, «женская нежность» кожи) сочетается с физической силой: «стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни и перемены климатов, не побежденное ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными <…>». Но и это свидетельство физической силы Печорина в свой черед двусмысленно, внутренне противоречиво: выражение «стройный, тонкий стан» традиционно в современной Лермонтову литературе применяется в описаниях женской, а не мужской внешности. Да и столь ли крепок и привычен к «переменам климатов» и к «трудностям кочевой жизни» Печорин на самом деле? Ведь ему вскоре суждено умереть, «возвращаясь из Персии»!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































