Текст книги "Ивановна, или Девица из Москвы"
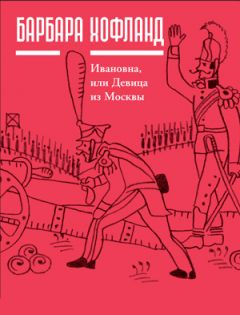
Автор книги: Барбара Хофланд
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Я взглянула ему в лицо. Никогда не забыть мне того жуткого выражения, что я увидела в тот момент. В нем смешались все самые омерзительные страсти, и Шарльмон явно радовался, что я трепещу пред ним. Беспокоясь все-таки, как бы ему не утерять свою напуганную жертву, он стал настаивать, чтобы я допила ликер, говоря: «Для этого есть повод, мадемуазель Ивановна, уверяю вас».
Неужели это был Шарльмон? Тот добрый друг, которого послал мне Ментижиков, утешитель в моих несчастиях, мой истинный благодетель? О Небеса! Как же затрепетала моя душа, когда узрела я беса в том, в ком искала ангела! Из всех несчастий, известных человеческому сердцу, быть обманутым тем, кому доверял, – определенно самое ужасное. Каково мне было осознать в тот момент, не только то, что я доверилась негодяю, но и что полностью оказалась в его власти! Эта ужасная мысль парализовала мой разум, я снова пала духом, но его слова заставили меня очнуться.
«Мне известно, мадемуазель, что в этой комнате хранятся сокровища вашего отца, и я шел сюда не для того, чтобы забрать аптечку, а потому что надеялся на результат, которого я так долго жаждал, но которого не мог добиться вплоть до этой счастливой ночи. Я хотел привести вас сюда и здесь склонить вас проявить больше чуткости к тому, кого вы отвергли. Короче говоря, мадемуазель, я прошу вас немедленно достать драгоценности и монеты, которые хранятся в этой комнате. А затем поспешить уйти со сцены, которая, несомненно, ненавистна вам, и уехать в мою, более счастливую, страну, где ваши красота и таланты найдут почтение, которого они безусловно заслуживают, и где в объятьях обожающего вас любовника вы забудете о страданиях вашей юности».
«Никогда, никогда!» – воскликнула я с той горячностью, которая тут же переменила притворный тон речей Шарльмона, и с выражением деланого спокойствия он произнес:
«Вы, Ивановна, называли себя благодарной. Если не можете ответить мне любовью, то, по крайней мере, отдайте мне то, что можете отдать. Знайте, ради вас я оставил место службы, и теперь я конченый человек. Я не смогу уже ни восстановить своего положения в обществе, ни вернуться на родину. И вы отказываете нищему и бездомному в средствах к существованию, которыми владеете в изобилии? И к изгнанию и ужасам бесчестья добавите страдания нищеты?
И поступите так с человеком, который буквально кормит вас и тех, кто вам дорог, своим хлебом? у которого…»
«Ах! – вскричала я. – Не обвиняйте меня в неблагодарности, мое сердце не выдержит этого! Возьмите этот крест, Шарльмон, это все, чем я нынче владею. Но будьте уверены, я расплачусь с вами, поскольку моя семья все еще очень влиятельна и постарается сделать для вас все возможное. Какова бы ни была судьба моего брата, его благородная душа будет неутомимо способствовать вашему благополучию, если он выживет, да Ульрика и одна сможет…»
«Это все пустые слова, Ивановна, у вас есть другие драгоценности, кроме этой, и я настаиваю, чтобы вы открыли некоторые из этих таинственных дверей».
Я возразила, что понятия не имею ни о каких драгоценностях, спрятанных во дворце; и не владею ничем ценным, кроме того, что было мне подарено, того, что преподнес мне Фредерик в качестве свадебного подарка, и с ним я ни за что бы не рассталась, если бы не надо было спасать жизнь другу. И я подтвердила это торжественной клятвой.
Мерзкий, гнусный негодяй! Стоило мне, поклявшейся пред Небесами, подняться с колен, как он обхватил меня руками и, осыпая меня бранью, заявил, что, раз я отдала ему свадебный подарок Фредерика, то он должен заполучить и невесту.
Я рыдала, я умоляла, я снова пала на колени. Мои слезы высмеивались, над моими молитвами глумились. В те минуты я была благодарна его презрению, ибо оно возбудило во мне негодование и придало сил для борьбы. И тут мой кинжал вдавился мне в бок – никогда не забуду, какую радость доставила мне эта боль. Но, о Ульрика! – как описать тебе возбуждение, которое вызвало во мне дрожь в тот момент и придало силу моей руке! Поверишь ли ты своей Ивановне, если скажет она тебе, что в одну секунду – молниеносно – она высвободила руку, вытащила кинжал и одним сильным ударом повергла чудовище бездыханным к своим ногам!
Одним, я сказала? О! Это действительно был один один-единственный удар! Он, несомненно, пронзил его сердце. Если бы десять тысяч жизней, десять тысяч миров зависели от его повторения, все погибли бы! Мгновенно холод и ужасное оцепенение охватили меня, и кровь, казалось, застыла в жилах. Помню, как только он упал, я издала жуткий крик, но после этого замолчала, как молчал и тот, кого я приговорила к тишине гробницы.
Когда я размышляю об этой ужасной сцене, то теряюсь от изумления и неспособности что бы то ни было объяснить. Мне и сейчас больно, и всегда будет больно думать о том, что я стала орудием, отправившим на Высший Суд не готовую к нему душу! Хотя прекрасно осознаю, что не только полностью оправдана в том, что совершила в целях самообороны, но и должна быть благодарна за то, что смогла спасти себя от участи более печальной, чем смерть. И когда я думаю о собственной слабости, вызванной множеством предшествующих страданий, о нервной дрожи при входе в ту роковую комнату, где была убита наша матушка, о том жестоком потрясении, которое я пережила, обнаружив, что меня предали, когда сравнивала себя – слабую хрупкую девушку – с испытанным в боях воином в расцвете сил, то с удивлением оглядываюсь на происшедшее и говорю себе: «Наверное, то было Божье деяние, и сие для нас непостижимо!»
И как раз в эту мрачную минуту моих злоключений, Ульрика, сэр Эдвард Инглби и его слуга находят меня, так как они услышали мой крик и решили обыскать дворец. Мои мысли относительно их появления все еще весьма неотчетливы, но я хорошо помню, что сначала приняла их за врагов. А поскольку сердце мое было совершенно глухо к любому заверению в дружбе со стороны мужчин, то, не представь мне баронет твое письмо в качестве рекомендации, я, несмотря на любые беды, которые могли затем последовать, не позволила бы ему помогать мне, поскольку доверие, однажды обманутое, трудно восстановить. И в то время я была в таком состоянии, что относилась с подозрением ко всем персонам мужского пола, особенно к иностранцам. Но твое письмо уняло мои опасения, а мои нужды так быстро заставили меня положиться на гуманность сэра Эдварда, что запас моей твердости полностью исчерпался. И мне стало так хорошо и легко с ним, как только может или должно быть женщине в подобной ситуации. Горе закрывает сердца, как и подозрительность и, увы! то и другое, должно будет окутывать меня долгие годы. Я бы сказала, до конца моих дней, но говорят, что время многое смягчает и даже мой разум сможет выбраться из обступившей его темноты.
Более привлекательный на вид, чем мой достойный, но ничем не выдающийся Ментижиков, менее обаятельный, чем умевший добиться расположения, но ничего не стоящий Шарльмон, этот англичанин и в самом деле заслуживает того, чтобы называться другом, благодаря не только его достойному сердцу, но и свойствам ума, и сходству наших характеров, без чего друг становится либо опекуном, либо просто знакомым. Он человек великодушный, мужественный, храбрый и участливый, хорошего происхождения, скромный и образованный. В его облике есть некая меланхолия, а в способе изъясняться – мягкость, которая особенно приятна мне, потому что, я думаю, диктуется она скорее сочувствием, нежели характером, однако живость в его глазах и временами в манерах являет совсем другой темперамент.
У нас есть все основания надеяться, что завтра нам сменят лошадей. Если же нет, то я и правда, Ульрика, думаю, что отправлюсь в Петербург пешком, поскольку бедной Элизабет много лучше. После лишений, какие я перенесла, это уже пустяки. И я не оставалась бы так долго вдалеке от твоих объятий, моя любимая сестра, если бы не командовал мною этот отважный рыцарь, который, когда бы я что ни предлагала в этом роде, уверяет меня, что следует распоряжениям графини предохранять меня от любых усилий, которые могли бы мне навредить. Ох, сестра моя, друг мой, мой утешитель! Я знаю, как горячо ты любишь меня, но ты даже не представляешь, с каким волнением я спешу к тебе и как страстно желаю прижать тебя к своему сердцу! Вглядываться в черты маменьки на твоем лице и слышать папеньку в твоем голосе! изливать жалобы овдовевшей влюбленной в твое сострадающее ухо и рассказывать, сколько добродетелей украшало сердце моего Фредерика! И, увы, могу ли я безрассудно не выяснять, украшают ли ныне? Как невыносимо состояние неопределенности! И все-таки неопределенность – чуть ли не единственное благо, оставленное твоей по-прежнему находящейся в отчаянии
Ивановны.
Письмо III
Барон Сколенберг графине Федерович
29 нояб.
Мадам,
Император повелел мне сообщить вам, что, к большому сожалению Его Величества, получено известие о том, что в последней успешной вылазке граф Федерович был ранен столь жестоко, что приходится говорить о нависшей над ним угрозе для его жизни. Если вы пожелаете навестить графа, мне приказано немедленно снабдить вас всем, что может ускорить ваш приезд. При сем остаюсь
Ваш Сколенберг.
Письмо IV
Сэр Эдвард Инглби
достопочт. Чарльзу Слингсби
Петербург, 4 дек.
Поздравьте меня, дорогой Слингсби, с благополучным возвращением на живую землю! Еще более поздравьте меня с тем, что я столь же благополучно сопроводил сюда ярчайший бриллиант, которым только может похвастаться Россия! Но, увы! несчастья преследуют эту восхитительную жертву, и разочарование губит ее излишне оптимистичные и самые естественные надежды.
Наше путешествие было необычно долгим в связи с тем, что всех лошадей забрали на службу правительству, так что поездка в столицу оказалась весьма затруднительной. Мисс Ивановна переносила наши бесконечные неприятности с безмятежным спокойствием, что говорит как о ее природном самообладании, так и о благоприобретенной терпеливости. Но по мере приближения к цели нашего странствия всё более очевидным становилось ее желание прильнуть своей утомленной головой к нежной груди своей сестры, ставшей теперь для Ивановны целым миром.
Я ожидал испытать необычайное удовольствие от того, что стану свидетелем встречи этих обаятельных женщин после перенесенных ими жестоких испытаний. Посудите, каково было наше общее разочарование – а на самом деле просто горе великое, – когда нам сообщили, что именно в день нашего прибытия графиня в сильном расстройстве чувств вынуждена была отправиться в Моинитцу, поскольку невдалеке от этого города ее муж был жестоко и, как опасаются, смертельно, ранен.
Бедная Ивановна! Сердце мое истекало кровью за тебя, уверен, никогда еще ни один человек не выказывал большего благородства души, большей сердечной доброты, смиренности духа, чем ты в этот трудный момент! И не думая роптать по поводу своего собственного разочарования или сетовать на прибавление еще одного горя к уже пережитому, она лишь воскликнула: «О! моя бедная Ульрика! Почему я не появилась здесь раньше, тогда бы я смогла сопровождать тебя и разделить с тобой это горькое бремя».
Я старался утешить ее, и она принимала мои утешения, но это приносило облегчение скорее мне, нежели ей. Я видел, как страдает ее сердце от избытка тяжелых впечатлений. Ей казалось, будто она обречена на мучения и все стрелы из колчана несчастий направлены в ее беззащитную грудь. Никогда не забыть мне мертвенной смиренности ее взгляда, исполненного печали, но и кротости, этот взгляд укротил бы и разъяренного тигра – не удивительно, что я от него растаял, как баба. Да, Чарльз, могу сказать не краснея, что, глядя на нее, я заливался слезами от избытка эмоций!
Поступая соответственно свойствам своего характера, Ивановна вернула себя к жизни, чтобы подбодрить меня, чтобы убедить меня в том, что она в состоянии выдержать все, что ниспошлют ей Небеса. И как мило она благодарила меня за мою заботу о ней! И с каким великодушием уверяла меня, что дружба моя дорога ее сердцу и ныне являет собою источник утешения! Она даже настоятельно просила меня отвлечься и пыталась вернуться к обстоятельствам нашего путешествия, поскольку это могло увести нас от размышлений, к которым мы оказались не готовы. О, Чарльз, именно в такие минуты, как эти, женщина становится дороже всего мужчине и больше всего достойна уважения! Именно тогда она для него истинная подруга. Избавляясь от шипов, которыми усеян мир скорби, мужчина находит в нежности такой женщины бальзам, исцеляющий от забот, в ее терпеливости – стимул для его стойкости. Но насколько выше он ценит ее добродетели, когда знает степень ее усилий, прилагаемых ради него, и видит улыбку сочувствия на ее губах, когда знает, что ее бедное сердце готово разорваться от боли за него!
Пока великодушная Ивановна переживала свои горести, в комнату вошла служанка с прелестным младенцем на руках, мальчик тут же потянул свои крошечные ручки к Ивановне, несомненно приняв ее за свою мать, на которую она очень похожа. Ивановна вскочила, прижала драгоценное дитя к своей груди и залилась слезами, столь обильными, каких я в жизни не видывал. Удивленное и напуганное дитя обернулось к няне. Ивановна вынуждена была отдать младенца ей, но, по моей просьбе, та не ушла из комнаты. Я наблюдал, как Ивановна ежеминутно обращала свой взор к малышу; и, когда печаль ее утихла, нежное, прелестное чувство только что возникшей любви, смешанное с грустью, овладело ею и привело в состояние задумчивости, но она уже не выглядела несчастной.
В этом состоянии я оставил ее отдыхать, но был не так удивлен, как опечален, обнаружив, что два следующих дня она…[2]2
Далее в книге утрачены четыре страницы. – Примеч. переводчика.
[Закрыть]
Но и теперь, Чарльз, хотя ей лучше и она стала еще прекраснее, а на самом деле просто восхитительнее, чем прежде, тем не менее, сколь возвышенной она бы ни была, она всего лишь женщина, и кто знает, до каких пределов может простираться моя самонадеянность? Я искренне рад тому, что моя преданность ей остается до сих пор настолько «не смешанной с низменной материей», что позволяет мне выполнять обещание, данное графине Федерович, – оберегать Ивановну с братской заботой. Обещание, которое я не счел необходимым при тех чувствах, что испытывал тогда. Если бы только не предполагал, что обычные слова признательности по прочтении моего письма могут оказаться более теплыми, чем те, что соответствуют представлениям русских леди о простом уважении. К этому можно добавить, что Том всячески намекал, что ко мне вернулось то, что он называет моим недугом, и хотя я знал, что парень неправ, все-таки признаю, что все вульгарные умы занимают те же предрассудки.
Есть ли у нас какие-нибудь хорошие новости? И как возможно, чтобы я за все это время не рассказал вам, отчего так ярко светятся глаза Ивановны? Отчего ее милый ротик окружен такими очаровательными ямочкам?
«Смотрите, – сказала мне прекрасная Ивановна, – какое славное, успокаивающее письмо получила я от моей сестры! В нем говорится, что она нашла своего любимого Федеровича хотя и чрезвычайно нездоровым, но все-таки в лучшем состоянии, чем можно было предположить, и что теперь его доктора надеются на самый благоприятный исход. Разве это не чудная награда за все усилия Ульрики? Разве это не радостные известия, сэр Эдвард?»
«Конечно, самые что ни на есть радостные!» – отвечал я.
«Но это еще не все, поскольку, – ах! какое это счастье узнать, что мой брат жив! Я никогда не решалась говорить о нем с вами, потому что Ульрика не упоминала его в своем письме, и я поняла, что она молчит, страшась добить меня новой бедой, которую я не в состоянии была тогда вынести. Теперь же мне ясно, что она сама ничего не знала о судьбе брата, поскольку он страдал тогда от ран, угрожавших его жизни, и Федерович по доброте душевной держал ее в неведении. Бедный Александр! Как, должно быть, тяжелы твои муки, и физические, и душевные! Как много придется тебе еще услышать и выдержать!»
«Но, моя милая леди, я не позволю вам плакать сегодня даже от радости. На самом деле я трепещу от мысли о том, что любые новые волнения повлияют на ваше здоровье, но при этом искренне поздравляю вас с тем, что ваш брат вне опасности, о его достоинствах я слышал от старого Джозефа, который был щедр на похвалу».
«Похвалу! – воскликнула Ивановна, и волна радости превратила ее щеки в цветущие розы. – Ах! Сэр Эдвард! Александр – храбрейший, благороднейший молодой человек! Я не позволю вам покинуть Россию, пока вы не обнимите его! Вы созданы, чтобы полюбить друг друга! И, наверное, вы могли бы, лучше чем кто бы то ни было, заменить ему друга, которого брат уже никогда не увидит. – Она сделала паузу, тень задумчивости пробежала по ее челу, и она печально добавила: – Вы слышали мой рассказ о Ментижикове?»
«Слышал, он был тем счастливцем, последние дни жизни которого в лазарете были освящены вашими заботами».
«Он был тем человеком, которому мой несчастный дедушка и я обязаны жизнью. Более прекрасного человека, чем Ментижиков, я никогда не знала, он заслуживает моей самой благодарной памяти. Увы! Сэр Эдвард, даже мои радости пробуждают во мне грусть; она вплетается в каждую линию моей нелегкой судьбы, так что, притязая на утешения, я соприкасаюсь с несчастьем, которое не дает мне радоваться».
«Как сильно желал бы я, леди Ивановна, утереть все слезинки, упавшие из ваших глаз, и все-таки не могу сожалеть о том, что ваши печальные воспоминания вызваны сейчас столь лестной для моего самолюбия деталью. Вы выразили желание, чтобы я заменил вашему брату ушедшего друга, прекрасного Ментижикова. – (Как только слово «прекрасного» не застряло у меня в глотке, Чарльз! Я почти ревновал к нему, бедняге!) – Но еще сильнее я желал бы занять место этого высокоуважаемого человека для той, которая уже знает, насколько я заслуживаю доверия, чтобы преуспеть в этом. Я хотел бы быть вашим другом, вашим Ментижиковым, Ивановна, более, чем другом вашего брата».
«Да ведь вы и так уже мой друг, – сказала очаровательная девушка с выражением бесконечно искренней благодарности, нежели просто признательности, которая столь часто читалась в ее отношении ко мне. – В сущности, – добавила она еще более мягким тоном, – я действительно верю, что последним молитвам Ментижикова я обязана за ваше появление. Если я ни разу не сказала этого прежде, то это оттого, что тот, коему я присвоила святое звание друга, обманул меня. По той же причине вы должны понять, что сколь сдержанными ни казались бы моя благодарность и мое поведение, на самом деле мое сердце всегда признавало вас как добрейшего из друзей и самого бескорыстного из мужчин».
Судите сами, если сможете, Чарльз, в каком ужасном положении оказался ваш обезумевший друг, когда Ивановна, с пылающими щеками, искрящимися глазами и протянутой ко мне рукой, говорила с интонациями, которые показывали, насколько она искренна, слова, столь восхитительно нежные и дорогие моему сердцу. И все-таки эти слова, конечно, означали лишь то, что означали. Слова, которые она никогда не произнесла бы с такой теплотой и сердечностью, если бы ее сердце билось так же, как мое. Увы! они сразу же погасили и мою ревность, и мою надежду! Я понял, что Ментижиков был только другом и что мне было суждено занять его место – место всего лишь друга.
«Дружба с женщиной – сестра любви», скажете вы. Это так. А мудрый д-р Грегори уверял всех добропорядочных дочерей Великобритании, что благодарность является наилучшей, а также и наиболее правильной основой для выбора женщиной мужа. Верю, эти высказывания правдивы. Не могу также сказать, что не желаю принимать утешение, которое они приносят в нынешнем моем затруднительном положении. Но всегда, с тех пор как я узнал, что у меня есть сердце, это сердце просило любви, чистой, настоящей, неподдельной любви. И хотя годы (а мне сейчас двадцать шесть) идут и прибавляют опыта, я, пережив, как вы знаете, за последние десять лет несколько любовных приключений, начал понимать, что моя система взглядов скорее романтична, нежели естественна или рациональна. Я все равно не могу твердо придерживаться ее, особенно в случаях с женщиной с таким решительным характером, как у Ивановны, и этот характер, хотя он и сформировался преждевременно под влиянием ужаснейших и горьких событий, уже никогда не переменится. Живость ее ума, нежность ее сердца требуют от нее привязанности достаточно сильной, чтобы задействовать и то и другое. Она должна любить так же, как любят ее – страстной, преданной и всепоглощающей любовью… Но кто, кто окажется достойным такой любви?
А разве сейчас она не любит? Этот вопрос постоянно возникает в моей голове. Я часто видел ее в такой глубокой задумчивости, в печали столь сильной и невыразимой, что, думаю, она, должно быть, тогда оплакивала участь своего возлюбленного, так же как и участь своих родителей. Если возлюбленный погиб, то, знаю, время вернет ей силы услышать того, кто мог бы посвятить всю свою жизнь врачеванию ран такого сердца, как сердце Ивановны. Я вспоминаю, как однажды старый Джозеф прервал свою жену, когда та начала рассказывать мне что-то о своей молодой госпоже, сказав: «Разве граф не приказывал нам, чтобы имя барона никогда не слетало с наших губ?» Тогда я решил, что барон имел дурную репутацию, но теперь вижу, что горе тоже способно отдать такой приказ, а не только гнев. Конечно, он погиб. Счастливый воин! Он сражался, он пал за Ивановну, и ее слезы – вечная память о нем!
Какова бы ни была эта история, если таковая и была, я решительно настроен выяснить все до конца, поскольку снедаем нетерпением во всем, что касается этой обворожительной девушки, и это чувство далеко превосходит все мои прежние безумства. Если она не в той ситуации, которой я опасаюсь, всем добрым ангелам следует поскорее вернуть назад графиню, иначе я ни за что не смогу сдержать свое обещание, мой друг, ибо, по заключению Тома, мой теперешний приступ оказался очень сильным, и, как вы понимаете, такой удобный случай очень трудно упустить. Следовало бы сказать: было трудно упустить. Поскольку все узнали о прибытии Ивановны и, с тех пор как она начала выходить из своих покоев, все знатные дамы толпятся теперь вокруг нее. И долгожданные известия, которые она получила, лишают ее оправдания не появляться при дворе. Так поступали многие, кто перенес подобные утраты. Никогда люди не сплачивались вокруг своего монарха так, как делают это русские. – Apropos: В этот великий переломный момент я исписал уйму бумаги и ни слова не написал вам о замечательных новостях, которым внимает вся Европа.
N’importe! Я отправил вам целую пачку правительственных бюллетеней. Они расскажут о битвах, в которых русские сражались, как полубоги Гомера, и о том, что вся французская армия изгнана отовсюду и что невероятное количество пленных, взятых русскими, – единственно, кто не обречен на гибель из всей этой громады. В бюллетенях указано, где русские перехватили отступающих французов, под командованием каких генералов это было достигнуто и в каких масштабах осуществляется.
Кутузов, Платов, Витгенштейн и другие генералы должны быть представлены потомкам, поколению за поколением, как спасители России. Но что самое удивительное в этой истории, так это недостойное бегство Бонапарта, который, кинув своих несчастных рабов на произвол судьбы, переодетым скрылся в Париже, наверняка с намерением собрать новую армию и вернуться к спору на полях сражений следующей весной. Но опытные солдаты не делаются за один день, и призванные новобранцы не смогут заменить тех храбрых парней, которые теперь «белеют под северным ветром» как несчастные доказательства его амбиций и слепого безрассудства их лишившейся рассудка страны!
Каждый час приносит известия самого бодрого свойства, каждый день изобилует событиями самого удивительного характера. Есть основание верить, что именно теперь русские добиваются победы на подходах к Варшаве или даже к Кенигсбергу.
Сообщают, что прусский генерал окружен вместе со всей своей армией и, исходя из подтверждающих подробностей, я склонен полностью этому верить. Кое-где французы бросают оружие. Ужасная стычка имела место близ Моинитцы, где был ранен бедный Федерович: французов изрезали на куски, невероятно. Короче говоря, успехи русских превосходят все ожидания и удовлетворяют все надежды. Подробности займут много приятных часов наших бесед в доброй старой Англии. Я сказал – Англии? Да, в милой Англии, которую я люблю все крепче с каждым часом моего отсутствия! Но там должна быть Ивановна, ее присутствие должно украсить мой особняк, иначе даже Англия будет скорее милой, нежели приятной.
Уверяю вас, теперь я вполне трезво рассуждаю о женитьбе и тем самым исполняю желание лучшей из матерей и желание, скажете вы, самого любящего из сыновей, несомненно. И все-таки я знаю, моя мать не обрадуется, услышав об иностранке. Так что ни слова на эту тему, пока не получите разрешения от того, кто, дав такое разрешение, окажется самым счастливым человеком на земле.
Эд. Инглби
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































