Текст книги "Ивановна, или Девица из Москвы"
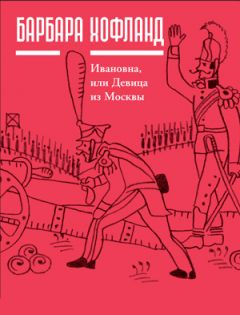
Автор книги: Барбара Хофланд
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
И все же у меня осталась моя сестра – быть может, и брат мой жив. Я побоялась спрашивать о нем, поскольку на сей предмет ты хранишь молчание. Возможно, мы обе испытывали одинаковый страх, и наши опасения причинить боль другому помешали нам получить ту долю облегчения, которую дарует неопределенность. Все, что я узнала от Ментижикова, сводится лишь к одному – что Александра направили на службу довольно далеко от основной армии, в то время как другу его выпал более суровый жребий – оборонять и потерять свой родной город.
Еще раз прощай! Не смею продолжать вереницу мыслей, которые снова тревожат истерзанное сердце твоей трепещущей от страха
Ивановны.
Письмо XIX
Генерал граф Федерович супруге Ульрике
Минск, 25 нояб.
Я искренне поздравляю тебя, моя любовь, с тем, что ты получила почти выздоровевшую нашу дорогую Ивановну, и присоединяюсь к твоей благодарности храброму англичанину, который нашел твою сестру, преодолев столько опасностей. Поздравляю тебя также с известиями, которые я только что услышал о нашем дорогом Александре, выжившем после ужасных ран, полученных им в отчаянной схватке. Вероятность сего была так мала, что до сей поры я хранил болезненное молчание в отношении него, перед тем как исполнить свой долг и объявить о его судьбе. Александру все еще неизвестна судьба его семьи, так как он не в состоянии перенести подобное известие. Но прежде всего, моя дорогая жена, призываю тебя порадоваться тому, что Господь благоприятствовал успеху русских войск в военных делах, что французская армия ныне представляет собою изувеченные останки того грозного чудовища, которое несло разрушение на своем пути и угрожало стереть Россию с лица земли. Теперь мы повсюду побеждаем и имеем основания надеяться, что тиран, причинивший все это зло, вскоре угодит в наши руки. Атаман Платов предлагает свою дочь, с огромным приданым, воину, которому удастся поймать негодяя. Платов – храбрый человек, и донские казаки готовы служить ему по первому зову. Если принять во внимание, что трудности наших врагов превышают наши собственные, то теперь наша армия благополучна. Ради этого каждый день приходится много и тяжело трудиться, и потому трудно выбрать время даже для короткого письма. Как приятно будет отдохнуть в твоих объятьях, моя милая Ульрика! Лишь одному Господу Богу известно, как страстно желаю я осушить твои слезы. Солдат на службе не может разглагольствовать, моя любимая, но он способен чувствовать. Прощай! Обними за меня нашего мальчика и научи его лепетать имя своего отца и своей страны. Засвидетельствуй мою самую искреннюю любовь нашей милой сестре. Не забывай упоминать меня в своих молитвах! И напоминай себе снова и снова, как сильно ты любима твоим верным
А. Федеровичем.
Письмо XX
Томас Ходжсон Джону Уоткинсу
Оттуда, где была Москва 26 нояб.
Дорогой Джон,
Я и подумать не мог, что когда-нибудь, покидая это мрачное место, хоть сколько-нибудь опечалюсь, но все же как-то так получается, что теперь, когда собираюсь навсегда распрощаться с этими лачугами, закоулками и весьма зловещими местами, по которым мы прокрадывались, и с уймой несчастных, которых голод мог довести до того, что они не отказались бы отведать кусочек моих румяных щек, меня охватывает грусть. И хотя я очень даже рад выбраться отсюда, мне все-таки не хочется оставлять за собой эти плачевные картины. Кажется, будто бросаешь всех в беде, а такое всегда было не по мне. Случается, что нам оказывается больше всего дорого то, что мы теряем. По этой причине, насколько я понимаю, многих мужчин так раздражают жены, которые, подводя, так сказать, итог любви, какую надо было расточать при жизни, устраивают знатный пир на похоронах мужа. Это способ похвалиться своей маленькой собственностью, в чем жены так искусны и чему свидетельством могут быть некоторые вдовы в нашем приходе. Мое утешение, однако, в том, что на Москве я не женат, хотя и слегка огорчен, поворачиваясь к ней задницей, так как я перед ней в долгу, ведь она была мне хорошей учительницей, Джон, и она научила меня, как любить свою страну больше, чем когда-либо, и как нести свою долю ее бремени. Она научила меня ненавидеть и испытывать отвращение к злобным выходкам французского тирана и все-таки жалеть тех несчастных, кого он привел сюда, к его стыду, а им на погибель. А главное, жалеть и любить тех честных русских людей, которые стояли за своего короля и свою страну до последней капли крови. Да что говорить, бедная старушка Москва много раз заставляла меня преклонить колени, и я изредка буду приезжать сюда просто так. И, позволь мне сказать тебе, Джон, что, на мой взгляд, не может быть у человека лучшей цели для путешествия.
Когда я писал тебе последний раз, мой хозяин был до смерти напуган и чуть не лишился рассудка, думая, что миледи Иуайнона умрет от горя и тому подобное. И правда, она очень бледная и худая, что неудивительно, ведь горе и голод не красят человека. Но я, как мог, старался утешить его. Я сказал ему: «Ваша милость может положиться на то, что горе никогда никого не убивает, кроме людей угрюмых, которые не принимают слова утешения, или себялюбцев, которые не могут их принять, потому как не знают, что такое сочувствие. Так вот, – говорю я, – поскольку здесь-то случай простой и эта прекрасная юная леди вовсе не такая, как те люди, то потому рано или поздно она поправится. Страдать-то она будет, и может, в десять раз больше, чем если б она умирала, но она еще поживет и когда-нибудь будет радоваться жизни.
Но сэр Эдвард пребывал в глубокой печали и решил предаваться ей и дальше, поэтому пробормотал лишь несколько слов об «обостренной чувствительности» и «трудности понимания», и это, как я понял, означало вот что: «Ты очень порядочный парень, Том, но тебе не понять тонких чувств леди Иуайноны». Но его милость сильно ошибался, поскольку, так долго живя в его семье, я не мог не обучиться кой-чему по части чувств. Нет, я буду стоять на своем, Джон; когда у людей много правильных чувств – под которыми я разумею дружбу, чуткость, сострадание и все такое прочее, – то у них гораздо больше шансов обрести утешение, чем если бы они не испытывали чувств ни к кому, кроме себя, потому как никому не дано прожить долго в мире, не слыша и не видя несчастий кого-то из ближних, и наверняка, когда сострадание прокрадывается в их сердца, то печаль выползает наружу, и те горькие слезы, которые они проливают за других, будут вымывать горечь из тех слез, что они проливают за себя.
Когда я семь лет назад стал жить у сэра Эдварда, его почтенный батюшка был еще жив, он был очень приятным джентльменом, а с миледи они были самой счастливой парой на свете, ведь все, что нравилось ему, любила и она, и ему нравилось это еще больше. Когда б он чашечку не подставил, она ему – сахарку. И так они и продолжали жить, так сказать, рука об руку, надеясь, что жизнь у них впереди еще долгая, ведь оба были в расцвете лет, здоровы и богаты, и всех забот-то было – один ребенок. И, за исключением нескольких маленьких причуд, сын их был таким парнем, о котором, казалось, только и мечтать. Но вот случилось так, что сэр Эдвард старший имел несчастье сломать ногу, он хотел было помочь бедняге, падавшему со строительных лесов, которые начали валиться в тот момент, когда сэр Эдвард проходил мимо. Сломанная нога вызвала лихорадку, а та унесла в могилу нашего доброго баронета так скоро, что всем домашним это показалось кошмарным сном.
Но для миледи это был не сон. Она ощущала, что нанесен смертельный удар счастью всей ее жизни, и горе сломило ее. Все соседи сокрушались, глядя на нее. Они говорили, что сердце ее не выдержит, что она никогда не оправится, что никогда не было на земле такого мужчины, как сэр Эдвард, и такой женщины, как миледи, и потому было бы совершенно справедливо, если б они ушли вместе. И я на самом деле был уверен, что она последует за ним, поскольку она усохла так, что стала похожа на скелет. Сын (благослови его Господь!) изо всех сил старался утешить мать, хотя и сам был в отчаянии, и она, казалось, одобряла его старания, тем не менее, дело ясное, сердце ее было разбито. А когда миледи стала упрашивать сына вернуться в Оксфорд, я в самом деле подумал, что она делает это, чтобы уберечь его от горестного созерцания ее болезни и ухода.
Ну, вот тут-то и повезло – вскоре после нашего отъезда в соседнем приходе разразилась страшная лихорадка, и много бедных семей попало в тяжелое положение. Миледи узнала об этом и оказала им помощь, но печальные рассказы повторялись, и однажды она опять поднялась в свою карету, к великой радости слуг, и отправилась навестить больных. Она поняла, что ее деяния приносят ей здоровье и утешение, поэтому стала ездить часто. И хотя все еще много плакала и сильно страдала, все же на сердце у нее полегчало, и силы к ней вернулись. Теперь она ходила в храм Божий и принимала у себя тех людей, которые действительно были ее друзьями. И с того дня по сию пору она находит утешение в том, что делает благо другим, и хотя по-прежнему оплакивает свою утрату, теперь уже она не печальна, а спокойно счастлива.
Я бы мог своим рассказом воззвать к разуму сэра Эдварда, но подумал, что некоторым людям, может быть, и нравится такой способ утешения, как ампутация ноги для лечения царапины, но это не по мне.
Так вот, бедная Элизабет умерла, я выкопал ей могилу, своими собственными руками, в том месте, где похоронены многие из ее родни. Старик со старухой и их госпожа оплакали ее, помолились и сделали все, как полагается по русскому обычаю. Я размышлял о том, как печальна столь безвременная смерть этой бедной девушки, но она лишь одна из десятков тысяч людей, которые пострадали от французов. Ни словами не передать, ни пером, сколько страдальцев я повидал. И, знаешь, все-таки первый шок, какой был, когда мы приехали, прошел. Но горе, которому мы стали свидетелями, превосходит те первые ужасы так же, как долгое умирание оказывается страшнее, чем внезапная смерть.
Вчера, готовясь к нашему путешествию, а дело это весьма трудное, начиная с того, что лошадей не достать, я проходил мимо полуразвалившейся лачуги, откуда услышал тихие жалостные стоны, будто от сильной боли. Боже мой! Я слышал стоны так часто, Джон, и давно уже отказался от мысли оказывать помощь, что двинулся дальше, решив, что не стоит останавливаться. А тут услышал женский голос, думаю, самый нежный из всех, что слышал с тех пор, как покинул старую добрую Англию, кроме голоса леди Иуайнона, но я знал, что это не может быть она, потому как только что оставил ее во дворце, который, кстати, мы приспособили для проживания многих бездомных во главе, так сказать, с супружеской парой стариков. Так вот, услышав этот нежный голос, я вернулся и, войдя в разбитую лачугу, увидел бедную женщину, лежащую на куче золы, как на постели, и явно умирающую от голода. Около нее лежала девушка лет семнадцати, по внешнему виду такая же слабенькая и голодная, как и ее мать. Девушка крепко обнимала умирающую, будто поддерживая в ней теплом своего тела оставшуюся малюсенькую искорку жизни. Бедная девочка приподнялась, завидев меня, но я жестом показал ей оставаться возле матери. И так как я никогда не выхожу без маленького запаса еды, то немедленно отдал его девушке вместе с небольшой бутылочкой спиртного. Женщина была уже не в состоянии принимать хоть какую-то пищу, а дочь, видно, тревожилась только о ней и не притронулась к еде, пока мать взглядом, который я никогда не забуду, не упросила ее поесть, чтобы выжить. Я понимал, что бедняжка уже на пороге смерти, и хотел только, чтоб услышала она мое обещание оберегать ее дочь, но мои слова, с трудом выговоренные, явно встревожили умирающую, и она на мгновение будто вернулась к жизни лишь для того, чтобы предостеречь дочь против меня. Напрасно я старался доказать невинность моих намерений, пыл моих клятвенных уверений только пробудил новые страхи в бедной дрожавшей девушке, и она, снова опустив голову, сказала спокойным, но решительным тоном:
«Спасибо, незнакомец, но я хочу умереть вместе со своей матерью. Отец убит на войне, брат пал при Бородино, война раскидала всех моих родственников, почему же Элизабет должна выжить?»
При этих словах Элизабет ко мне вернулись утерянные было чувства, и я тут же понял, что это бедное дитя послано нам Небесами. Я выбежал из лачуги, которая, по счастью, находилась рядом с дворцом, нашел молодую госпожу, схватил ее за руку и упросил пойти вместе со мной. Она вышла без колебаний, ибо уже не боялась французов. Думаю, Джон, что, когда я вернулся в ту несчастную дыру вместе с нашим ангелом, я испытывал гордость, какую испытывал римский завоеватель, с триумфом возвратившийся в свой родной город.
Бедная женщина была теперь в предсмертной агонии, но, видно, еще в сознании, потому как с большой радостью вглядывалась в леди Иуайнона, которая, похоже, оказалась ей знакома. Женщина подняла голову и невнятно вроде как о чем-то попросила, но этого вовсе и не нужно было, поскольку наше прекрасное создание, к которому она обращалась, опустилось на колени и с величайшей нежностью заверило умирающую, что позаботится об Элизабет, сказав: «Позвольте мне утешить вас в последние минуты вашей жизни. Ваше дитя всегда найдет друга в доме графа Долгорукого».
Женщина, видно, все услышала и поняла, потому как, когда ухо ее уловило последнее слово, радость осветила ее бледное лицо и засияла в ее глазах. И, едва выговорив благодарность Господу, она испустила дух.
Элизабет, опустившись на колени, слабыми руками обхватила свою защитницу, и в эту минуту в лачугу вошел сэр Эдвард и увидел перед собой эту печальную картину.
Вдвоем с моим господином мы перенесли Элизабет во дворец, где наша добрая госпожа поделилась с ней своей одеждой, радуясь тому, что будет путешествовать в женской компании. Утром этого дня бедняжка похоронила мать и теперь, немного придя в себя, с благодарностью принимала заботу, которая спасала ее от погибели. Ее здоровье и красота будто начали восстанавливаться. Когда я заговорил с ней, она слегка покраснела, вроде как застыдилась того, что ее мать не доверяла мне. Не знаю, как получилось, но как раз, когда сэр Эдвард взглянул на нее, я почувствовал, что мое собственное лицо заливает краской, горячей, как огонь. С тех пор я всегда злюсь на себя из-за этого, поскольку у меня было такое чувство, будто меня на чем-то застукали, хотя я уверен, что и не застукал никто. Всего-то и было у меня на уме: «Миленькая моя, ты как поникший цветочек! Но я буду охранять тебя и верну тебя к жизни!» Но вслух-то я не произнес ни слова. И не думаю, что мой хозяин хотел выставить меня на посмешище, нет, не делал он этого.
Ты, верно, думаешь, что не стоит говорить так много о бедняжке, покрытой, как Золушка, грязью и золой, когда лучше бы рассказывать тебе о том, что Бони в это самое время полностью разгромлен и не знает, по какой дороге ему убегать; и что несчастные изгнанные жители Москвы начинают возвращаться из своих лесов и укрытий и строить маленькие деревянные домишки, чтобы оберечься от суровых холодов, которые уже погубили многих из них, но все же еще больше – их врагов. В самом деле, страдания несчастных солдат, которые родились в мягком климате и прежде служили только в теплых странах – за пределами того, что ты можешь себе представить. Все их лошади пали, частью от голода, но по большей части от холода, нередко замерзая стоя. Должен признаться, Джон, когда я про это услышал, то очень опечалился, потому как всем сердцем люблю хороших лошадей. А кроме того, понимаешь, лошади ведь ни в чем не виноваты, несчастные создания, так что для англичанина вполне естественно пожалеть их.
Когда получишь следующее письмо, Джон, я, надеюсь, буду уже в Петербурге, где в домах есть хорошие печки и много еды. Хозяин так изменился, что не могу тебе сказать, останемся ли мы там или вернемся в Ригу. Потому что достаточно ясно вижу, что он сам толком не знает, чего хочет, а стало быть, и я не знаю. По-моему, так он совершенно влюблен в Иуайнони, и считаю, что это вполне естественно для него. Но любовь в этих северных странах вовсе не такова, что у нас. Вместо того чтобы делать мужчину по двадцать раз на дню то оживленным и веселым, то раздражительным и угрюмым, то вверх, то вниз, подобно волану, здесь в России она делает его тихим и спокойнейшим, молчаливым, как статуя, и добродетельным, как святой. Не скажу, что влюбленному лучше быть именно таким, но англичане все-таки гораздо забавнее, хотя, когда сэр Эдвард был сражен леди Белл Сеймур, мне это доставляло много хлопот. Поскольку она все время не давала ему покоя своими капризами и флиртами, мы скакали из Оксфорда в Лондон, из Лондона в Парк, точно жареный горох на сковородке. Тогда я сказал себе вот что: «Я никогда не влюблюсь ни в одну женщину, чтоб не было этих ревностей, причуд и всякого такого». Поэтому, когда я встретил Салли Браун (ты помнишь Салли, Джон, у нее еще такие распрекрасные голубые глаза, огромные, как у леди Иуайноне), послушай, когда я понял, что она, похоже, слишком капризная, я тут же порвал с ней. Поскольку, видишь ли, благодаря моему хозяину понял, каким дураком буду выглядеть, и я такого не выдержал бы. Нет, я чувствую, такое накатывает на меня время от времени, Джон, признаюсь. Но мужчине лучше уж сомневаться, такое он в состоянии претерпеть и скрыть, нежели мучиться пляской святого Витта и жаловаться каждому встречному и поперечному. А такое происходит со всеми теми, кто имел несчастье влюбиться в великих красавиц, знающих свою силу. Все эти красавицы, по сути, своего рода Бонопарты. Сначала они вторгаются в ваше сердце – потом поджигают все, что в нем может гореть, – а потом уставятся вам в глаза и говорят, что вы сами все это натворили. Ох, злодейки! Но я умываю руки ото всего от этого, и до конца дней моих больше не буду оказывать внимание женщине, кроме тех случаев, когда надо помочь той, что попала в беду, потому что это естественно, ты же понимаешь, Джон, и, как я сказал Элизабет, каждый англичанин так и должен поступать. На том, Джон, остаюсь твоим верным другом и доброжелателем,
Томас Ходжсон.
Том II

Письмо I
Ивановна Ульрике
Новгород, 28 нояб.
Спешу сообщить тебе, моя дорогая сестра, что мы задержались из-за нехватки лошадей, поскольку все экипажи отданы на службу властям – против этого обстоятельства ни один истинно русский человек не станет роптать, какие бы неудобства лично ему это ни доставляло. И хотя вряд ли кто испытывает большую досаду, чем я, все же не могу быть настолько эгоистичной, чтобы сетовать на это, ибо так, бесспорно, содействую славным успехам моей любимой страны.
Мое желание увидеть тебя, дорогая Ульрика, было столь горячо, что оно помогало мне до сих пор переносить тяготы путешествия с мужеством, которое могло бы меня удивить, если б я уже не знала по опыту, как обильно разум, будучи в сильном возбуждении, восполняет недостаток физических сил, и ныне я готова тебя известить, что рукам твоим предстоит обнять нечто вроде дышащего скелета вместо пухленькой цветущей девочки, которую когда-то ты называла смеющейся Гебой.
Я получила от моего великодушного проводника всякого рода защиту и поддержку, какую только могут предоставить самая деликатная чуткость и мужское сострадание. И еще – мне улыбнулась удача, я получила в служанки очень милую девушку, жизнь которой была спасена благодаря вмешательству слуги сэра Эдварда всего лишь за день до нашего отъезда. Сейчас она еще настолько слаба, что ей требуется наша забота. Печальную историю моей собственной Елизаветы ты услышишь, когда мы встретимся. Увы! Сколько соискателей на твое сострадание из наших домашних и друзей придется мне представить тебе! До сих пор исключительно моя горестная история притязала на твои чистые слезы. Эта история слишком связана с тобою, и потому я должна продолжить ее, так хорошо, как смогу, поскольку сэр Эдвард чуть ли не запрещает мне тем самым давать волю твоим страданиям и возвращаться к своим собственным.
Кажется, я рассказывала тебе, что нужно было помочь тем, кто страдал в лазарете, и я замыслила перенести из развалин нашего дворца кое-какие вещи, которые ненасытные грабители могли упустить из виду. Моя затея обещала быть успешной, поскольку я прекрасно знала, где были спрятаны большие запасы, которые могли остаться ненайденными, если, конечно, уцелели от пожара.
Перебрав в голове разные планы, я в конце концов выбрала удобную минуту, когда глаза моего дорогого дедушки смежила дремота, от которой он, похоже, не должен был очнуться еще несколько часов, и вышла из лазарета, взяв с собой одного мальчика, который был инвалидом, но показался мне наиболее пригодной для меня защитой. Мы покинули наш ужасный приют рано утром и добрались до дворца, не привлекая к себе внимания. Но как поведать тебе, Ульрика, о моих страданиях по возвращении в этот дорогой нам дом наших предков при столь терзающих душу обстоятельствах! Картины былых радостей проплывали перед моим взором, сменяясь положившими им конец страшными событиями. Дни детства, невинные забавы и дражайший свет любви померкли перед жуткими воспоминаниями и изгнали мысли обо всем, кроме наших погибших родителей, и эта мысль тотчас же завладела сердцем и привела его в смятение. И хотя мой спутник подгонял меня, чтобы успеть сделать как можно больше, я поняла, что не в силах исполнить свой замысел, и некоторое время стояла подавленная горем и не находила сил превозмочь это состояние. В конце концов мальчик, видя, что сама я ни на что не способна, так настойчиво попросил дать ему хоть какие-то указания, что я справилась с собой и приказала ему осмотреть шкаф, где, я вспомнила, должна была быть маменькина домашняя аптечка, которая оказалась бы бесценной находкой. А совершив это усилие, я поняла, что способна на большее. Поэтому, пока мальчик послушно повернул в уцелевшую часть дворца, я пошла через груды обломков к тому, что прежде было комнатой нашей экономки, чтобы посмотреть, не осталось ли там чего-нибудь из запасов провизии, отложенных на зиму.
Моя экспедиция успеха не имела, поэтому я быстро вернулась туда, где рассталась со своим юным другом, намереваясь объединиться с ним и поискать помещение, пригодное для проживания. Спустя минуту мальчик вернулся, лицо его было смертельно бледным, и он, схватив мою руку и приложив палец к губам в знак молчания, поторопил меня выйти из дворца.
Его поведение и испуганный вид заставили меня предположить, что в одной из комнат он обнаружил какого-нибудь мертвеца и что тишина и другие ужасные подробности добавили ему еще и суеверных страхов. И потому я начала успокаивать его, но он тут же вывел меня из заблуждения, сказав: «Уверяю вас, госпожа, дом полон людей, живых людей; и двое из них проснулись и смотрели на меня, а я нес большую охапку вещей, но так испугался, что все бросил, кроме вот этого».
То, о чем он говорил, оказалось одеждой, на которую я не имела прав, ибо это явно было платье французских солдат. Боясь преследования, я стала упрашивать мальчика вернуться и положить вещи на место, но мои мольбы были напрасны. Он настаивал на том, что вещи надо оставить себе, и убеждал, что они необходимы ему и нашим нуждающимся друзьям. В пылу нашего спора он оглянулся и увидел одного из тех, кого разбудил. При появлении этого мужчины мальчик вскрикнул и бросился бежать со всех ног, но не по той дороге, по которой мы пришли, чтобы ускользнуть от преследования.
Я последовала за ним так быстро, как только позволяли мне мои страхи. Укрыв поплотнее лицо вуалью, я бежала вслед за мальчиком, глядя только под ноги. И преодолела таким образом значительное расстояние, пока, сильно ударившись обо что-то головой, не обнаружила перед собой препятствие, которое в страхе и тревоге даже не заметила.
Покачнувшись от удара, я отступила на несколько шагов назад, затем, откинув вуаль, подняла глаза, и – что за ужасная картина предстала предо мною! Путь мне преграждали ноги в грубой деревенской обуви повешенного на столбе человека. Я задрожала, но снова взглянула вверх. Ах, что я пережила, узнав фигуру, одежду, более того – черты лица несчастного Михаила! Моего давнего, моего единственного друга! Я громко вскрикнула и, невольно упав на колени, протянула руки к застывшему трупу, будто умоляя его взглянуть на меня и помочь мне, как он всегда это делал.
И здесь меня настиг тот, кто преследовал нас от дворца. К нему быстро присоединились еще несколько человек. Я пыталась подняться, как только увидела их, но горе, охватившее меня, не превозмог даже страх. И, не сводя глаз с этой печальной сцены, я зарыдала.
Один из этих людей, приблизившись ко мне и всячески выражая свое сочувствие, стал допытываться, знакома ли я с человеком, судьба которого меня, судя по всему, так сильно заинтересовала. Я лишь покачала головой.
«Возможно, – сказал другой, – бедная девушка его дочь». Я сделала над собой усилие, чтобы сказать, что я была ему не дочерью, а другом и что мне хотелось бы знать, за что ему достались столь жестокие и незаслуженные страдания.
«Его повесили, – ответил мужчина, – по приказу Императора, как опасного поджигателя».
«Поджигателя?» – повторила я с нескрываемым негодованием.
«Да, мадемуазель, он был поджигателем, и при этом очень злобным, поскольку поджег дом своего хозяина».
«Благородный великодушный Михаил! Такова плата за твою службу? Но придет время, и твое честное имя получит высокую, заслуженную тобой похвалу. Я верю, для тебя оно уже настало, ибо ты так скоро последовал к тому, кто мог по справедливости сказать тебе: “Добро пожаловать, мой добрый и преданный слуга, раздели со мной радость Господа Бога и мою”».
Поскольку эти излияния сходили с моих губ на моем родном языке, то они остались непонятыми никем, кроме того человека, который первым подошел ко мне и, судя по знакам отличия, был офицером. Он был красив, в манерах его была та элегантная учтивость, которая обычно характерна для его нации. Он явно проявлял участие к моему горю и весьма почтительно допытывался, может ли он хоть чем-то мне помочь.
«Да, – нетерпеливо отвечала я, – можете. Снимите тело и похороните его с подобающим уважением, в каком любой храбрый человек никогда не должен отказывать другому такому же, в склепе рядом с домом, который вы только что покинули. Сделав это, вы окажете большую услугу мне, но еще более – послужите собственной чести».
Я сознавала, что в тоне, которым я произносила эти слова, была доля высокомерия, более сообразного с положением знатной дамы, нежели с моим видом, свидетельствовавшем о бедности и невзгодах. И то впечатление, какое произвели мои слова на этих людей, заставило меня вспомнить о предостережении несчастного Михаила – не открывать своего имени. Поэтому мне надо было немедленно уходить, но офицер, к которому я обращалась, остановил меня, с тем чтобы я услышала его ответ.
Он сказал, что отданный мною приказ настолько святое дело для него, что, пусть, повинуясь ему, он и рискует вызвать неудовольствие Императора, повелевшего оставлять тела поджигателей повешенными в назидание другим, тем не менее он так искренне сочувствует моим переживаниям и так жаждет добиться моего расположения, что, не колеблясь, подчинится мне. И обернувшись к своим людям, приказал им, на их языке, снять тело и предать его земле с должным уважением.
Готовность, с какой французы подчинились моему требованию, пробудила во мне чувство благодарности, и тон, которым я выразила свои чувства, казалось, усилил расположение иностранца ко мне. В его поведении, далеком от докучливых признаний, что я сочла бы оскорблением, или от назойливого внимания, которое встревожило бы и огорчило меня, виделось спокойное участие и полная покорность моим желаниям, что было чрезвычайно трогательно для того, кто много дней не слышал ничего, кроме горьких жалоб, недовольного ропота или жутких проклятий. И, бросив последний взгляд на бедного Михаила, я хотела было покинуть это место, но незнакомец весьма почтительно просил меня сказать ему, в каком месте этих жалких развалин он мог бы сообщить мне, что мои пожелания предать земле моего друга исполнены.
Хотя мне не хотелось открывать место своего пребывания, я все-таки чувствовала, что его услужливость дает ему право на мое доверие. Кроме того, я понимала, что он мог просто послать кого-то из своих людей проследить за мной. Поэтому все ему рассказала, а затем удалилась, горя желанием вернуться прежде, чем понадоблюсь дедушке, – что, к счастью, и удалось.
На следующий день мой новый знакомый появился в лазарете и, отведя меня в сторону, с выражением глубокого почтения сообщил, что исполнил мою волю, но умолял никогда не упоминать об этом обстоятельстве в лазарете, поскольку, хотя и может положиться на преданность своих людей, не отваживается подвергать себя гневу со стороны иностранцев, который наверняка навлечет на себя, если это дело раскроется.
Я с соответствующей теплотой и благодарностью пообещала хранить тайну.
«Примите в ответ и мое обещание, – сказал он. – Будьте уверены в том, что я скорее расстанусь с жизнью, нежели решусь каким-то образом навредить вам».
Я удивилась и сказала: «Не понимаю, что вы имеете в виду».
«Я имею в виду лишь то, что мне известно, что вы дочь графа Долгорукого, а так же то, – добавил он дрогнувшим голосом и со взглядом, полным сочувствия, – что у вас много врагов, что вы – в опасности».
Как странно то, что меня мог встревожить такой намек! Чего мне, живущей в окружении нищеты, лишенной какого бы то ни было комфорта и надежд, желать в жизни или почему бояться смерти? Как часто я роптала на то, что жизнь моя продолжается! Как часто я молилась о том, чтобы с окончанием дней нашего дорогого дедушки моя душа в тот же момент воспарила бы вослед! И все-таки меня снова охватил страх – за мою собственную безопасность.
Незнакомец прочитал мои мысли и усилил тревогу, которую, казалось бы, хотел смягчить, намекнув, что многие из тех, кто находится под одной крышей со мной, узнав мое имя, не остановятся перед тем, чтобы навредить мне, так как они потеряли своих друзей от сабли моего отца или сами были им ранены. Или, прибавил он, они не придумают для меня никакой более ужасной пытки, кроме как выпытать секрет, где граф спрятал свои сокровища, секрет, который я, несомненно, могла бы открыть.
«Если это единственная причина их враждебности – сказала я, – ради Бога избавьте меня от этого, рассказав им всю правду. Мой отец спрятал свои сокровища там, “где моль их не испортит и куда вор ни проникнет”. Спросите бедных, и они скажут вам, кто раздавал им милостыню, спросите его государя, и он сообщит вам, на какие цели отец отдал свои щедрые дары».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































