Текст книги "Ивановна, или Девица из Москвы"
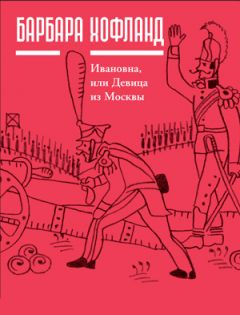
Автор книги: Барбара Хофланд
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
«Ах! Восторженная вы душа! Я мог бы задавать такие вопросы. Но, когда эти слова обращены к душам, склонным к грабежу, лишенным добродетели и потому не верящим в ее силу, они едва ли помогут смягчить их отношение к вам, а лишь умножат разочарование, вызванное обманутыми надеждами, пробудят злобу и желание мстить. Мадемуазель Ивановна, вас в самом деле окружают опасности, которые вы в своем простодушии не способны осознать и которые, разумеется, с вашей неосторожностью не сможете предотвратить. Будучи, к несчастью, врагом вашей страны, я неизбежно оказываюсь и вашим врагом. И хотя понимаю, что заслуживаю вашего доверия, тем не менее не смею просить вас положиться на меня как на друга. На самом деле я не знаю, что вам посоветовать».
Я горестно молчала, мысли мои блуждали словно в лабиринте. Сочувствие этого незнакомца тронуло мое сердце, но я понимала, что, как бы это ни было для меня желанно, я не должна рассчитывать на его поддержку, да и он сам, казалось, считал, что не должна. И я даже покраснела от смущения при мысли, что его деликатность превзошла мою.
Незнакомец покинул меня в таком смятенном состоянии, в такой нерешительности, что теперь мне оставалась единственная надежда – найти кого-то из наших старых слуг или быть найденной моей любящей сестрой.
Когда он ушел, меня охватили самые тревожные подозрения. Расхотелось заниматься своим обычным делом – ухаживать за больными; на смену сочувствия к ним пришло отвращение. И я видела их неблагодарными существами, готовыми оторвать руку, которая их кормит. Я сидела у койки моего несчастного дедушки, спавшего с детской простодушной улыбкой на морщинистом лице, и обращалась к его доброй душе, единственной среди этой массы страдальцев заслуживающей успокоения, той душе, которой я вечно могла бы дарить свое сочувствие.
О, Ульрика, печально жить в мире, где не можешь ни любить, ни быть любимой, где все благородные порывы души чахнут, все теплые чувства остывают и самосохранение становится единственной целью вялого бесконечного существования.
Мой новый друг появился в конце следующего дня и был встречен мною с большей радостью, потому как он заставил меня подозревать всех вокруг и создал хорошее мнение о себе, поскольку, как я тогда считала, сильно рисковал, предавая земле тело бедного Михаила. На самом деле сердцу, устроенному наподобие моего, невозможно постоянно бояться и ненавидеть ближнего. Мне необходимо доверять, по крайней мере кому-то одному, и, будучи всеми брошена, я с готовностью склонялась положиться на сострадание, которое, как мне казалось, вызвала в сердце этого доброжелательно настроенного иностранца.
Полковник Шарльмон (под этим именем он мне представился), выразив искреннее сожаление, сообщил, что этим утром у входа во дворец обнаружили тело недавно убитого человека и что он опасается, не слуга ли это, отправленный тобою, поскольку внешне он походил на путешественника, но с него сняли все, что могло бы помочь его опознанию. Шарльмон умолял, чтобы я рассматривала его страхи лишь как предположение, сделанное из дружеских чувств. То, как он описывал одежду и возраст этого человека, не оставило места для сомнения, и я разрыдалась. Я поняла, что эта утрата лишила меня единственного человеческого существа, которое могло позаботиться обо мне, и с этим рухнула последняя надежда, еще жившая в моем сердце.
Шарльмон отнесся к моим горестям с таким молчаливым участием, какое и есть самый верный признак чуткости, я находилась под воздействием все возрастающей признательности за его доброту и уважения к его характеру, который показался мне более заслуживающим похвалы, поскольку резко отличался от характера его соотечественников. Всю ту ночь я провела в такой тоске, что несчастное выражение моего лица привлекло внимание даже нашего бедного дедушки, когда он проснулся, чтобы поесть, и глянул на меня своими добрыми глазами. Он пытался дознаться, насколько у него хватило сил, в чем причина моей печали. Но я с грустью порадовалась, когда поняла, что он, так и не услышав моего ответа, тут же впал в состояние счастливого забытья, которое делало его нечувствительным к окружающим горестям.
Покуда я размышляла обо всем этом, острота моих переживаний притупилась, и под благотворным влиянием молитв в сердце стало возвращаться доброе отношение к людям, которое так недавно изгнали из него подозрительность и мизантропия. И за слезами раскаяния вновь пришла надежда в ожидании милости Божьей и как бы поставила передо мной цель. Как раз когда я начала радоваться этому благотворному влиянию, меня опять посетил Шарльмон, чье приятное лицо светилось радостью от сообщения, отличного от предыдущего. Я с трудом смогла поверить, что бедный Джозеф вернулся к жизни и может доставить меня к тебе, и тут же нетерпеливо спросила Шарльмона, привез ли Джозеф мне какие-нибудь известия от моей сестры?
«Увы! Нет, – печально ответил Шарльмон. – На его помощь теперь не приходится рассчитывать, но есть одно обстоятельство, которое должно принести вам приятнейшее утешение. Я нашел двух ваших старых слуг и молодую девушку, которая заявляет, что она имела честь прислуживать именно вам».
«Моя Элизабет! – прервала я его. – О! где моя бедная, верная девочка – моя Элизабет?»
«Ради Бога, мадемуазель, сохраняйте самообладание! Помните, где вы находитесь! Опасности, множество опасностей угрожает вам. Я не должен был открываться даже умирающему человеку, чтобы он не прошептал ваше имя в предсмертной агонии!»
Опомнившись, я быстро направилась с ним к выходу. На ходу Шарльмон сообщил мне, что он раскрыл тем бедным людям, что я выжила, и они обезумели от радости, услышав это. В течение дня он должен помочь им, насколько позволит ситуация, подготовить лачугу, в которую я смогу перебраться вместе с моим немощным родственником. Это волновало Шарльмона больше всего, поскольку его постоянно тревожили козни окружающих меня людей.
Напрасно я заверяла его, что люди в лазарете слишком слабы, чтобы навредить мне, или слишком зависят от моей доброты, чтобы желать мне зла. Однако Шарльмон настаивал на необходимости моего переселения, что равно было желательно и мне, не столько из-за страхов от происходящего вокруг – они постепенно убывали, – сколько от сильного желания увидеть моих смиренных друзей, привязанность которых ко мне так живо описывал Шарльмон и которые теперь, увы! станут всем в мире для обездоленной Ивановны.
Часы с момента ухода Шарльмона до его возвращения вечером были самыми долгими в моей жизни. И они казались тем более томительными, что я не могла никому открыть ни своих чувств, ни своих ожиданий, поскольку Шарльмон строго наказывал мне не выдавать лицом своего беспокойства, чтобы окружающие не заподозрили моего ухода и чтобы наши планы не встретили противодействия. Он пообещал привести с собой тех старых слуг, чтобы старик помог перенести дедушку, а служанка была бы мне проводницей и опорой в пути. В его намерения входило сделать наш уход совершенно неожиданным, чтобы никто ничего не понял и не воспрепятствовал бы нам. Стремясь во всем слушаться указаний моего друга, я заставляла себя заниматься обычными делами средь несчастных больных, многие из которых были близки к тому, чтобы распрощаться со мной навеки. Но когда я вспомнила о Ментижикове, чей прах был погребен близ последнего его приюта, вспомнила его доброту, преданность и любовь, слезы хлынули из глаз, и я почувствовала себя так, будто снова говорю ему последнее прости. Его прощальная молитва к Небесам подарить мне друга, который занял бы его место, ныне, видимо, исполнена благодаря вмешательству Шарльмона, и это обстоятельство всколыхнуло во мне новую волну благодарности ушедшему. Но с воспоминанием о Ментижикове всплыли и воспоминания о Фредерике и обо всех других погибших.
Наконец наступил назначенный час. Шарльмон вошел, мы подняли нашу драгоценную ношу и вынесли на улицу, где я увидела добрых старых слуг, ожидавших нас с неким подобием носилок. Это были Джозеф и Сара Кисноу, которых я знала и любила с колыбели. Я рассказала тебе о множестве бед, так должна же я передать тебе и ту радость, которая на мгновение озарила мое сердце! Бедные, преданные создания, как они прильнули ко мне и к своему почтенному хозяину, целуя наши ноги, влажные от их слез, и прося благословения на наши святые головы, будто ощутили нечто божественное в нашем присутствии! Разумеется, этого оказалось достаточно, чтобы вернуть мне любовь к человечеству.
Шарльмон, одновременно и одобряя, и браня стариков, убеждал их умерить свои чувства, чтобы не случилось задержки. Он помог уложить дедушку на носилки, укрыл его одеялом, принесенным для этой цели, а затем, взявшись за один конец носилок, велел Джозефу взяться за другой. И молча быстрым шагом они двинулись к месту назначения.
Когда мы пришли туда, Сара открыла маленькую дверцу в жилище, устроенное в сохранившейся части наполовину сгоревшего флигеля и покрытое сверху где досками, где парусиной. Я вошла первой и увидела мою несчастную давно потерянную Элизабет, которая сидела на полу возле тлеющих угольев, пытаясь развести огонь. При виде меня она поднялась, еле слышно вскрикнула и упала на пол без чувств.
Первым делом я должна была привести ее в чувство, что с помощью Сары мне и удалось. Шарльмон, уложив дедушку в маленькой внутренней каморке, защищенной от сырости какими-то досками, пришел попрощаться и сообщить, что оставил для меня кое-какую провизию, а завтра принесет мне что-нибудь из одежды, крайне необходимой из-за все усиливающихся холодов.
Его забота, его старание, его более чем братская любовь ко мне и к тому, кто остался теперь единственным объектом моего попечения, сильно тронули меня. Я смогла ответить ему лишь слезами благодарности, хлынувшими из глаз. Мой взгляд был устремлен к Небесам с просьбой ниспослать ему благословение, когда, протянув к нему обе руки, я еле слышно произнесла: «Друг мой, брат мой!»
«О, обожаемая Ивановна! – воскликнул Шарльмон. – Дай Бог, чтобы я стал вам более чем другом или братом! Ибо настолько посвятил свою жизнь вам, что друзья, богатство и родина меркнут пред этой неуправляемой страстью, которая сделала меня вашим навеки! И теперь клянусь…»
«Остановитесь! – крикнула я, дрожа от волнения и охватившего меня неясного чувства, в равной степени нового и мучительного, – не клянитесь в верности той, которую вы и в самом деле привязали к себе нитью святого чувства благодарности, но чье сердце безвозвратно отдано другому. О! Не добавляйте к моим печалям еще и того, что я принесла несчастье вам!»
Со взглядом, который я истолковала как взгляд безмолвного отчаяния, Шарльмон отпустил мои руки и стремительно выбежал из дома, в который, как я подумала, он никогда больше не войдет. И это значит, что я не только лишилась всего, что обещала мне перемена моего положения, но мое сознание еще омрачилось ощущением новой беды, я поняла, что потеряла друга, который в силах был помочь мне, а великодушие его вознаградила тем, что разрушила его мир. И, желая быть честной, оказалась неблагодарной. Всю долгую ночь эти ужасные мысли терзали меня и не давали мне покоя. Они продолжали преследовать меня и за завтраком, приготовленным моими слугами из даров Шарльмона. Когда он отыскал этих стариков, они были в бедственном положении, ради меня он помогал им, поддерживал их и теперь. Он соорудил для них это жилище. Он казался им самым лучшим, самым красивым, самым благородным из всех людей, и они отважились говорить, что он не француз. Они, в самом деле, слышали, как его собственный слуга сказал, будто мать хозяина была очень знатной итальянкой.
«Если только, – тихо промолвила Элизабет, – француз мог бы быть порядочным человеком, то приходится считать, что полковник Шарльмон порядочный. Но я так твердо уверена, что французы не могут быть порядочными, что для меня теперь просто загадка, как это получается, что он столь хорошо себя ведет. Как хотите, госпожа, но я считаю, что он вынужден так себя вести – это его судьба. Помните, как Илию кормили вороны, хотя скорее выкололи бы ему глаза. Но они повиновались воле Того, кто послал их, а вовсе не из желания делать добро».
Я с трудом могла удержаться от улыбки, слушая рассуждения бедняжки Элизабет, но спросила ее: «Почему ж ты считаешь, что французы не способны на добрые дела?» – и добавила, что если человек предстает перед нами в образе врага нашей страны, это не дает нам права делать вывод, что он лишен всякой морали. И хотя французы проявили отвратительную готовность идти на любые преступления, навязанные их тираном, тем не менее, бесспорно, среди них немало таких, кто, возможно, уклонялся от выполнения ужасных приказов и ищет теперь способ каким-то образом искупить вину за грабежи и другие злодеяния.
«Ах, нет, госпожа, – сказала Элизабет, – ничего такого они не делают. Нынче они бродят по всему городу в поисках тех несчастных, кого еще можно погубить. На то есть свои причины. Во-первых, они не христиане, и потому все дурное из их сердец с корнем не выдернешь. Во-вторых, они – солдаты, а это обычно делает плохого человека еще хуже, потому что еще больше ожесточает того, кто и прежде был бессердечным. Про хороших людей, конечно, такого не скажешь, вовсе нет. У кого еще, моя госпожа, было столь нежное сердце, как у вашего храброго батюшки?»
«Ты, моя милая, приводишь доводы, которые невозможно было бы опровергнуть, если бы я и захотела, но я не собираюсь этого делать. Поэтому останемся каждый при своем мнении, а за добрую память о твоем бесценном хозяине горячо благодарю тебя, Элизабет».
Говоря эти слова, я потянулась к руке моей доброй служанки, но, к моему сильнейшему удивлению, она отодвинулась и, приложив свою руку к груди, воскликнула: «О, моя уважаемая госпожа, не прикасайтесь ко мне! Я существо опозоренное, пропащее, погибшее, мне уже нельзя помочь! Эта грешная, эта ненавистная мне рука совершила преступление, которое осквернило ее навсегда! Посмотрите сюда, моя добрая госпожа и, если можно, простите меня, поскольку я и правда была не в своем уме, когда пошла на это».
С этими словами она встала передо мной на колени и, распахнув платье, показала моим ужаснувшимся глазам страшную рану, которая явно была в таком состоянии, что вскоре должна была унести девушку в мир иной. От вида этой раны были забыты и Шарльмон, и всё вокруг. Ужас, негодование и жалость овладели моей душой и опалили мой рассудок. Я обняла Элизабет, несмотря на ее слабое сопротивление, я омывала ее слезами, я призывала Небеса засвидетельствовать искренность моего сострадания и клялась не покидать эту девушку, пока смерть не разлучит нас. Мои муки даже теперь невозможно выразить словами, и я не в силах больше писать!
Такая молодая, такая красивая, такая невинная! Наделенная умом, столь превосходным для ее положения, и сердцем, полным добродетели. Ах, моя погубленная Элизабет! Если бы твои страдания и смерть были единственным прегрешением, совершенным в этом потоке преступлений, то и их было бы достаточно, чтобы обречь Наполеона на вечные муки! Прощай! Я вскрыла последнюю рану, терзавшую мое сердце, и она снова кровоточит! Завтра я смогу продолжить свои описания.
Ивановна
Письмо II
Ивановна Ульрике – в продолжение.
Новгород, 22 нояб.
В течение этого, первого дня моего избавления, если так можно выразиться, от ужасов лазарета, я узнала много нового о положении отечества, что прежде было мне неведомо и что интересовало меня, тем более что я не могла узнать ни из каких печатных сообщений, числится ли кто из моих дорогих братьев среди убитых. И повсеместный успех русского оружия за это время осветил мое сердце слабым лучиком радости, который смягчил и жестокость острой боли, и негодование по поводу несчастной судьбы Элизабет. Меж нею и моим дедом делю я теперь каждое мгновение своей жизни и все свои сердечные заботы.
Впрочем, я испытала облегчение, когда вечером второго дня появился Шарльмон, поскольку мысль о его тревоге добавляла мне огорчений. Меня порадовало, что, несмотря на грустное выражение его красивого лица, он вовсе не был так огорчен, как я имела основания предполагать после его внезапного ухода. Я была столь наслышана о легкомыслии и жизнерадостности его соотечественников, что спустя несколько минут обрела надежду, что, хотя до сих пор он и не проявлял характерного для французов темперамента, тем не менее, он тоже, как и они, оказался существом непостоянным.
Вскоре я поняла, что обманулась и что тот безмятежный вид, который он напустил на себя, был вынужденным, Шарльмон хотел избавить меня от переживаний на его счет. В его деликатном поведении было нечто такое, что не могло не заинтересовать меня. И я сдерживала себя, чтобы чувство благодарности, которое я на самом деле испытывала, не ввело его в заблуждение. Мне, несомненно, надлежало любыми способами охранять покой того, кто, проявляя настоящий героизм, старается вернуть меня к жизни. Постепенно скованность ушла, и мы, кажется, стали интуитивно понимать друг друга и уважать того, кого нам было запрещено любить.
Радуясь всякой возможности улучшить мое положение, Шарльмон теперь часто навещал меня, однако с чрезвычайной тщательностью избегал хотя бы малейшего проявления своей несчастной страсти. Никто и никогда еще не был более трогателен и интересен и не умел так вкрадываться в доверие. Обладая элегантными манерами, совершенным умом, обостренной чувствительностью и весьма обаятельной искренностью, он представлялся мне самым любезным из всех мужчин, а окружающим – самым благородным и самым образованным из всех французов. Потому что, как бы они им ни восхищались, они ни за что не могли полностью забыть его национальность. И ничего, кроме нашей абсолютной от него зависимости, не вынудило бы их принимать хлеб из его рук. Мы не покорились ему в буквальном смысле слова, так как я сохранила при себе несколько украшений, которые с большим убытком обменяла в лазарете, и на вырученные деньги Джозеф время от времени добывал немного грубой провизии. Малой толикой из даров Шарльмона кормились дедушка и Элизабет, и для спасения моих любимых больных я не могла отказаться от них. На самом деле, можно сказать, и ради него самого, поскольку, несомненно, такой отказ поверг бы Шарльмона в отчаяние, ведь, несмотря на его усилия скрывать свою страсть, ясно было, что он влюблен в меня.
Тем временем с каждым днем все больше французов уходило из Москвы, а ужасы зимы с каждым днем все прибавлялись. Шарльмон часто, следуя моим указаниям, приносил что-то полезное, сохранившееся в запасах нашего дворца, особенно постельные принадлежности, в чем была большая нужда. При этом он всегда настойчиво просил меня сопровождать его в этих походах и часто намекал на необходимость поиска предполагаемых тайников моего отца. Он даже настаивал, что это необходимо сделать ради меня, главным образом, по той причине, что скоро его рядом не будет и мне понадобится все, что сумею собрать, чтобы обеспечить нам самое скромное существование. В ответ на это я, как правило, отвечала: «Ныне в этом дворце не может быть ничего ценного для меня, кроме находящейся в комнате моей матери домашней аптечки, за ней я недавно посылала мальчика, которому рассказала, где ее искать, и ошибиться было невозможно, хотя я абсолютно уверена, что он не нашел ее потому, что аптечка всегда стояла в шкафчике, встроенном в стенную панель и плотно прикрытом задвигающейся дверцей, чтобы оставаться незаметным для глаз».
Мне очень хотелось заполучить эту аптечку, так как я была уверена, что в ней есть кое-какие средства, которые могли бы значительно облегчить страдания Элизабет. И я, разумеется, рада была бы сама разыскать ее, невзирая на жестокие страдания, которые мне неизбежно пришлось бы пережить, ведь именно в той комнате скончалась моя маменька. Но угроза последнему близкому мне человеку была столь велика, что в любую минуту жизнь его могла оборваться, а потому оставить его я не могла ни на секунду.
Я вспоминаю, что однажды, когда я повторяла свои указания Шарльмону, как отодвинуть дверцу потайного шкафчика, он уставился на меня таким пронзительным и пытливым взглядом, столь отличным от обычного, выражавшего чистую любовь и невыразимую печаль, что я весьма изумилась и встревожилась, и даже вся сжалась в тревожном предчувствии. Шарльмон тут же уловил, какую перемену во мне произвел его взгляд, и, ловко схватив мою руку, воскликнул: «Когда я смотрю на вас и вспоминаю все ваши ужасные страдания в той комнате, которые вы стараетесь так терпеливо донести до меня, то с трудом верю, хотя сам тому свидетель, что знатная женщина, такая молодая, такая красивая и столь хрупкая, действительно смогла выдержать подобные сцены. И я вглядываюсь в вас, ангел Ивановна, как в существо другого порядка, чуть ли не дрожа и трепеща при одном только виде своего кумира!»
Поскольку я время от времени замечала что-то подобное в выражении его лица, то пришла к выводу, что причиной тому все те же чувства. И, прекрасно зная по себе, что самые жуткие мысли в голове связаны со всем, что относится к моей печальной истории, я вновь обрела доверие к нему и продолжила свои указания, повторяя при этом, что мысль снова увидеть ту комнату настолько невыносима для меня, что чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что не смогу заставить себя войти туда.
«Вы несправедливы к себе, восхитительная женщина! – воскликнул Шарльмон. – В конце концов, вы страдали и всегда готовы страдать ради людей. Не могу представить себе, что вы не пойдете на такое испытание ради облегчения участи тех несчастных, жизнь которых зависит от вас. Я понимаю, как это тяжело, но можно ли сравнивать это с тем, что вы уже перенесли! Позвольте сказать вам, мадемуазель Ивановна, что величайшим доказательством почтения к памяти вашей матери являются внимание и забота об ее отце. И хотя я был бы безмерно счастлив возобновить неудавшиеся прежде поиски, позвольте все-таки сказать, что вы одержали бы победу над собой, решившись сопровождать меня».
Если бы моему несчастному дедушке действительно помогло то, что я могла найти там для него, я, несомненно, тотчас бы согласилась с уговорами, столь обоснованными и разумными. Но поскольку дедушке уже невозможно было помочь, я снова отказалась идти и стала умолять Шарльмона, если ему повезет, сразу же вернуться ко мне, что он и пообещал сделать. Но вернулся он только ночью, а за это время душа моего дорогого дедушки тихо и безболезненно отлетела в благословенные чертоги.
Едва ли ты поверишь, что, хотя я и должна была бы горевать по поводу, пусть давно ожидаемому и, по сути, конечно, желаемому, обстоятельства, в которых мы оба оказались, призывали меня скорее радоваться, нежели печалиться. Но, признавая уместность такого рассуждения, Ульрика моя, и испытывая определенное утешение от того, что свято исполнила обязанности, возложенные на меня родительскими пожеланиями и распоряжениями, я тем не менее не могла сдержать слез над дорогими для меня останками, ибо это было последнее, что у меня оставалось. Мы вместе страдали, и наше родство лишь укреплялось этим страданием. Могла бы добавить к этому, что зависимость нашего дорогого дедушки от меня, полная его беспомощность, и кроткая привязанность, и даже благодарность делали мои чувства к нему похожими на те, что мать испытывает к своему ребенку, и с потерей дедушки я утратила часть своего существа.
Пока я то оплакивала себя, то горевала, пришел Шарльмон, но некоторое время он оставался в другой комнате, чтобы не нарушить мое уединение, святое для чувствительного сердца. Никогда еще его дружба и чуткость не были столь заметны, как в тот ужасный момент. Было слишком очевидно, что он сочувствует мне, и нет смысла об этом говорить. Казалось, он вник в те тонкие движения души, которыми объяснялось мое настроение, и приписывал их самым благочестивым и добрым побуждениям. Таким образом он смягчал мои страдания, хотя казалось, что способствовал им. И вскоре я настолько пришла в себя, что начала настойчиво просить его помощи в погребении святых останков, лежавших пред нами.
Решено было, что похороны состоятся этим же вечером, поскольку Шарльмон с большим волнением и глубокой печалью объявил, что он должен быть со своим полком, уже далеко ушедшим от Москвы, и что, по всей вероятности, это будет последняя ночь, которую он сможет целиком посвятить служению мне. При этих словах на моем лице отразилась боль, вызванная таким известием. Однако спустя мгновение я уже осознала, что уход ненавистного врага вернет меня ко всему, что составляло мой мир. И эта мысль отогнала все прочие. Шарльмон прочел все по моему лицу, поскольку воскликнул с укором: «Жестокая Ивановна! Как короток был ваш вздох по поводу моего отъезда! Как коротка была печаль о том, кто принял ваши неслыханные муки! И даже подавлял свои вздохи, чтобы они не ранили вас! Теперь он понял, как не нужны были все эти заботы, что диктовала его любовь, – ибо вы равнодушно созерцаете его отчаяние, и без сожаления воспринимаете его уход, и…»
Я прервала его, заявив, что как русский человек не могу не радоваться событию, о котором он мне сообщил, особенно потому, что теперь передо мной открывается возможность вернуться в тот мир, где я все еще надеюсь отыскать свою сестру и многих своих друзей, пусть война оказалась роковой для моих надежд. Но уважение, которое я испытываю к нему как к человеку, моя вечная искренняя благодарность, не только за его многочисленные услуги, но и за деликатность в выражении чувств, на которые он намекал, делают расставание с ним действительно источником истинной печали. И он во многом несправедлив ко мне, если полагает, что потерять его не окажется для меня одним из тяжелейших ударов, которые мне уже пришлось вынести.
Мои слезы при этих словах доказывали мою искренность, но могла ли я думать, что мои слова окажутся пророческими! Хотя понимала, конечно, что буду сильно печалиться, расставаясь с тем, кому столь многим обязана, и с тем, кто был мужчиной, просто предназначенным для того, чтобы возбуждать восхищение, равно как и нежность.
Казалось, Шарльмона смягчили мои заверения в уважении, и он ушел с видом человека, который жаждет оказать мне помощь в последние часы своего присутствия, и с желанием жить лишь для моей пользы Мое сердце заныло при мысли о разлуке с ним. Временное облегчение, которое я испытала, размышляя о полном освобождении Москвы, ушло в связи с собственными неприятностями, и я сидела рядом с телом нашего почтенного деда, даже завидуя спокойствию смерти.
Из этого состояния болезненной пустоты меня вывели страдания Элизабет, которая, стараясь из последних сил помочь в выполнении последнего долга перед своим старым добрым барином, так растревожила свою рану, что теперь мучилась от сильнейшей боли. И я уже пожалела, что не пошла с Шарльмоном во дворец, чтобы самой найти аптечку, но пообещала бедняжке, что сделаю это вечером. Надежды на облегчение придали ей сил терпеть боль, и она перестала жаловаться, несмотря на непрекращающиеся мучения.
Вечером Шарльмон прибыл с двумя солдатами, как и обещал (Джозеф к тому времени выкопал могилу по моим указаниям). Солдатам было приказано пройти через помещение, где на руках у Сары лежала Элизабет, и вынести тело, у которого стояли Джозеф, Шарльмон и я. При виде солдат у Элизабет начались жуткие конвульсии, и она чуть не испустила дух. Потому мы велели им выйти как можно скорее. Но когда Сара сказала, что Элизабет долго не проживет, а Шарльмон торопил меня, я оставила Джозефа в доме, чтобы было кому утешить и поддержать их, поскольку почувствовала, какой ужас вызвал у бедной девочки один только вид французов, и потому присутствие Джозефа будет для нее благотворнее, даже чем мое собственное.
Мы проследовали в молчании к дворцу и подошли к тому страшному месту, где покоилось столько дорогих нам останков людей, совсем недавно полных жизни, здоровых, цветущих и богатых. Мое сердце погрузилось в воспоминания, и на какое-то мгновение я раскаялась в том, что назначила себе задачу, которую должно было поручить другим. Но сердце мое стало укорять меня в слабости, и я собралась с силами, дабы исполнить последний долг святой любви. В молчаливой молитве я обратила свое сердце к Тому, кто всегда слышит отчаявшихся.
Озабоченный Шарльмон молча стоял около меня. И, когда я отошла от могилы, с большой торжественностью выступил вперед и приказал солдатам закопать ее. Мы оба стояли, пока они не закончили свою работу, а затем вместе ушли. Шарльмон нес фонарь, а солдаты – факелы. Когда мы проходили через развалины, он сказал солдатам, что, раз свет у нас есть, они нам больше не понадобятся.
С того момента, как мы пришли к месту погребения моих предков, я не произнесла ни слова. Теперь же подняла голову, словно прося солдат продолжить путь с нами. Поскольку я держалась за руку Шарльмона, он сдавил мою руку и тихо сказал, что у него есть причина отдать такой приказ и скоро все объяснится. Страхи насчет Элизабет вернулись ко мне с новой силой, и потому я молча уступила его желаниям. Солдаты ушли по направлению к входу во дворец, а я направилась к той части здания, которой страшилась, но которую все-таки решилась исследовать.
Когда я приблизилась к той роковой комнате, сердце мое сильно забилось и у меня перехватило дыхание. Я откинула вуаль, чтобы свободнее дышать, но волнение не проходило, как я ни старалась. Я остановилась, и Шарльмон, уставившись на меня с диким взглядом, стал допытываться, не больна ли я. И в то же время умолял идти дальше, уверяя, что мы теперь уже совсем близко от объекта наших мучительных поисков.
Увы! Моя маменька, моя бедная, истекающая кровью маменька! была объектом моих поисков. Мой взгляд пронзал окружающий мрак, будто я в самом деле могла увидеть ее, будто заново явились предо мной ужасы той роковой ночи. О, Ульрика! Как это было страшно! Я не могла унять внутреннюю дрожь и все ближе и ближе придвигалась к своему проводнику, по-прежнему крепко держась за его руку. Прислонившись к нему, я почувствовала, что сердце его бьется так же сильно, как и мое. Несмотря на жуткое чувство, охватившее меня, я была благодарна ему за участие и взглядом хотела было поблагодарить его, но в тот момент он отвел свой взгляд, а в следующий мы уже вошли в роковую комнату.
Шарльмон поставил фонарь на пол и подвел меня к кушетке, на которую я села, совершенно обессилев. Затем он подбежал к тайнику и, к моему великому удивлению, с легкостью открыл его и, взяв оттуда рюмку с ликером, немедленно поднес ее к моим губам с беспокойным и диким выражением лица, отчего мое удивление возросло, и я даже встревожилась. На секунду мне показалось, что он охвачен безумием, и, лишь пригубив из рюмки, я вернула ее со словами: «Умоляю, выпейте сами. Боюсь, что вы нездоровы, Шарльмон».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































