Текст книги "Совпадения"
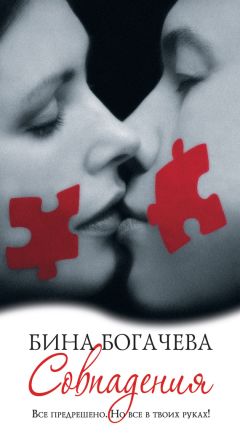
Автор книги: Бина Богачева
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
– Заколебали эти телефоны, честное слово. Вчера, – сказала она, уже отложив трубку, – деду пришло SMS: «Выиграй поездку по вузам Европы». Дурдом, да?
Накрыли стол для чая. Расставили чайные пары с кобальтовой сеткой и кое-где сколотыми краями. В деревне жили только в летне-осенний период, на зиму дом закрывали, перебирались в городскую квартиру, поэтому не держали тут по возможности никаких лишних дорогих вещей. Все ценное увозили, остальное складывали и упаковывали. Два раза уже забирались в дом местные, своровали самовар, посуду, одежду, постельное белье, старую, расколовшуюся пополам икону – все, что еще можно было пропить.
Вернулся Степан Федорович, вынул из закромов буфета сушки, пряники, ватрушки с повидлом, вафли, шоколадные конфеты, банку сгущенного молока – весь праздник советской эпохи.
– Накурил, попшикай! – сказала ему Вера Карповна. – Мы купили тут освежитель от табака. Нашли на четыре рубля дешевле даже, чем в городе, – пояснила она. – А вообще ходил бы ты на улицу, Пенелопа Федорович, курил бы там.
Бабушка придвинула сладкое к Соне почти вплотную. Соня на ухо шепнула Глебу, что не ест этого ничего.
– Ты это им скажи! – скептически заметил он.
Из-за стола вывалились с больными животами. Светочка сгоняла за старым альбомом, молодость показывать.
– Я знаешь как нашла себе деда? Чудом, – по секрету сказала Вера Карповна, когда случилось, что другие отвлеклись разговором ровно на минуту. – Я решила уже умирать, так мне жизнь эта опостылела в мои сорок шесть лет. Легла в своем черном рабочем халате на кровать, даже тапки не стала скидывать, и лежу. Уснула. И вдруг вижу свет. Да так явно, что поняла, что это и не сон вовсе. Перепугалась до смерти, что передумала и помирать. На другой день купила пошла календарь с церковными праздниками. Потом у Светки взяла детскую Библию почитать. Кстати, курево дедовское, да и все прочее относится к чревоугодию. Это было для меня тоже открытием. Меня с этих открытий водой в церкви знаешь как поливал батюшка? Охо-хо! А рядом там кого только нет на причастии. Со мной стояла одна бомжа с похмелья, губы черные от хабариков, глаза как у рака. Выяснилось, что с этой бомжой у нас в один день день ангела. Мы в него и причащались и исповедовались. Я два раза потом по сорок дней читала акафист на коленях. Бомжа теперь моя подружка. Приходит ко мне в гости чайку попить, потолковать. А какие молитвы к Богородице сильные! После отречения Николая Второго она взяла на себя правление России. Помолилась я ей, и появился у меня дед, как репка.
Тут вернулись домочадцы, Вера Карповна подмигнула, что, мол, после.
– Вот это наш дом, где бабушка еще жила. Это мама моя, это брат, это отец, это собаки скачут какие-то чумовые, это еще какие-то родственники, не помню уже. По отцовской линии, – надев очки, рассказывала бабушка. – Помню, намоет мать полы голяком, натрет песком! Красота, чистота! – Она перевернула страницу.
– Дед-то у нас местный, – сообщала она далее подробности Соне. – Тут родился, на кладбище. Раньше на месте родильного дома было кладбище, – пояснила она, – а потом вытрезвитель… Вон он какой молодой тут! Пришел ведь ко мне в обрезанных военных брюках и калошах на босу ногу. Ничегошеньки не было. Воротники носил поднятые, потому что грязные. Типа за нами слежка. Полжизни по общагам… Утром с кровати встанет – вся постель комом-ломом. Спит так, как будто Куликовская битва каждую ночь во сне.
– Поправь, Света, шторы! Это дед все мне занавески дергает, заколебал. – Она еще раз перевернула лист альбома. – Как так можно курить? Дым весь летит обратно в дом! Вот как я его терплю, этого гопника? – Она рассмеялась беззлобным, мягким смехом. – Его ведь били, зарплату отнимали, караулили, когда с работы шел с получкой. Дадут сзади по голове бутылкой, деньги отнимут… Бедный человек! Так только сейчас стал другим, узнал, что такое нормальная семья. Но сморкаться, мыться никак не могу приучить с утра! Как встает, сразу на кухню есть бежит. Всю жизнь ведь впроголодь жил. А теперь очки ему справили в золотой-то оправе, как директору! Разляжется на новом покрывале у меня. Енерал, не меньше… А это я в Артеке, около Гурзуфа, в восьмом классе, за год до начала войны. Побывать там – это было почти что слетать в космос. Величайшая крутизна!
Соня шепнула Глебу:
– А разве он не твой родной дед?
– Нет.
– Дед, иди вон из избы! У тебя и дым-то, как у лешего, лезет наоборот в дом, хоть и выдувается в окно! Иди. Погуляй за-ради здоровья, покопти небо, дышать от тебя нечем. – Но это у нее как-то по-доброму звучало, не обидно.
– Да я передумал, полежу лучше.
– Полежи, соколик, отдохни. А это моя первая любовь, – продолжила она просмотр альбома. – Везде за мной хвостиком бегал. Вот тут его фото есть, потом прислал уже с фронта. – Она коснулась пальцем лица невысокого мальчика со сдвинутыми бровями. – В это время он меня дергал сзади. Видите, стою злая, как собака? – На фото, сдерживая эмоции, стояла юная, хрупкого телосложения барышня с густой челкой шатенки, спадающей на глаза, как у пони.
Вера Карповна достала карточку, на которой красовался серьезный и симпатичный, коротко остриженный, в морской форме молодой человек. На обороте было написано его рукой: «На вечную память подруге Вере («подруге» старательно зачеркнуто, что едва можно разобрать) от Сергея. Вспоминай обо мне хоть иногда. 27.12.42».
– Лазали на Аюдаг, вот тут фотография, это я ногу как раз подвернула. Потом в Артеке была Вероника, тогда уже появились корпуса, в шестидесятые годы. Их корпус назывался Прибрежный. Они уже ходили мимо дачи Хрущева, ее видно даже было, говорили. Кругом охрана на сто километров… Кого там только не было с нами: удмурты, чеченцы, казахи, хохлы. Девочки – белый верх, голубые юбки, мальчики – в рубашках и шортах.
На старой, пожелтевшей фотографии стояла большая группа ребят, плотно выстроившихся в три ряда – в панамах, утопающих в розовых цветущих кустах.
– Дельфины любили, когда мы пели у моря песни, приплывали слушать… Светик! Смойся! Спать пора! – прикрикнула Вера Карповна.
Все повернулись к Свете. Она стояла не шевелясь, облепив собой дверной косяк.
– Пусть стоит, не мешает ведь, – перевел взгляд с бабушки на Свету Глеб.
– Дак ведь пусть, я про макияж. Уши развесила, сейчас ляжет в косметике спать, а утром с фарами встает, нас с дедом пугает. А на этой фотографии, – она подвинула альбом ближе, – дед, надо же, какой молодой! Ты когда это успел уже вставить сюда свою фотографию? – обратилась она к нему. И добавила, шутя, как обычно: – Морда-то и в молодости у него кирпича просит, – и вновь перевернула страницу альбома.
Степан Федорович привстал на локте и прокомментировал историю появления фотографии и, поправляя очки на носу, заметил по поводу следующей:
– Бабуся, а ноги какие у тебя ровные!
– Бабуся я ему… Что я за бабуся, коль еще ебуся. – Она засмеялась. – А ноги, да, уж было дело… Вот откуда, смотрю теперь на себя, такой урод выплыл? – Она выставила вперед сухие, тонкие, выгнутые в икрах ноги.
– Родной-то дед Глеба эвон какой красавец был, – продолжала бабушка. – Мы с ним во время войны познакомились. Мне было шестнадцать, ему – восемнадцать. Он в КГБ работал после укороченных курсов. Только-только получил форму и приехал к нам на железнодорожную станцию, я весовщиком была. – Она промокнула пальцами заблестевшие глаза. – Там и познакомились.
– Изольда, – она показала мятую фотографию плохо одетой худой девушки со светлыми косичками, – списывала вагоны. Меня отправили в Северодвинск на шесть месяцев. Так вот как-то удалось ей прибрать за пазуху банку консервов после того, как молдаване разбили коробку на пересчете. Когда шли обратно из порта через охрану, у нее ее и обнаружили. Ей дали пять лет. А эти черти молдаване слова не могли сказать по-русски в ее защиту.
– Мою бабушку по отцовской линии тоже Изольдой звали. А фамилию вашей Изольды не помните?
Линия отца была покрыта для Софьи некоторым туманом, в котором она пробиралась на ощупь. Там громоздилось множество семейных тайн в виде хорошо спрятанных, но кое-где все же торчавших коряг, в которые старались не посвящать последующие поколения, но они то и дело об них спотыкались. Такого, видать, не спрячешь. Через поколение синяки, через еще два – переломы на ровном месте.
– Нет, не помню уже. Кажется, Спицына, а может, путаю. Да мы с ней мало продружили. Тогда ведь за кусок сахара могли посадить, а тут консерва! Указ министра Кагановича как раз вышел, чтобы прямо на месте «без суда и следствия». Сталин тогда пошутил: «Давайте выпьем за храброго Кагановича: ведь он знает, что, если поезда будут опаздывать, его расстреляют». Пять минут опоздал на работу – пять лет штрафбат. Нас тогда приучили к порядку… Потом зеков взяли, мы, девчата, прятались от них. Они агрессивные были, наглые. В вагоны затаскивали… Раз где-то украли козу, голову – вон, на плечо – и к себе. Мама дома сидела с младшей моей сестрой одна. Кто по возрасту не подходил, того брали в санитарные поезда. Вагоны мыли. Эвакуированных везут, остановятся, надо трупы, что по дороге намерли, вытаскивать, складывать штабелями. Скот везут – бронсбойтом потом вагоны моем под людей. – И она все крутила свой страшный альбом с ветхими, желтыми, мятыми фотографиями.
– Помню, бомбежка, начали объявлять, чтобы все в укрытие бежали, я рванула, упала, разбила в кровь колени и подумала: «Пусть убивают, нет сил никаких больше! Останусь тут». И бомба попала как раз в бомбоубежище… Я ходила пломбировала вагоны с вот такой, – она показала размер, – пломбировочной машинкой. Мы тогда впервые узнали, что есть на белом свете сухое молоко, сгущенка, мясные консервы. Теперь у нас за горой нарезают землю под второй коттеджный поселок. Хаусы строить. А у одних, мы всей деревней уже ходили смотреть, церква в огороде стоит и местный художник рисует им иконы с ликом домочадцев. Разве не кощунство? Вы бы видели эти лики и эти лица. Это все равно что листками, вырванными из молитвослова, подтираться в сортире.
Вера Карповна правильно вспомнила фамилию Изольды. Соня просто не знала, что фамилия Спицына, которую носила тогда ее бабушка, была маминой. После лагерей она возьмет фамилию отца, под которой и будет ей известна. Тогда, в то лето, Изольду зеки затащили в вагон и изнасиловали. Изольда родила отца Софьи, это был ребенок, который никогда ничего не знал про своего отца, кем он был и каким. Его назвали Германом. И это имя принесло его матери множество дополнительных трудностей, как и он сам, потому что было производным от немецко-фашистской Германии, а для его матери еще и производным от последствий войны.
– А что твоя бабушка, Соня, жива теперь?
– Нет, она умерла еще раньше, до мамы с папой.
– А что с ними случилось, детка?
– Их сбила машина, когда они шли по обочине вдоль дороги ночью, возвращаясь от друзей со дня рождения.
Соня отвернулась, увлекаемая боем часов, которые отмерили одним ударом половину следующего часа, и последнее предложение произнесла, бегая глазами за маятником:
– Я и моя сестра Варя остались одни. Нашим опекуном стала тетка Майя, сводная сестра отца. Квартиру, где мы жили с родителями, обменяли с доплатой, на деньги построили кооперативную для кузин, детей Майи – Вики и Леночки, чтобы девочки могли быстро и успешно выйти замуж, что и случилось. – Соня добродушно улыбнулась.
Улеглись за полночь. Подмыться бабушка предложила по старинке над ведром, поливаясь теплой водой из чайника. Но Соня воздержалась от процедуры, благо привезла с собой разных салфеток для частной гигиены. Глеб долго вздыхал и ворочался на жестких пружинах, подтыкая под себя одеяло, стаскиваемое Соней, шуршал травяным матрасом. Над входом в комнату уже тридцать лет болтается крюк с кольцом, вбитый в потолок для устроения качелей. В него просовывались веревки и клался полосатый матрасик из детской игрушечной кровати, которого сейчас не хватило бы и на пол-ягодицы. На стене все тот же гобеленовый потертый коврик, репродукция картины Шишкина «Корабельная роща», с отбрасываемым на него тусклым подрагивающим светом от лампадки, помогающим воде на гобелене течь, а сосне покачиваться.
В уютном полумраке протопленной комнаты, пахнущей пирогами, печкой, старой влажной мебелью и обоями, смешивались ароматы кремов и духов Сони, напоминая собой запах бабушкиной сумки с помадами, обещая утреннее летнее солнце, бьющее через кружевной тюль, заливающее стволы испеченных, как хворост, длинных палок сосен на гобелене с шаткой изгородью и нежно хохочущим ручейком. В темноте время крадется бесшумно и незаметно. Обязательно захочется долго валяться в постели, слушать с закрытыми глазами, как за окном кто-то из взрослых собирает малину, тяпает грядки, таскает воду в лейках на парники, как сытая собака вяло гремит цепью, потягиваясь, или вылизывает миску, а на кухне звенит сосок выкрашенного в небесный цвет рукомойника, и все это сопровождается запахом маковых сладких пирогов, травяного чая, букетами цветов, принесенных из палисадника, лампады, папиросного дыма. И кто-то где-то точит бруском косу на покосе.
С этими мыслями кое-как к трем часам ночи Глебу удалось уснуть, крепко прижимаясь к горячей Софье, скатывающейся в ров, образовывающийся матрасом, постоянно наступая ей на длинные волосы локтями и плечами. Едва сон заволок Глеба в свою обитель, стал кружить по путаным лабиринтам, как послышался мелкий осторожный стук по оконному стеклу.
Приехала тетка Глеба, мама Светочки – Оля. Бабушка, охая, выскочила в чем была в сени, нацепив калоши. Раздались приглушенные голоса, звонкие поцелуи, возня, ввалились в дом с сумками, пакетами, поклажами. Быстро собрали чай на стол с остатками ужина. А звуки шепота за задернутой шторой поймали в свой плен и потащили в детские воспоминания мальчишку, лежащего, как и раньше, с притворно закрытыми глазами, сквозь узкие щели разомкнутых век, подглядывающего за неясными очертаниями фигур, просвечивающих сквозь занавески с расплывающимися рыцарями на красных конях возле прекрасных арабских замков.
С утра пораньше заголосили петухи во дворах. Собака выбралась из будки и, лязгая цепью по земле, ходила по двору из конца в конец, ожидая миски с похлебкой. Софья проснулась, сбегала умыться и опять скользнула в кровать, осторожно прикладывая остывшие босые ноги, «босикомые», как они называли их с Глебом, к его горячим икрам, как йод к ране. Быстрыми руками она ощупала достоинства раннего деревенского утра. В ее глазах озорно горели два солнышка. Хихикая, она ловко выпрыгнула из длинной бабушкиной ночнушки и скрылась под одеялом.
– А войдут? – Глеб улыбнулся и вздохнул.
Муж Ольги, Антон, как-то незаметно спился, прикормился коньячком, как пес у выставленной кадки с отходами с заднего двора столовой – каждый день новое подношение от заинтересованных в разрешении своего вопроса людей. «Не будь ты музыкантом», – говорила ему Оля, но он держал лицо только для работы, дома расслаблялся, и говорить все чаще становилось попросту не с кем.
– Невозможно взять высоту, – раскуривал он болтающуюся колокольным языком во рту сигарету. И все опускался и опускалася.
В двенадцать часов ночи он будил Светку и требовал показать ему для проверки домашнее задание. Ольга всегда, сколько жила с ним, жаловалась. Сначала на то, что он проверяет пальцем верхнюю часть дверного косяка, потом – что плюет ей в кастрюли с борщом, что матерится при ребенке и кулаком проверяет крепость кухонного стола под звонкое эхо почти никогда не выключаемого телевизора с подскоком всего имеющегося на поверхности стекла.
С телевизором еще какое-то время он продолжал свои мало кому понятные разговоры, которые Ольга давно назвала «Теледебаты». Утром полз на четырех костях на работу. Хуже жизни, казалось, придумать было нельзя. Когда же он вылетел наконец, как пробка из бутылки шампанского с должности, окончательно потеряв человеческий облик, растеряв махом последнюю горстку институтских друзей, а из дома начали пропадать вещи, Ольга собралась с духом и выгнала его. Упаковала в два счета пожитки, те, что еще не были пропиты, и перевезла к его матери в область.
Вечерами оконное стекло не спасало ее от дождя. В сухой совершенно комнате, на сухом лице молодой еще женщины наперегонки текли, сливались в поток и дружно обрушивались на губы, чтобы бесстрашно броситься и разбиться об полкапли дождя.
– Не реви, – говорила ей подруга, – а то задушу тебя собственными руками. Радуйся, что тебе не шестьдесят. А если бы было шестьдесят, что не семьдесят. Ну не заканчивается жизнь с разводом, с уходом мужчин, с оставлением мужчин. Не заканчивается.
Но Ольга знала правильный ответ, который в некоторых случаях, и этот случай как раз был ее, после развода заканчивал личную жизнь, как окончательная поломка заканчивает работу еще пять минут назад исправного, но одноразового механизма. Каждое утро она подходила к зеркалу и видела там разъехавшееся вширь лицо, второй подбородок, рано поредевшие волосы, несуразность фигуры, которая в сидячем положении выдвигала вперед складки живота такими пластами, что на их фоне пропадала, превращаясь в мальчишескую, грудь второго размера. Из-за кажущейся полноты она часто была раздражительна, независимо, сидела ли она на какой-нибудь ограничивающей диете или не сидела, и тогда злилась на себя еще больше. Она рассматривала припухшие болезненные косточки на ступнях, узловатые, с выступающими венами, руки и приходила к выводу, что прежними остались только кисти, все остальное расползлось, разрослось, разухабилось, опало тяжелым бременем. Трусы, которые она надевала стоя перед зеркалом, в прорезях для ляжек показывали живот, косточки бюстгалтера впивались в подмышки, колготки с утяжкой выдавливали наружу диафрагму, а корсет закруглял бока так, что они вот-вот готовы были сомкнуться. Ею были куплены двое черных брюк большого размера, садящихся на нее в виде двух куполов православного храма.
Переодеваясь в деревне в халат – ничто не делает женщину более домашней, как тонкие халаты – и обувая на босые ноги старенькие лодочки, Ольга преображалась. Халаты запечатывают тела женщин в свой тонкий футляр. С женщиной в домашнем халате по доступности и беззащитности может сравниться только женщина без макияжа. Недаром все самые невероятные терзания женщин в быту происходят именно в этом облачении.
Рассматривая Ольгу из своего укрытия, Соня, позавтракав, читала одним глазом книжку в шезлонге, наслаждаясь пронзительным пением птиц, чистым воздухом, теплом уходящего лета.
Она на самом деле хороша, но даже не догадывается и не подозревает об этом.
Около сосен охотился кот Боря цвета табби[38]38
Название цвета считающихся у нас обычными полосатых котов.
[Закрыть], прижав уши к распластавшемуся телу, мелко сотрясаясь в траве и подергивая кончиком хвоста. Во дворе пахло кипяченым бельем, выварившимся на самодельной печке. Ураганом по огороду пронесся Беляш, шальная дворняга, скрываясь от преследователя.
– Спустили кабана с цепи, так он, глядите, башку сейчас себе снесет – и по грядкам, и по грядкам. Вот черт окаянный! Сгинь, морда! – закричала на него Вера Карповна.
Беляш добежал до забора, сделал петлю, как заяц, и, поджав хвост, понесся прочь.
Обычно Беляш сидит на длинной цепи, недовольный своим пессимистическим положением, и облаивает все, что движется. Длинная его цепь бегает по проволоке – старая, еще десяток собак назад, придумка хозяина – протянутой вокруг дома от одного входа до другого. Обычно, выползая из будки, Беляш припадает на передние лапы, вытащив из лежбища половину туловища, растопыренными когтистыми пальчиками крепко держится за землю. Хвост кольцом закидывается у него на круп, язык половинкой розового бублика упирается в небо. Затем грудь гордо подается вперед и вытягиваются задние ноги. Ягуар. Загнанный после беготни Беляш долгое время остается ленивым и, ожидая вечернюю кормежку, только виляет хвостом, завидев людей.
– Светка, снеси ему миску! – крикнули из дома.
– А она где?
– У тебя на бороде. В сенях, где. Неси, да хлеба скроши туда. В ведре лежит у печки. Да молочком забели! Банка на подоконнике.
Песьи бока тут же проваливаются, он жадно начинает лакать, прижав уши, и выуживать из похлебки, громко фыркая, куски картошки и хлеба. Бока постепенно раздуваются мохнатым шариком, ровняя ребра. Потом еще минут десять он будет вылизывать миску, гоняя ее по пыльной земле под окном. Тощая Светка, мелькая загорелыми плечами и ногами, оттаскивает его за ошейник. А если палкой миску подпихивать, то он смешно осклабится, нос сморщит, десны навыворот и рвет ее край белыми зубищами в труху.
Днем Ольга полола на огороде с голой прямой спиной, загорала. Когда шли мимо редкие прохожие, прикрывала грудь передником, брошенным тут же в грядках. Сейчас она нарядилась в старое короткое платье и ходила по огороду, сверкая коленками. После возни с полом Глеб, усталый и вспотевший, сидел на лавочке, опершись головой о стену дома. Сегодня с утра у него сильнее, чем обычно, разболелся травмированный нос. На солнышке боль как будто отступала, освобождая место воспоминаниям. Как после длинного, пропахшего чистым бельем, красной и черной смородиной дня они, детьми, бежали на качели, цепями устремленными в небо, в горизонт вонзающейся жердочкой, и качались до дурноты и слабости в ногах, «взмывая выше ели, не ведая преград». На качелях, которых давно уже нет, – и даже яблони, их держащие, многие сгнили, – ставились рекорды по «дотрагиванию на спор носками до верхних веток», «до солнца», «до облака», «до тучи», «до пегой лошади на верхнем пастбище», по «самому продолжительному качанию на качелях с песнями». Качели у каждого были персональные. Приятно было вечерами пить чай в саду с конфетами и пирогами, оставшимися от выходных.
– Шурка, Анька, девки, идите чай пить с пирогами! – кричала прабабушка Гаша товаркам, проходившим мимо с перекинутыми на спины сетчатыми разноцветными торбами, полными буханок хлеба – восемь спереди, восемь сзади. Хлебом скотину подкармливали, делали пойло.
Девкам по пятьдесят с небольшим, по большей части одинокие, без мужей, рано умирающих, много работающих, много же пьющих, запаханных деревенской жизнью. Была среди них одна колоритнейшая фигура с черным, как гриб, прогорклым лицом, Шуркой звали, работала на скотном дворе дояркой. Курила только «Беломор». Табачищем он нее разило хуже чем от мужика, даже если молчала, не кашляла.
Помнил Глеб и то, как скакал на сеновале и что-то попало в глаз. Смотрели, искали соринку чуть ли не всей деревней полуслепыми глазами в очках – ничего. И терли, и капали, а в глаз будто песку насыпали, слезится, саднит. Перевязали, как у Кутузова, до утра и отправили спать. Поутру хотели свезти в город, в поликлинику. Все равно надо было газовые баллоны ехать менять на пункт для плиты. Но утром пришла соседка и отвела его к бабке Анне.
Проводили в горницу, посадили за стол. Ходики тикают, кошка сидит, моется, на него посматривает. Все вышли. Ничего необычного, он встал с диванчика и решил выйти посмотреть, где все. А тут в коридоре бабка Анна, и он налетел на нее. Она его за локоток взяла и обратно в избу втолкнула, посадила на стул. Приставила свой, села и стала отрывисто шептать, шевеля старыми губами без контура, за которыми, он еще давно заметил, у нее оголенные зубы с большими расстояниями. Бабка эта даже летом ходила в вязаном пальто на вате, и дети ее в деревне побаивались. Губы она «на выход» подводила старой помадой бантиком. Сидел он смирно, почти не дышал и пытался вслушаться в непонятные слова. И его как будто чуть-чуть в сон клонить начало. А потом вдруг резко и коротко она набрала воздуха и плюнула ему в глаз. Потом отерла плевок платком, заулыбалась, видя, что он испугался, и выпроводила за дверь, перекрестив. В доме у нее пахло котами. Долго еще этот запах потом ассоциировался у него с плевком в глаз.
– Ступай теперь, любота моя, – напутствовала она. – Не свернись с лестницы!
Соседка привела его к дому. К вечеру глаз совсем перестал болеть, отек и краснота спали. Бабушка велела сбегать снести Анне гостинец и пирог с морошкой.
Врачиха ездила раз в две недели в медпункт, так к ней никто не ходил, сами справлялись. Поплюют, подуют, щепоткой по месту поводят, пошепчут – и нет хворобы. Белье только само, дуй не дуй, не кипятилось, да корова не доилась, да грядки не пололись, да лук не плелся, да ягоды в ведра с кустов не сыпались, да навоз в компостную яму не соскребался. А так бы все ничего. Два мужика на горе жило на девять домов, и те «не могли». Всего семь гор. «Он занемог», – звучало почти как приговор, потому что и мужики жилы себе до последнего рвали.
– Сынок, сходи к бабе скажи: «Бабушка, выпусти, стерва окаянная такая, эдакая-разэдакая, деда из свинарника, он больше не будет». Скажи. Ступай, милый, похлопочи за деда, ангел мой, – просил Глеба родной дедушка, который был тогда еще жив, размягчить бабин гнев от вчерашнего принятия спиртного на грудь с показательными выступлениями.
Тогда он в горячке, разойдясь, уже в который раз обличал ее родословную.
– Хамово племя[39]39
Хам – сын Ноя, прародитель хамитов: негроидной и монголоидной рас.
[Закрыть]. Вижу я вашу татаро-монгольскую кровь. Я вам еще устрою Куликовскую битву, – грозил он проходящей мимо него Вере Карповне со стопкой чистых тарелок и полотенцем через плечо. – Вы у меня еще ответите за Тохтамыша! Изменила, изменила где-то маман с узкоглазым водолазом Каропу, – грозил он пальцем. – Ишь они под русских подделались. Хрен вам, меня не проведешь. А морды-то свои видели в зеркало? Поросенка им захотелось заколоть, Орда клятая! Нашлась мне тоже курултайская[40]40
У монголов, татар и других тюркских народов – орган народного представительства, всенародный съезд знати.
[Закрыть] барыня.
Развивая так свою евгенику, он костерил весь женин род до седьмого колена, обличая и ее высокие широкие скулы, и низкий рост, и слегка миндалевидный разрез глаз, который у него уже превращался в монгольский с эпикантусом, чего на самом деле не было, и подозрительную смуглость кожи при русых волосах, и всю ширококостность фигуры, которую прозвал «плоскою». Были ли на самом деле у них монголы, никто не знал, что-то такое едва ли можно было уловить, но дед старался.
– Я тебе завтра таких монголов покажу, – обещала бабушка. – Закачаешься, чучело сиволобое. Только доживи до завтра, не помри с похмелюки. Со всеми свинями своими перецелуешься французским поцелуем!
И она, поддев его ухватом, выгоняла деда на двор.
Тогда они только пошли на пенсию, еще держали большое хозяйство. Потом в этот же год дед и помер.
– Бабушка, дед сказал, что он больше не будет, выпусти его. Мне его жалко. Я ему открою, ба, – сердобольничал Глеб.
– Я вам открою! Я вам так открою! Сговорились! Сиди, изверг! – кричала она на двор. – И не баламуть мне парня. Я открою ему щас! – продолжала она в ту же сторону. – Я ему так открою – кубарем покатится у меня под гору к Аньки слепой избе. Ч-черт полосатый! Век бы балахрысничал[41]41
Ничего не делал.
[Закрыть], водку пил. Дай только волю.
– Я же из-за живности, Верка! Как ты не можешь понять? – оправдывался дед глухим голосом из-за закрытой на вертушку двери.
Потом вроде на некоторое время все стихало – и заново:
– Что, шельма? Пью я ей! Раз в год. – Дед колотил себя красным кулаком в грудь. – Раз в год-то усугубился… И то нельзя. Где лошадей я брал? Они у меня брали! Я ей тыщу на сберкнижку снес-положил. На, на руки мои смотри! Нет рук! Не спамши, не жрамши, я до Берлина ей дошел, в плену гнил. Где мои медали? Тащи сюда к свиням, сволота! Надену, подохну в медалях! Я не могу сто пятьдесят грамм теперь хряснуть за убийство своего родного поросенка? От себя последнее, бывало, оторвешь – ему несешь, розовопузому дьяволу…
– Ты-то можешь? Ты тыщу сто грамм можешь! Я тебя, паскуда, до завтра там продержу, ты нахрястаешься у меня там до брюха… За поросенка он пьет. Поросенок зарезан три месяца назад, а он все пьет за него. Жалко ему! А меня кто пожалеет?
Нахрястался дед. Не выпустит бабушка его теперь, пока не стемнеет. Когда страда – расслабляться некогда. Тут тебе не город. Восемь телег привезено сена в пелевню[42]42
Сруб для хранения сена, хомутов, плугов, борон и различных сельскохозяйственных инструментов и приспособлений, стоящий под крытой крышей внутреннего двора.
[Закрыть], и его теперь заставят прыгать в толстых штанах, чтобы трамбовалось, читая «С отрадой, многим незнакомой, я вижу полное гумно…»[43]43
Из стихотворения «Родина» М. Ю. Лермонтова.
[Закрыть]
Утром протрезвевший дед полезет в пиджак и даст денег на фотоаппарат «Смена 8М», помня обещание за сунутую ему в окно «маленькую». Где взять – было сказано. Он на такое дело припрятывал. Глеб мечтал фотографировать лошадей. В деревне в то время жил один колхозный пастушок, пришлый, из бурят. Лошадей очень любил. У нас, говорил он, лошади относятся к скотине с «горячим дыханием» – халуун хошуу мал. И про стога говорил чудно, по-ихнему – зароды. Дед прозвал его «наш автономный пасынок» и «Верин баргузинчик», намекая Вере Карповне на родство.
Под спокойное перелистывание страниц Сониной книги Глебу припомнилось, как метали стога в зной на сенокосе, как летит поданный вилами лохматый ворох сена, укладываемый на стоговище, как съезжаешь с него вниз усталый и жадно пьешь прохладный морс с бутербродом. Вечером случайно оголенные участки тела покроются красными точками и полосками от сена, станут чесаться, зудеть. А где-то вдалеке на соседнем участке такой же маленький человечек пляшет вокруг палочки на огромном яйце, вершит.
– Я тоже хочу вершить, не хочу ворошить, не хочу кучить. – Кирилл гребет детскими маленькими грабельками, бывшими глебовскими, и хнычет.
– Фига с два тебе! Греби давай. Ба, очесывает пусть! Вон у меня тут какая пукля нависла сбоку!
Мужчины подпирают стог с трех сторон жердями. Так он будет стоять до самой зимы, а может быть, его еще продадут по осени. Когда будут окучивать картошку, можно будет лошади дать несколько пучков сена полакомиться. А еще можно выпросить одноглазую умную кобылу Чайку у пастуха, пока он обедает у них в доме да чай два часа ведрами пьет, залезть на нее и даже съездить шагом к черемухе, объесться и свалиться потом с животом. Какую-то чайку зовут Джонатаном, какую-то лошадь зовут Чайкой, как автомобиль, а какую-то женщину зовут лошадью.
Если пустить Чайку галопом в поле, перемахнуть через каменистый ручеек, мчаться, прижавшись с ее вспотевшей шее, цепко держа узду, по дикой траве, можно представить себя ковбоеем. Седок – пушинка, в бока не стучится, кнутом по крупу не хлещет.
– Дядя Саша, а почему Чайка без глаза? – спрашивали дети пастуха.
На самом деле его имя было Санжа, но в деревне его переименовали.
– А потому, что кончается на «у»!
– Ну скажите!
– А ей в лесу лешак привиделся, вот она и понесла, да на сучья.
– Скажите про блохастого жеребенка, как вы там всегда говорили!
– Хун болохо багахаа? Это означает: «Аргамак уже в жеребенке виден, хороший человек с детства сказывается». Так у нас дома говорят.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































