Текст книги "Совпадения"
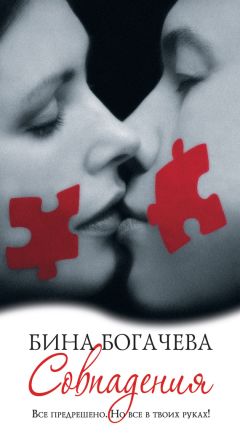
Автор книги: Бина Богачева
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
Глеб неохотно знакомил ее со своими друзьями, но молва быстро прокатилась среди них. Кто-то шутил, «что Соня почернела», в любой компании Ноня становилась объектом чужого внимания, отвлекала от бесед, от дел, занимала чужое воображение. Кроме того, она была высокого роста, а если вставала на каблуки, то выглядела с ним как фотомодель, притягивала ненужные взгляды, которых он сам всегда старался избегать.
Когда они однажды приехали на речку в деревню, она произвела там полнейший фурор. Подготовленная прежде бабушка все равно, увидев ее, наложила на себя, оторопев, крепкий троекратный крест. Дед хрипло екнул «честной матерью». Ноня в ответ только улыбалась.
– Это тоже, знаешь, не дело. Во-первых, молодая, во-вторых, не наша. Африканцам тут что за жизнь, на сыром Севере? Маета…
Он точно знал, что бабушка давно в курсе всех новостей. А это спектакль.
– Да наша она, бабушка, – заверил ее Глеб. – Она тут родилась, у нее мать русская. И фамилия у нее материнская – Пинчук. И зовут ее Соня.
– Тоже, да не то! Скажи пожалуйста! Только она такая же Пинчук, как дед наш тенор. Зубоскалка. На что она тебе? У той уж крутой был характер, но и это бог знает что за «ночка».
Глеб отмахнулся и вышел, не желая продолжать разговор. Бабушка вздохнула. Деревенские, завидев Ноню, выходили из домов. Бабы звали друг дружку. Несколько человек пришли днем на огород, любопытные соседи заскакивали под предлогом пирога, который тут же испекли, на чай, остальные слушали добытые сведения и бегали на реку смотреть, как негритоска загорает.
Ноня сидела под зонтом в вязаном купальнике и шапочке и старательно плела что-то, напевая негромко грудным чистым голосом и полными свежими губами незатейливые песенки. Глядя на ее губы, Глеб думал о другой Соне, которая не вытеснялась ничем из его головы. Он досадовал, что никак не может позабыть ее. Поглаживаемый Нониными легкими руками, он побаивался ее черных глаз. Вслушиваясь в русалочий смех купающихся женщин, она сидела под чистым голубым небом, не замечая из-за зонта прочерченной по солнцу двойной сплошной от самолета дуги, на зеленой траве, среди простых русских цветов – тысячелистника и иван-чая, и смотрелась плененной дикаркой, недавно вывезенной с рынка рабов.
– Уж больно она невинна и кротка, – говорила Глебу Вера Карповна, – в таких омутах тихих хорошие крупноголовые черти водятся! Бывают добрые люди уже потому, что у них не было случая злу проявиться.
Через два дня контактная Ноня обзавелась подружками из местных разнаряженных девчонок, которым она рисовала картинки и раздаривала плетеные украшения. Ее руки были постоянно заняты, быстро орудуя то крючком, то спицами. В деревне ее прозвали черным ангелом. Это ее забавляло. Она жила легко и там, где все остальные видели массу проблем, находила удовольствие.
– А как же ты, девка, без жилья-то осталась? – интересовалась Вера Карповна, пока они возились на кухне.
– Да как… Мне директор обещал похлопотать насчет однокомнатной квартиры, какие-то у них там были возможности. Я ждала. Но не получилось, дали маленькую комнатку в Колпино. Ну, думаю, и это хорошо. Уехала туда. Соседи вроде нормальные – муж с женой, бездетные. Я учиться пошла, работать. Потом соседи чего-то развелись, жена уехала. Сосед предложил мне жить с ним.
Она замолчала.
– Ну так и чего? Ты согласилась? – Вера Карповна кинула на нее быстрый взгляд.
– Комната моя там так и есть, сделать с ней ничего нельзя, она крошка. Но я уж туда не поеду, к нему жена вернулась, они теперь ее заняли, меня не пускают.
– Так они тебя облапошили, что ли?
– Наверное.
Вечером она подозвала Глеба и шепнула ему что-то на ухо.
* * *
Вскоре Вероника Петровна вышла замуж во второй раз после развода с Владимиром Семеновичем за мужчину младше ее на тринадцать лет. Она подошла после свадьбы к Ноне и сказала:
– Я уезжаю, ты знаешь… И… я бы хотела, чтобы мы… чтобы ты, Софья, приехала к нам. Без Глеба, с Глебом – не важно. Приедешь? Я найду тебе работу у себя, у нас с Майклом идея открыть совместную фирму.
– В Америку?
– Да.
– Вы точно этого хотите?
– Ну, раз зову, значит, хочу. Приезжай.
– Портомойницей? – Соня улыбнулась. Когда-то они уже шутили на эту тему.
– Нет, принцессой королевства Таиланд! Разберемся. Ну? Я приезжаю и сразу делаю тебе вызов?
Соня, убедившись, что Глеб спит и не слышит их, вернулась в кухню и тихо произнесла: «Я приеду. Одна».
Он спал крепко, но вздрагивая, как обычно, во сне. Софья опять снилась ему.
Он нащупал нож под подушкой.
– Сегодня особенно сильное солнцетрясение, – сказала она шепотом.
– Не заметил, странно.
– «Пей, моя девочка, пей, моя милая. Это плохое вино. Оба мы нищие, оба унылые…» – Соня запела, аккуратно распутывая пальцами кольца рыжих вьющихся волос.
– Перестань!
Он всматривался в нечеткие контуры светящейся сферы на фоне полной луны за окном, узнавал в них переливы знакомого профиля и сполохи волос на ветру. Софья напоминала гномон, странную геометрическую фигуру, образовавшуюся из параллелограмма, полую внутри, по которой, как по солнцу, всегда можно узнать время. Соня каждый раз, когда он смотрел на нее, как на часы, вслух произносила время.
– Так это еще не вся логическая цепочка, – шепотом произнесла сфера Сониным голосом.
– Я не нищий!
– А кто ты? – Сонин голос прокатился внутри полой фигуры и выскочил наружу. Не все женщины готовы предъявить мужчине свой материальный аусвайс, кормить семью, задумываться, что будет есть завтра их беременный муж. Это не их задача. Когда надо выбирать между «умный» и «работящий», я тоже выберу, пожалуй, второго. Это же только в сказках Иван-дурак сначала на печи. В жизни на печи умный, который и есть дурак. А дурак на печи гораздо позднее и потому, что уже все заработал. Помнишь такой анекдот: «Студент обращается к профессору: «Я во сне очень часто вижу, как становлюсь профессором. Что мне делать, чтобы сны стали реальностью?»
– И что ответил профессор?
– Меньше спать!
– Ты надоела мне сниться. Преследуешь меня, как задурманивающий кошмар. Устал тебя убивать в себе, вытравливать тебя из снов. Но все же нашел обезболивающее – засыпать без них и без тебя.
– Кстати, может, шампанского? – Соня протянула откуда-то взявшуюся бутылку.
– Нет. Оно только в голову дает, и все.
– Какие-то странные у тебя к нему требования. Денег оно, конечно, не дает. Тогда коньяк!
И она уже наливала его в бокалы.
– Нейтралезнись!
Глеб почувствовал, как выпитое обожгло желудок, запекло и зашипело внутри, как подданный жар на каменке. Постепенно проявился тревожно-странный и знакомый привкус, сохранившийся в памяти еще из детства, когда отрывались языком от десен молочные зубы, когда в драке разбивалась губа. Из уголка рта выступила капля темной крови со сладким, сакральным, волнующим, родным и пугающим одновременно привкусом.
– Я не кошмар. Я праздник. Пусть не каждый день, не через день, но ведь через два точно.
– Надоело все.
– Немудрено, когда не знаешь, чего хочешь, а время неумолимо вылизывает тебе плешь на голове, когда пропитан химерами, как коньяком, оглушен иллюзиями, шаблонами, стереотипами, вбитыми в голову с детства. Хочется не то быть распростертым в заоблачной дали, не то саму эту даль приблизить к глазам, а потом в чем-нибудь погрязнуть глубоко-глубоко, то кинуться оземь с криками бляха-муха, а вместо этого впадаешь то в забытье, то в детство, то в передряги, то в унижение, то в абстракцию, то в оскопление, то в оскорбление и обструкцию. И жаждешь смерти от пронесшегося мимо тебя младенца на трехколесном велосипеде и помпезных похорон с красивым гранитным памятником, где ты на коне, попирающий копытами змея на набережной. Ты никого не можешь контролировать, ты же знаешь. Только себя.
Мимо с бешеной скоростью пронесся поезд. Ветер раскачивал люстру и звенел кольцами от штор.
– Мы ведь не будем серьезно разговаривать прямо здесь, в метро?
– Не будем. Но знай, что в этом городе нет мест для серьезных разговоров. Все серьезные разговоры ведутся здесь в самых неподходящих местах.
– Хорошо. Я от многого освободился. Я сдвинулся с мертвой точки. Как ты и хотела.
– И возможно, что зря это сделал. Или тебе это только показалось. На самом деле я не турбоподдув. Ты считаешь меня жестокой, я уязвляю, но это единственное орудие, которое явлено через меня, чтобы отрезвлять.
– Еще Белинский писал, что горе маленького человека больше и горше только от того, что он готовился быть великим. Но я-то… я не готовился! Я и не хотел им быть изначально. Я нонконформист.
– Дурак ты, а не нонконформист.
– Сейчас дураками никого не называют, теперь это человек с гуманитарным складом ума.
– Мне все равно. И нежелания, и страхи твои не быть кем-то мне понятны. Бояться надо не делания, не ошибок, бояться надо бездействия. Сколько еще ты просидишь в скорлупе? Помнишь слова Гамлета? Он сказал: заключите меня в скорлупу ореха, и я буду чувствовать себя повелителем бесконечности[55]55
У. Шекспир «Гамлет». Акт 2. Сцена 2.
[Закрыть]. Стремись, отрывайся чугунными ногами от земли, пора. Свобода занимает внутри место вытекающих слез. По-моему, теперь ты стал еще более зависим от второстепенного, которое выдвинулось на первый план. Тебе не удается не упираться по мелочам, воображая, что ты уже избавился от большого, ты негибок, ты постоянно зависим от чего-то, ты цепляешься, ищешь опору. Ты не прозрел, а окосел. При этом остался слеп и с одной неверной дороги, сделав много шагов в сторону, таких шагов, которые сами по себе верные, но нелепые, ушел бог знает куда, как сбившаяся с курса эскадрилья американских бомбардировщиков «Эвенджер» в Атлантике. И если их гибель стала легендой и легла пятном на Бермудский треугольник, внушающий мистический ужас, то твоя масляным пятном так и останется на тебе.
Твой путь единственно возможный. Никто не может сделать так, чтобы ты захотел. Никто не может везти тебя на себе долго. Бессмысленно пихать в рот рыбу человеку, объявившему голодовку. Между нами холодные воды грязной реки, ты на одном ее берегу, я на другом, но это только наше положение. Больше ни о чем это не говорит. Я не хочу оглядываться, подбодрять, кричать тебе туда, на тот берег, следить за курсом, останавливаться и ждать, пока ты сделаешь всего один шаг. На каждом из нас с самого рождения уже натянута шагреневая кожа. И ее суть – сокращаться. Ты… ты со мной безнадежен. Может быть, потом когда-нибудь кто-то другой, кому повезет больше или меньше, позволит тебе найти в себе силы измениться. Гигантским своим экскаватором я вычерпала тебя до самого дна самого глубокого ущелья. До меня и со мной ты все так же стоишь в бетонном тазу. Тебе надо пережить что-то, чтобы взбодриться, разозлиться над этой вампукой, иначе взглянуть на созданное тобой. Возможно, сломаться. Мы намертво сковали друг друга фотографиями из прошлого. Нельзя столько времени любить одну и ту же женщину!
– Но и совсем разлюбить невозможно. Боль, как от выстрела. И я в первый раз прошу уважать свои чувства и убрать свои ноги с моей боли. Если ты вдруг захочешь остаться со мной, очень прошу, так больше не надо. Когда мне говорят: «Респект тебе, это очень хорошие мысли». Я теперь говорю: «Да не надо мне ваших респектов. Я сам себе сделаю свой респект». Только скажи, разве нельзя двигаться параллельно в одном направлении и на разных берегах?
– Как было раньше, уже нельзя. Когда двое идут по канату, ты же сам рассказывал, это очень хорошая аллегория, они держатся за руки – это важное условие. Надо чувствовать друг друга, тактильно буквально. Это условие, с которым я согласна, когда речь идет о паре. В противном случае я склонна признать, что отношений нет.
– Ты бросила меня.
– Разве ты предмет? Ты сам по себе, я сама по себе. Нельзя быть на разных берегах слишком разных рек и считать это близостью, рассматривая друг друга в бинокль. Просто я продолжу движение, больше не буду ждать, буду реже останавливаться и уже не на каждый твой крик оглянусь. Не все до меня долетит. Я не могу стоять на месте, часто простужаюсь, у нас сырой климат и ветер – он меня продувает насквозь. Я должна позаботиться о себе и двигаться дальше. Надо вернуться к одиночеству достойно, с высоко поднятой головой, в хорошем расположении духа. Помнишь, ты читал мне Лабрюйера? Я запомнила тогда два его высказывания, нашла их и выписала. Первое про то, что все наши беды проистекают от невозможности быть одинокими. И второе, что мы так же не можем навеки сохранить любовь, как не могли не полюбить.
Видишь пару в окне напротив? Они обнимаются и целуются. Это их первая ночь. Еще вчера он жил своей жизнью, а завтра она скажет, что он изменяет ей. Как думаешь, действительно можно завтра изменить человеку, которого встретил только вчера? А если это три дня, месяца, год? Время меняет что-то? Этот мужчина родился преданным кому-то? Ей? Его ей подарили? Кто? У него в паспорте написана эта принадлежность ей? Он знает, на что идет с этой женщиной, как считаешь?
– Но ведь если отношения серьезные, значит, должна присутствовать верность.
– Должна, но не обязана. Возможно только ее добровольное наличие. А если ее нет, значит, нет и серьезности намерений. И не факт, что у того, кто изменяет. Он может быть очень чувствительным, и это его реакция на фальшивую верность. Верность никчемную, обманчивую. Что, если уяснить, что нет такого слова «измена»? Она человек, он человек. Между нами может случиться любовь, дружба, ненависть, ссора. Они идут каждый своим путем, которые вдруг на какой-то момент пересеклись. Завтра пути расходятся. Появляются другие партнеры. Как думаешь, измена остается?
– Не знаю. Ты уже нашла себе кого-то?
– Это важно? Гораздо страшнее то, что я не нашла с тобою себя, тебя. Можно пройти триста пятьдесят тысяч километров, прожить тридцать пять лет и не испытать счастья взаимной всепроникающей любви, этой святой силы. Вот что по-настоящему страшно. Ой, утки прилетели, смотри! Но никто не виноват.
Он в самом деле увидел уток, плывущих по глади пруда, нарисовавшегося на стене.
– Уточки все серые, а селезни красивые и яркие. Селезни красуются и выбирают себе уточек, а уточки их не замечают. У людей же все наоборот. Уточки наряжаются в селезней и сами кидаются на них. Поэтому прилетает птица Обломинго. А черви? Помнишь, ты же рассказывал мне про червей? У червей-женщин повышенная температура, они просто лежат в земле и знают, что готовы к оплодотворению и что их самих найдут и оплодотворят. Вот и я. Буду лежать, знать, ждать, готовиться.
– Поцелуй меня, пожалуйста.
Соня невидимыми переливающимися голограммой губами поцеловала его, и он удивился, что ничего не почувствовал. Ничего совершенно.
– Я в блестках теперь весь?
– Не беспокойся. Блестки только мои, они не передаются половым путем.
– Раньше, когда я был невинным ребенком, я думал, что беременеют от поцелуев. Потом думал, что не важно кто – девочка девочке, мальчик мальчику или папа маме передают во рту малюсенький бесхвостый эмбрион, его глотают, и он попадает в живот, там живет-растет, и вот вам киндер-сюрприз.
– А сейчас?
– Сейчас я думаю, что дети – поцелуй Бога, награда и испытание одновременно. Не все его способны оценить, не каждый его выдерживает. А контрацепция – это не просто свобода от деторождения. Это конец света. Я теперь знаешь чего опасаюсь? Влюбиться в эту двадцатилетнюю чернокожую девочку, которая меня возьмет в оборот. А главное, что я этого уже хочу и готов, а значит, в оборот этот сам отдамся. И она проглотит поцелованный эмбрион, и он родится сыном и испортит нам жизнь. Потому что я не люблю ее. Совершенно.
Он откинулся назад, и в глазах у него запрыгали озорные мальчики. Они прыгали и устремлялись в какие-то иные дали, как на картинах Шагала, поднимаясь высоко-высоко над землей.
– Ты слишком большую ответственность возложил на себя за свое рождение.
Она стала подниматься вверх.
– Не страшно. У крыши подвижная позиция. Не улетай! Останься! – крикнул он что было сил, и угрожающим эхом обрушился на него чужой, незнакомый ему собственный голос.
– Мне пора. Помнишь слова Изабеллы у Моруа? Кажется, что, если бы удалось сохранить тебя, я знала бы, как дать тебе счастье. Но наши судьбы и наша воля почти всегда действуют невпопад. Многие люди используют свой речевой аппарат не по назначению, они едят и говорят не то, что нужно, не то, что думают, не то, что хотят. Они говорят для того, чтобы обмануть себя своим собственным ртом. Я никуда не ухожу и все время рядом. Даже если я загораю на пляжах Копакобаны в Рио, даже если физически на другом континенте, если ментально перемещаюсь в другие миры. Мы хорошо общаемся и понимаем друг друга только на расстоянии, быть вместе нам вовсе не обязательно и даже вредно. Сейчас самое время хорошенько толкнуть меня для ускорения. Мне необходимо полетать. Наш экипаж прощается с вами. – Она произнесла это тоном стюардессы. – Сэкономь мне силы. Толкай же скорее. С этого момента счастье в твоих мозолистых руках. И еще, запомни одну очень важную вещь. Невозможно сделать свою личную жизнь гармоничной и полноценной, презирая родителей.
Глеб некоторое время молча смотрел на нее, голубка, взмахнув крыльями, покатилась на пол белым шаром к его руке.
– Глупо говорить «прощай», – прошептал шар. – Встреча всегда может состояться в самый неожиданный момент. «Недолюбленное наверстаем», – говорил Владимир Владимирович.
Он нащупал под подушкой приспособление для толчка, привстал и с вязкой силой, мешающей осуществлению движения, толкнул шар. Шар захохотал, как сова, меняя очертания и распался на инь и ян.
– Молодец! – запищал распадающийся шар, превращаясь в белотелую рыжеволосую женщину. Женщина обнажила влажные поблескивающие ровные зубы, и в уголке ее рта появилась красная струйка, продлевающая прекрасную улыбку.
Его ладонь мгновенно красиво окрасилась, заиграла скользящим цветом при холодном свете льющейся в комнату луны. У него сложилось впечатление, что она сама наскочила на него, так удивительно легко утонула в ее реке его полная до бортов лодка.
И черная набоковская туша ночи ввалилась в окно души. Ей одной было открыто это окно и пущена на воду лодка. И на этой лодке откуда-то из-за шкафа выплыл вдруг сам черт, как в детстве – страшный, черный, косматый, с хвостом и копытами, из тех, что в сказке о Попе и работнике его Балде сидел в озере.
– Чего ты хочешь? – спросил черт, не открывая рта.
– Только одного, пусть она изменится и станет только моей.
– Всегда есть средство женщину к себе привязать. Пленить – значит сделать ее пленницей, не насилуя. Всяк пленник и раб страстей своих. Раскрою полсекрета. Сами, сами они все принесут. Никакой другой нет тут науки. Женское «дать» и «осчастливить» собой так велико, так само от себя множится и так этим само забавляется, что нет ему равных по силе собственного заблуждения, оно сильнее молитвы, сильнее наговора. Они будут давать, а ты не бери, отказывайся, а коли берешь, так покажи, что только через то, чтобы сделать ей лишь приятно. И главное, не часто. Ненавязчивое внимание и спокойное сохранение дистанции, как лед в стакане с кипятком, сбивают с толку. И это касается всех областей человеческих взаимоотношений. Участие, внимание и холодная стена с капающими сосульками на настырном солнце. Весна неотвратима, говорит такая заманчивая картина женщине. Ее весна. А там, где немалые труды тратятся на разогрев, уже родятся и чувства, и привязанность. Вот, например, возьми плотскую любовь. Она должна хотеть ее с тобой и чувствовать, что ее желание больше, чем твое, и подозревать, что это лишь кажется ей, что на самом-то деле ты пылаешь куда как более трепетно, только не подаешь виду.
– Да откуда же она это почувствует?
– Изнутри себя родит. Женщина удовольствие должна получать в подарок, в награду, как великое благо и освобождение, как сверхидейное удовлетворение. Если в ней открыть эту створку в ее внутренний чувственный мир, она твоя. Ну, тут уж внутрь ее и надо, брат, забраться и там исполнить страстный танец. И за этот танец она отдаст многое, себя отдаст. И уж потом только не мешай ей. Гоголь еще писал: «Коварное существо – женщина! Я теперь только постигнул, что такое. До сих пор никто не узнавал, в кого она влюблена: я первый открыл это. Женщина влюблена в черта. Да, не шутя. Физики пишут глупости, что она то и то, – а она любит только одного черта…» Поверь мне, он знал, что говорил.
– Все эти их помахивания платком, темпераментное топанье ногой, стук похотливого веера о коленку, тахикардичные стенания, полунамеки, требования даже, и такие хорошо знакомые реакции… Одно и то же, одно и то же. Просто заводной апельсин какой-то. Отдайся сам – и тебе не позолотят рога. С холодной головой впрягайся в оглобли страсти, и выдолбленная колея не поглотит тебя. Пока еще ходят бартерные поезда, есть надежда на возврат. Ну, поверь, я же не желаю тебе зря зла. Наберись сил! Бессильный ты никому не нужен. Злой ты будешь под моим покровительством, а добрым тебе не стать все равно. Добро на откуп злу дается. Давай начнем со зла. Fanfaron de vice[56]56
Фанфарон зла.
[Закрыть] – звучит? Ну, рассуди же сам. Зачем ты никакой кому-то? Что с тобой делать в быту? Ты же не высокохудожественный кинематографичный полустатуй даже из группы «Рабочий и колхозница», на котором можно сушить в жару исподнее. А Соня твоя ваяет такие группы, что ей с тобой едва ли будет интересно переждать ливень в солнечный погожий день. Посмотри, к тебе цементом сама приклеивается недостающая, отбитая вандалами часть. И? Сделай же поступок. Удиви меня, наконец, предпасхально. Покрась хоть однажды нужные именно в этом случае яйца. Я хочу зрелищ! Всклокочь редеющую харизму, побрей самолюбие, отпусти, где надо, бакенбарды до колен, подними молот до уровня серпа. Посмотри прекрасные гравюры Доре на досуге, на тему библейских сюжетов. Вот вам меч, Волобуев. Ну же! Как он там говорил? Дай Бог памяти, как говорится. – Черт расплылся в саркастической улыбке и с пафосом произнес: – «Талифа куми!» Она же сама будет тебе потом благодарна.
В вялых руках Глеба оказался холодный, тяжелый кованый меч, и его острый конец воткнулся в пол.
– Нет, не могу. Я фрондер, но не убийца. Когда-то где-то прочел, что женщина – это безумие во плоти, что она томится от ожидания, отчаивается, а удовлетворив свою страсть, сгорает от желания отдаться и упрекает уже за то, что ты ею овладел. Она жестока из удовольствия стать потом нежной и нежна из удовольствия стать позже жестокой. Целомудренна в пороке и невинна в сладострастии. Она лжет тебе, лжет Богу, лжет сама себе. Она не вовлечена в жизнь, она играет. Мужчина – организованный мир. Женщина – незавершенная вселенная. В ней все неожиданно и все ненадежно. Нужно или бежать от нее, или отказаться от власти над ней.
Черт раздосадованно вздохнул:
– Тотализатор, однако. Сыграю, пожалуй, девяносто восемь против двух, что ты и этот шанс спустишь в унитаз. Бежать… Знаешь, откуда я это знаю? Ты предсказуем, как шарахающаяся от каждого шороха в кустах девственница. Отдавай меч назад. От тебя непременно должно разить перегаром – запахом внутренней неудовлетворенности. Сыграй, сыграй в эту игру недовольного собой и миром, потерянного, зависимого, никому не нужного. «Это придаст вам сил». Санта-Мария, как это пошло…
И черт, мелькнув рыжими кудрявыми прыгучими прядями, исчез, хитро блеснув зеленым глазом с накрашенными ресницами. Меч, брошенный им, больно ударил в ногу. Глеб вздрогнул от неожиданной боли, дернул со всей силы ногой и разбудил сам себя. Его вырвало кровью в коридоре между кухней и туалетом. Черной, запекшейся, обильно и облегченно. Он смотрел на лужу крови и говорил с ней, обращаясь к ней по имени…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































