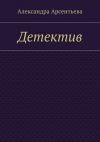Текст книги "Ф. М."

Автор книги: Борис Акунин
Жанр: Исторические детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Он затрясся в приступе злобного хохота, и стало окончательно ясно: мерзавец издевается. Где рукопись, отлично помнит, но говорить не намерен. Наплевать ему теперь и на больного сына, и на былого кумира Достоевского. Да и на деньги тоже. «Сжег всё, чему поклонялся», вспомнил Ника строки (кажется, тургеневские), процитированные доктором.
– Шеф, – сказала Валя, оглянувшись на дверь, – а давайте я этому гаду по ушам надаю. Отлично освежает память.
Саша всхлипнула:
– Не надо! Пожалуйста!
– Преданная дочь молит за отца. Я растроган, – продолжала веселиться жертва синдрома. – Хочешь, Сашок, отдам тебе эти бумажки? Мне-то они даром не нужны.
– Отдай, папа. Скажи, куда ты их спрятал.
Девушка смотрела на отца с такой мольбой, что, казалось, и камень бы дрогнул.
– Скажу, скажу. Но не за здорово живешь. Развлеки больного папочку. Расскажи что-нибудь пикантное, с порнушечкой. Ты ведь у меня девочка-дюймовочка, целочка-переспелочка. А гормончики-то тоже попискивают, гипофиз или что там подкачивают (ты про это у доктора спроси). Тельце соком наливается. Неужто никогда о **** не думаешь, девственница ты моя Орлеанская? Ду-умаешь, еще как думаешь. А если думаешь, то неужели в постельке там или в ванной ручонками не пошаливаешь? Опиши, с физиологическими подробностями. Тогда и я тебе про рукопись расскажу. Ну, давай.
Он сглотнул слюну и отвратительно оскалился. Дочь стояла, опустив голову.
– Молчишь? Не хочешь сделать больному старику приятное? Тогда катись в *****. Вместе со своим Илюшечкой.
Саша в ужасе попятилась.
– Алё, папаша, – вышла вперед Валя. – Хочешь порнушки? Тогда не по адресу обращаешься. Давай я тебе расскажу, из личного опыта. А-ля карт, на любую тему.
Филолог-расстрига брезгливо фыркнул.
– У вас, нелепое создание, не получится. Тут ведь главное не фабула, а исполнение. В нем, выражаясь по-еврейски, самый цимес. – Старикашка облизнулся. – Чтоб со стыдливым румянцем, с дрожью в голосе. Голенькая перед всеми. И чтоб потом со сраму под землю провалилась. Вот что возбудительно. А вы с вашей дешевкой.
На Сашу было невозможно смотреть – она допятилась до самой стены, вжалась в нее и вся окоченела.
– Послушайте, вы, больной… – яростно начал Николас, но сдержался. Ведь в самом деле больной человек, что с него возьмешь? – Перестаньте издеваться над девочкой. Иначе я вызову охранника, и на вас снова наденут намордник.
– Да как же я в наморднике про рукопись-то расскажу? – удивился Морозов и вдруг с интересом принялся разглядывать Фандорина. – А, может, вы? У вас хорошо получится, по глазам вижу. Давайте, расскажите что-нибудь самое стыдное, самое неприличное из вашей жизни. Да смотрите, не обманите. Не подсуньте какую-нибудь фальшивку. Мне правда нужна, брехню я сразу распознаю. И в ответ тоже навру. Ну, валяйте. Про самое непристойное. Только обязательно с сексиком, а не про то, как вам на улице приспичило и вы в чужом подъезде нагадили. Это не засчитаю.
– Идемте отсюда, – махнул Николас девушкам. – Ничего он нам не скажет.
– Нет, погодите! – Саша бросилась к нему, схватила за руку. – А как же Илюша? Я бы ему рассказала, я бы всё сделала! Но чего он хочет, я не могу… Не потому что не хочу, а потому что нечего. Я бы напридумывала, но… Я не умею. И догадается он.
А Морозов со своего ложа подхватил:
– Выручите девочку. Вы же джентльмен… Ой, глядите, покраснел! Сейчас отважится! Ну же, благородное сердце! Ланселот Озерный! Вперед за честь дамы!
Да ни за что на свете, сказал себе Ника, катитесь вы все… Но знал уже, что никуда он из этой проклятой палаты не уйдет. Не сможет.
– Ладно, будет вам про неприличное, – глухо проговорил он, глядя на гнусного старикашку с ненавистью. – Но если вы после этого нас обманете…
– Шеф, я ему тогда своими хай-хилами запрыгну на проблемное место и спляшу там чечетку, – хищно пообещала Валя.
Что рассказывать, Ника уже знал. Эта сцена ему до сих пор иногда снилась в кошмарах, хотя прошло столько лет: раскрывается дверь, там застыла тетя Синтия с чайным подносом в руках, и ее глаза-незабудки так и лезут из орбит.
– Просим, просим, – торопил главный слушатель.
На него-то наплевать, потому что он не человек, а диагноз, но вот остальные слушатели…
Валя уселась, выжидательно уставилась на начальника. И даже скромница Саша опустилась на стул, приготовилась слушать: уперлась локтями в колени, обхватила щеки ладонями.
Впрочем, в ту сторону Фандорин старался не смотреть. Сдавленным голосом, едва шевеля губами, он начал:
– Я давно взрослый, но про это никогда никому не рассказывал.{16}16
Автор намеревался опустить этот рассказ, руководствуясь соображениями благопристойности, однако это было бы нечестно по отношению к читателю и главному герою.
Зря, что ли, он вынес такую муку? Да и история-то, в общем, детская.
…Сдавленным голосом, едва шевеля губами, он начал:
«Я давно взрослый, но про это никогда никому не рассказывал. Вроде глупость, ерунда, а не мог. Шок, перенесенный в детстве, не забывается… Хотя нет, один раз все-таки рассказывал – психиатру, и это было ужасно. Но психиатр не считается, у меня не было выбора… В общем, так. Мне было одиннадцать лет. Мы приехали погостить к тете Синтии, в Борсхед-хаус, это ее поместье в Кенте… Понимаете, я вырос за границей, в Англии… Ладно, это к делу не относится.
Хм.
У тети Синтии было очень скучно. Она жила – собственно, и сейчас живет – в старинном доме, среди огромного парка. Там всё очень чинно, чопорно, полный дом прислуги… Нет, это тоже не важно. Существенно одно: мне было одиннадцать лет, и я ужасно скучал.
Да.
От скуки подружился с двумя девочками, примерно моего возраста. Не то чтобы подружился – играли вместе. Больше ведь никого из детей не было. Одна была дочкой садовника, другая дочкой горничной…»
– Так-так, две цыпочки-лолиточки, – азартно подбодрил замолчавшего рассказчика Морозов. – Уже интересно. Валяйте дальше.
«Как звали вторую девочку, не помню, а дочку садовника звали Твигги. То есть это она сама себя так называла. В те годы у нас – то есть не у нас, а у них в Англии – была такая актриса и модель, очень модная. Смешная худышка, все по ней с ума сходили. И девочки все хотели быть, как она. „Twiggy” значит „веточка”, и эта девочка, дочка садовника, была под стать имени – тощенькая такая, но бойкая. А подружка, наоборот, толстая, но робкая, рта почти не открывала, только хихикала. Твигги вертела ею, как хотела.
Обычно мы играли в нормальные детские игры. А однажды у меня в комнате Твигги предложила сыграть в «Freeze Game». В России такая игра тоже есть, мои дети играют. «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Морская фигура, на месте замри». Кто водит, должен застыть на месте и ни за что не шевелиться, иначе штраф.
Твигги была озорная. Все время меня задирала, подначивала, дразнила чистоплюем и барчуком. Меня это задевало. Давай, говорит, сыграем на wild wish, у нас это называется «на американку», то есть на любое желание. Слабо, говорит?
Играть с ней на американку я опасался, но и трусом выглядеть не хотел. В общем, согласился. Сцепились мизинцами – был у нас такой ритуал – и дали честное слово от расплаты не увиливать.
Хм.
Сначала водила Твигги. Я сказал: «Freeze!». Она застыла Толстушка начала громко считать до пятидесяти, а я, как положено в таких случаях, принялся корчить рожи, чтоб Твигги засмеялась и тем самым проиграла. Не подействовало. Попробовал ее щекотать – терпит. Дунул в нос – ей нипочем. Делать больно по правилам игры нельзя. Моя фантазия иссякла, тут и время кончилось. Настала моя очередь водить.
Я приготовился к таким же невинным измывательствам, но Твигги сразу, прямо на счете «раз», сдернула с меня шорты вместе с трусами, и я впервые в жизни оказался перед девочками голым…»
– Ну, что вы замолчали? – заизвивался в своих путах омерзительный доктор филологии. – На самом интересном месте. Дальше!
«Дальше… Я залился краской, завопил от возмущения, поскорей натянул трусы. А девчонки хором: «Проиграл, проиграл! Выполняй желание!»
К честному слову я уже тогда относился серьезно. Умер бы, но не нарушил. Ладно, говорю, выполню, хоть это было и нечестно.
Думал, Твигги хочет выцыганить у меня какую-нибудь вещицу – очень ей моя никелированная авторучка нравилась и набор фломастеров. Но я ошибся…
Нет, это еще не то, что вы думаете. Твигги сняла сандалию, сунула ее мне под нос и потребовала, чтобы я лизнул языком пыльную подметку.
Делать нечего, лизнул.
Она говорит: хочешь реванш? Вожу я. Если шевельнусь – продула. Нет – продул ты. А кто продул, получит десять раз ремнем по голой попе (она произнесла грубое слово, которого я, мальчик из приличной семьи, не употреблял).
И я согласился. Я был ужасно зол за подметку и хотел поквитаться. Ну а кроме того, если быть честным…
Хм.
В общем, это естественно для одиннадцатилетнего мальчика. Я подумал, что, когда она будет водить, я сделаю с ней то же самое, что она со мной.
И все началось снова. Толстая подружка, подхихикивая, начала считать до пятидесяти. Я уверен, что они проделывали этот фокус и с другими мальчишками, но тогда я об этом не думал…
Я снял с Твигги штаны – она была в джинсах. Стянул детские, в цветочек трусы…»
Морозов причмокнул.
– Как говорится, с этого момента подробнее! Что вы там увидели?
«Да что там можно было увидеть? Какие-то едва пробивающиеся перышки. Ну, бедра торчали, жалостными такими косточками. Мне стало очень стыдно, а Твигги стояла неподвижно, и хоть бы что. Я отвернулся. Снова посмотрел. Опять отвернулся. Тут и счет закончился. Так мне и не удалось ее расшевелить. Я проиграл.
Пришлось расплачиваться, согласно уговору. Я облокотился об стул, Твигги взяла ремень, стала хлестать меня по голой заднице со всей силы, очень больно.
В самый разгар экзекуции открылась дверь, и заглянула моя аристократическая тетя. Решила угостить деточек чаем со сливками.
Это было ужасно…»
Он стоял весь красный и только утирал со лба пот, не в силах продолжать. А Филипп Борисович кис со смеху – он мог быть доволен: рассказчик и в самом деле был готов со стыда провалиться под землю.
Вот, собственно, и вся пропущенная история.
[Закрыть] Вроде глупость, ерунда, а не мог. Шок, перенесенный в детстве, не забывается… Хотя нет, один раз все-таки рассказывал – психиатру, и это было ужасно. Но психиатр не считается, у меня не было выбора…
Мямлил, сбивался, но до финала истории так и не дотянул. Он стоял весь красный и только утирал со лба пот, не в силах продолжать. А Филипп Борисович кис со смеху – он мог быть доволен: рассказчик и в самом деле был готов со стыда провалиться под землю.
– Ну а дальше, дальше что? – урча от удовольствия, спросил больной. – Что вы замолчали на самом интересном месте?
– Дальше был кошмар. – Ника содрогнулся от одного воспоминания. – Тетя вообразила, что я маленький извращенец. Рассказала маме. И меня отвели к детскому психиатру. Выслушав меня, врач сказал, что я совершенно нормален и успокоил маму. Папа-то и так не особенно взволновался. Но тетя Синтия до сих пор пребывает в убеждении, что я препорочнейшее существо, только умело это скрываю… Вот вся история. Ничего стыднее и непристойнее со мной в жизни не случалось…
Валя, мерзавка, захихикала.
– М-да. Детский сад, – резюмировал Морозов. – Не знаю, Николай Александрович, что мне с вами и делать. Рукописи великого писателя этот пустячок явно не стоит.
Не впечатлил рассказ и Валю.
– Да, шеф, скучно вы жизнь прожили. Эй ты, урод! Хочешь я в довесок расскажу, как голосовала на дороге из Мехико в Акапулько и меня подвез цирк лилипутов? У Достоевского такого не прочитаешь.
– Отстань, ошибка природы. Не мешай думать, – сказал Филипп Борисович. Похоже, он замышлял какую-то новую каверзу – во всяком случае, его бледный, почти безгубый рот все шире растягивался в пакостной улыбочке. – Что же мне с вами, Фандорин, делать? – повторил он.
– Как что делать?! – взорвался Ника. – Я выполнил ваше требование! Теперь вы должны объяснить, где спрятана вторая часть рукописи!
– Сюжетец, который вы рассказали, очень слабенький. Даже не знаю, как с вами быть… – Морозов хихикнул. – Ух, как глазами-то сверкает – прямо убил бы.
Николас и в самом деле сейчас ненавидел этого подлого психа так, что, пожалуй, не возражал бы, если б Валя немедленно приступила к осуществлению своей кровожадной угрозы насчет чечетки.
– С другой стороны, с паршивой овцы хоть шерсти клок, – всё куражился достоевсковед. – Засчитаем и нравственные муки, и английское воспитание. Однако на полноценный гонорар не рассчитывайте. Вот чем я с вами расплачусь. – Глаза садиста заиграли веселыми искорками. – Загадаю загадочку. Если раскумекаете – найдете рукопись. Не хватит серого вещества – сами виноваты. Загадочка простенькая, для среднеразвитого интеллекта. Ну как, годится?
– Давайте свою загадку, – угрюмо сказал Фандорин, отлично понимая, что без выкрутасов сумасшедший всё равно ничего не скажет.
Взглянул на девушек. Валя была наготове – вынула из кармана диктофон. Саша поднялась со стула, на ее личике застыло странное выражение: тут были и надежда, и недоверие, и страх.
– Готовы? – Морозов подождал, пока Ника откроет блокнот. – Сначала так:
И сказал ему Му-му:
«Столько я не подниму,
Не хватает самому.
Так что, Феденька, уволь-ка.
Хочешь, дам тебе полстолько?
Но и только, но и только».
Не успев записать эту рифмованную белиберду, Николас в тревоге посмотрел на Валю. Та кивком успокоила его: нормально, звук пишется.
– Потом посчитай его, – прикидывая что-то, продолжил Филипп Борисович. – Потом… Голову отстегните. Показать надо.
Это противоречило инструкциям главного врача, но препираться было не время.
Подойдя к кровати, Фандорин расстегнул ремень, стягивавший лоб пациента, и поскорей отскочил – еще цапнет.
И правильно, что отскочил!
Вывернув шею, безумец вгрызся острыми желтыми зубами в подушку, вытянул из нее перышко и дунул. Пока оно, крутясь, опускалось на пол, Морозов попробовал высвободить руки – его пальцы отчаянно сжимались и разжимались, хватаясь за простыню, и продолжалось это довольно долго. Наверное, с полминуты.
Ника уже хотел кликнуть охранника, но тут филолог угомонился. Еще какое-то время шевелил пальцами, но в остальном лежал довольно смирно.
Однако вскоре затишье нарушилось.
– И наконец вот так! – крикнул Филипп Борисович, опять рывком повернул голову, отхватил зубами с наволочки пуговицу и выплюнул прямо в Нику.
– Спокойно, спокойно! – сказал тот, отодвигаясь еще дальше. – Вы должны закончить вашу шараду.
– А всё уже, – мирным тоном сообщил ему больной. – Теперь пускай Сашка подойдет.
– Саша, стойте, где стоите! Зачем вам Саша?
– Я ей ***** отжую! – диким голосом взревел бесноватый. – Закусаю, залижу до смерти! Иди сюда, ***** ******! Ко мне иди-и-и-и!!!
Бедная девочка с криком ужаса бросилась вон из палаты, а доктор филологии, выгибая длинную жилистую шею, истошно завыл:
– У-у-у-у!
Сопровождаемый этим жутким воплем, Николас выбежал за Сашей.
6. FM
План действий был такой.
Первым делом ехать в Саввинский. Наведаться к Рулету – не вернулся ли. Если вернулся, вытрясти из него начало рукописи (это брала на себя Валя).
– Надо бы сдать его в милицию, ведь он совершил тяжкое преступление, – сказал Николас, но его законопослушность поддержки у девушек не нашла.
Саша робко спросила:
– А если он там про рукопись расскажет? Папа говорил, про нее надо молчать, а то могут отобрать. Это ведь не кто-нибудь, а сам Федор Михайлович…
Валя руководствовалась иными соображениями:
– Я бы ширяле нашему медаль дала за то, что он этого урода по башке стукнул. Надо бы посильнее.
Обе были правы, каждая по-своему, поэтому Ника спорить не стал.
– Если Рулета не застанем, просто завезем Сашу домой. Потом мы с Валей поедем в офис и попробуем разобраться в этом, с позволения сказать, ребусе.
– Чего там разбираться? – удивилась Валя. – Псих над нами прикалывался, это ж ясно.
– Пожалуйста, не надо так про папу, – попросила Саша. – Он не «урод» и не «псих». На самом деле он очень хороший. Именно поэтому он и получился такой плохой. Это японец виноват, который синдром придумал. Вы видели не моего папу, вы видели папу наоборот! Николай Александрович, ну скажите ей!
– Да-да, – пробормотал Фандорин. На Сашу всё это время он старался не смотреть – стыдно было, после своего публичного стриптиза. – Вы поезжайте вдвоем на Валиной машине, а я следом.
– Я с ней не поеду, она на папу обзывается. Я с вами! – объявила девочка и демонстративно отвернулась от розового «альфа-ромео».
Я взрослый человек, сказал себе Николас. Не надо делать вид, будто ничего не произошло. Саша была свидетельницей моего позора, и нечего прятать голову в песок. Лучше, если мы про это один раз поговорим и забудем. Обоим станет легче. Главное честность и правильная интонация.
– Вы же понимаете, я был вынужден рассказать при вас это похабство, – начал он, когда они отъехали от клиники. – А теперь стыдно смотреть вам в глаза. Этого он и добивался, скотина! Ой, извините. Сорвалось.
Он виновато взглянул на Сашу. Она тоже на него смотрела, но ни смущения, ни смятения в ее глазах не было.
– А я не слышала, что вы ему рассказывали. Я подумала, вам это будет неприятно. Села вот так, зажала пальцами уши. – Она показала. – И убрала, только когда вы закончили говорить.
Черт, а ведь она говорит правду, понял Николас. С таким взглядом не врут. Да эта девочка, кажется, вообще врать не умеет.
– Есть какие-нибудь предположения относительно загадки? – спросил он, чтобы поскорей сменить тему. – Честно говоря, я в полном недоумении. Какое «столько-полстолько»? Что надо посчитать? При чем тут Му-му? Я даже не понял, в какой момент загадка кончилась и начался очередной… приступ, – подобрал он слово поделикатней.
– Я тем более не поняла. Я несообразительная. Вы только учтите вот что. Папа всю жизнь занимался одним Федором Михайловичем.
Загадка наверняка тоже про него.
* * *
Дверь в квартиру была нараспашку. Николас заглянул в коридор и вскрикнул. На линолеумном полу лежало неподвижное тело. Из-под задравшегося халата торчали варикозные ноги, в безжизненно вывернутой руке был стиснут стакан. Квартирная хозяйка!
Валя быстро прошла вперед, наклонилась. Присвистнула.
– Отрубилась не по-детски. Реанимировать бесполезно, до завтра не прочухается. Эх, много я ей дала. Хватило бы двадцатки, на пиво.
А Рулет, похоже, не появлялся. Где его черти носят?
Проводили Сашу до подъезда (она жила через двор, в доме напротив), поехали на Солянку. По дороге, чтобы не терять времени, переговаривались по мобильному.
– Саша права, – размышлял вслух Фандорин. – Загадка про Достоевского. «Феденька» – это, конечно, он.
– «Му-му» опять же, – подхватила Валентина. – Я кино смотрела. Там мужик один, глухонемой, собачку утопил, ее Му-му звали.
При знании нескольких иностранных языков, всяких компьютерных штучек и китайско-корейских мордобойных премудростей фандоринская секретарша была поразительно несведуща по части литературы. Из чтения признавала только глянцевые журналы и цветные таблоиды.
– «Му-му» написал Тургенев. Эх ты, невежда.
Фандорин рассоединился, чтоб не мешала думать.
Схема дальнейших действий понемногу вырисовывалась.
Остановился у книжного супермаркета, купил компакт-диск «Весь Достоевский», выпущенный издательством «Культуртрегер» – как раз то, что нужно.
В офисе усадил Валю за компьютер, велел задать поиск по всем текстам Достоевского на слова «Му-му», «Феденька», «полстолько», «подниму». Сам же решил заняться биографией классика. Дома, на литературоведческой полке, стоял отличный двухтомник «Достоевский и его окружение». Ежедневная мука – урок музыки – уже закончился, дочку из театрального кружка сегодня обещала привезти жена, потом она до вечера уедет в редакцию. Значит, можно спокойно поработать. Геля девочка самостоятельная. Сама поужинает, а потом будет сидеть у себя в комнате, читать книжку или общаться со знакомыми по интернету. В последнее время она стала какая-то непривычно тихая. Надо бы найти время, попробовать ее разговорить. Но сначала ребус.
Однако дома Фандорина поджидал неприятный сюрприз.
Урок музыки, действительно, закончился, но преподаватель не ушел – Алтын поила его чаем.
– Геля позвонила, попросилась в кино. Так что у меня образовался лишний часок, – сказала она, как-то не очень обрадовавшись появлению мужа.
Нике ужасно не понравилось, как ярко блестят ее глаза. А еще он уловил запах духов, которые жена берегла для особенных случаев. Между прочим, и «часок» давно уже миновал.
Делать нечего, пришлось поучаствовать в чаепитии, иначе получилось бы неприлично.
– Слава так замечательно про музыку рассказывает! – воскликнула Алтын с совершенно несвойственной ей восторженностью. – Продолжайте, Слава, продолжайте!
«Слава»?
Лауреат мелодично позвякал ложечкой, размешивая сахарозаменитель в парадной веджвудской чашке (подарок тети Синтии).
– Ах, ну даже не знаю, как это объяснить. Я такой косноязычный, – звучным, но, на вкус Николаса, ужасно жеманным голосом заговорила знаменитость. – Когда я играю, я словно умираю. Меня нет. Мозг, тело, сердце – всё перестает существовать. Жизнь остается только здесь. – Он встряхнул своими невозможно красивыми пальцами. – Но зато её очень много, гораздо больше, чем во мне обычном. Понимаете, нет?
«Да, да!» – закивала Алтын, глядя на гения обожающими глазами.
– Мои руки живут сами по себе. А я смотрю на них и только диву даюсь. Черно-белая клавиатура, и над ней сами по себе летают две руки. Вот здесь белые манжеты, а выше – чернота. Ничего не вижу, только две руки, представляете? Это ни с чем не сравнимое чувство. Ну не странно ли? Ощущаешь себя придатком к собственным конечностям. Они будто принадлежат не мне, а какому-то иному существу. Наверное, Богу.
Похоже, Ростислав Беккер мог разглагольствовать о себе любимом сколь угодно долго. Поразительно, но жене эта напыщенная болтовня несомненно нравилась. На мужа она ни разу даже не взглянула.
Ну конечно, растравлял себе душу Ника. Идеальная пара: красивая, волевая женщина с незаурядной практической сметкой и декоративный, неприспособленный к жизни мужчина. Вроде меня, но только лучше: гораздо декоративней и в тысячу раз талантливей.
– Простите, мне нужно поработать, – сказал он, когда музыкант на секунду умолк.
Алтын рассеянно улыбнулась:
– Да-да, иди. Мы сейчас допьем чай, и я обещала завезти Славу в консерваторию. У него шофер болеет.
* * *
Ника рассеянно взял с полки первый попавшийся том Достоевского, открыл наугад. Вздрогнул.
«Чужая жена и муж под кроватью. Происшествие необыкновенное», прочитал он заглавие произведения.
Из-за двери донесся заливистый смех Алтын.
Нет, здесь не сосредоточишься.
Фандорин собрал все книги, которые могли пригодиться в поиске, и вернулся назад в офис.
Там было тихо. Не рокотал барственный баритон, не звучал терзающий сердце смех, не звенел чайный сервиз. Валя трудилась – сосредоточенно пощелкивала кибордом. Рабочий стол манил зеленым сукном. Кресло растопыривало объятья подлокотников.
Нужно забыть о чертовом пианисте, сосредоточиться исключительно на Федоре Михайловиче Достоевском.
Итак, 1865 год. Классик пишет роман «Преступление и наказание»…
Сначала забыть и сосредоточиться не получалось, но понемногу современность отступала в тень, вытесняемая событиями стосорокалетней давности.
1865 год для писателя был поистине ужасен – самая мучительная, самая унизительная пора в его жизни.
Достоевскому сорок четыре года. Еще совсем недавно он был кумиром прогрессивной молодежи и модным автором, которому издательства и журналы платили хорошие гонорары. Но умер брат Михаил, оставив массу долгов, которые благородный, но непрактичный писатель взял на себя («Я не хотел, чтоб на его имя легла дурная память»). Попытался поставить на ноги журнал «Эпоха», доставшийся в наследство от Михаила – потерпел крах. Кредиторы травили Федора Михайловича, как волка, и спасения от них не было. Векселей, требующих немедленной уплаты насчитывалось на тринадцать с половиной тысяч – сумма для Достоевского астрономическая. Выпросив отсрочку у одних заимодавцев, расплатившись (под новые долги и обязательства) с другими, бедный литератор вырвался из Петербурга в Германию. Ему нужна была передышка, а более всего – встреча с роковой женщиной всей его жизни Аполлинарией Сусловой, которая в это время находилась в Швейцарии, но обещала приехать в Висбаден. Их отношения были запутаны, нездоровы, мучительны, но жизнь без Аполлинарии представлялась Федору Михайловичу невозможной.

Аполлинария Суслова
И вот они встречаются в Висбадене. Достоевский, который теперь был свободен (его жена скончалась годом раньше от чахотки), делает Аполлинарии предложение. И получает резкий, оскорбительный по форме отказ. Как быстро и бесповоротно поменялись роли! Давно ли экзальтированная девочка упорно добивалась любви знаменитого писателя? Давно ли смотрела на него снизу вверх? Теперь она превратилась в классическую женщину-вамп, упивающуюся властью над мужчинами. Как остро Достоевский должен был ощущать всю пошлость этой ситуации! Можно себе представить, как мучила его роль персонажа из бульварного романа! (Здесь Фандорин поневоле отвлекся и снова стал думать про себя и Алтын. Вернуться мыслями к Федору Михайловичу удалось не сразу).
Зачем Суслова его так терзала? Не могла простить, что отдала девственность такому унылому, некрасивому, погрязшему в бытовых тяготах неудачнику? Или просто разлюбила?
Но почему тогда не отпустила на волю, как он просил? Зачем снова и снова сначала подманивала, а затем презрительно отталкивала? Зазывала к себе в номер, лежала на кровати раздетая, но когда он пытался ее обнять, гнала прочь.
Читая историю этой злосчастной любви, Николас сам весь исстрадался. Как же его тошнило от всех этих хрестоматийных «фаммфаталь», жадных паучих, питавшихся отблесками чужой славы. Такая вот Суслова, или Панаева, или Лиля Брик, если уж присосется, то ни за что не выпустит. Чем они пленяли гениев? Должно быть, непоколебимой и непостижимой уверенностью в своем праве на всё. Роковая женщина безжалостна и бессовестна. Несчастной ее может сделать только одно – если ей не дают того, чего она хочет. Горе мужчине, который осмелился пренебречь ее чарами. Жаждущая мести паучиха способна на любую мерзость. Аполлинария, например, однажды написала в полицию донос на молодого человека, который отверг ее домогательства, и после преспокойно рассказывала об этом знакомым.

Авдотья Панаева

Лиля Брик
Читая про Суслову, Николас начал раздражаться и на самого классика. Федор Михайлович тоже был тот еще фрукт. Вдоволь наунижавшись перед бессердечной стервой, он кинулся искать забвения в рулетке. И остановиться уже не мог. Проиграл все свои небольшие деньги. Выклянчил подачку у Аполлинарии (какой стыд!), спустил и эти талеры. В гостинице фактически попал под домашний арест: его не кормили, не давали свеч – и не выпускали, пока не расплатится за постой.
Голодный, истерзанный, он сидел в полутемной комнатушке и писал, писал, писал. Другого способа хоть на время оторваться от действительности у Достоевского не было. Не вызывает сомнений, что рукопись Морозова появилась на свет именно там, в отеле «Виктория», осенью проклятого шестьдесят пятого года.
Надежда на освобождение от висбаденского плена была только одна: занять денег у кого-нибудь из знакомых. И гостиничный узник рассылает во все стороны отчаянные мольбы о помощи. Пишет издателям, старому другу барону Врангелю, нелюбимому Герцену, даже ненавистному Тургеневу.
Издатель Катков отправил деньги, но они не дошли до адресата. Добрейший Врангель получил письмо с опозданием. Герцен из своего Лондона не ответил. Откликнулся лишь Тургенев из Баден-Бадена, да и тот прислал только часть весьма небольшой суммы, о которой просил Федор Михайлович.
Ника перелистнул страницу, стал читать дальше и вдруг застыл.
– Валя! – крикнул он через дверь. – У тебя на диске письма есть?
– Ну.
– Найди переписку с Тургеневым. За 1865 год.
И минуту спустя Ника читал с монитора, поверх Валиного плеча.
Висбаден, 3/15 августа 1865 года.
Добрейший и многоуважаемый Иван Сергеевич, когда я Вас, с месяц тому назад, встретил в Петербурге, я продавал мои сочинения за что дадут, потому что меня сажали в долговое за журнальные долги, которые я имел глупость перевесть на себя. Купил мои сочинения (право издания в два столбца) Стелловский за три тысячи, из коих часть векселями. Из этих трех тысяч я удовлетворил кое-как на минуту кредиторов и остальное роздал, кому обязан был дать, и затем поехал за границу, чтобы хоть каплю здоровьем поправиться и что-нибудь написать. Денег оставил я себе на заграницу всего 175 руб. сереб. из всех трех тысяч, а больше не мог.
Но третьего года в Висбадене я выиграл в один час до 12000 франков. Хотя я теперь и не думал поправлять игрой свои обстоятельства, но франков 1000 действительно хотелось выиграть, чтоб хоть эти три месяца прожить. Пять дней как я уже в Висбадене и всё проиграл, всё дотла, и часы, и даже в отеле должен.
Мне и гадко и стыдно беспокоить Вас собою. Но, кроме Вас, у меня положительно нет в настоящую минуту никого, к кому бы я мог обратиться, а во-вторых, Вы гораздо умнее других, а следств., к Вам обратиться мне нравственно легче. Вот в чем дело: обращаюсь к Вам как человек к человеку и прошу у Вас 100 (сто) талеров. Потом я жду из России из одного журнала («Библ. для чтения»), откуда обещались мне, при отъезде, выслать капельку денег, и еще от одного господина, который должен мне помочь.
Само собою, что раньше трех недель, может быть, Вам и не отдам. Впрочем, может быть, отдам и раньше. Во всяком случае, сижу один. На душе скверно (я думал, будет сквернее), а главное, стыдно Вас беспокоить; но когда тонешь, что делать.
Адрес мой: Wiesbaden, Hôtel «Victoria», à M-r Theodore Dostoiewsky.
Ну что если Вас не будет в Баден-Бадене?
Ваш весь Ф. Достоевский.
– Глядите, шеф, тут примечание: «И.С. Тургенев выслал пятьдесят талеров, которые Ф. М. Достоевский снова проиграл на рулетке. Долг был возвращен лишь десять лет спустя, со скандалом». Хороши классики, а? Один типичный жмот, другой типичный кидала.
– Не совсем типичные. Они еще великие книги писали, – рассеянно заметил Фандорин, барабаня пальцами по столу. – Ну-ка, включи запись. То место, где Морозов стишок читает.
Магнитофон глумливым голосишком продекламировал:
И сказал ему Му-му:
«Столько я не подниму,
Не хватает самому.
Так что, Феденька, уволь-ка,
Хочешь, дам тебе полстолько?
Но и только, но и только».
– Вот оно! Есть! – Николас стукнул секретаршу по твердому плечу – чуть не отшиб руку. – Тут имеется в виду ответ автора «Му-му» на просьбу из Висбадена. Требовалось разгадать, что такое «столько». Это число 100.
– Ну и фигли? – озадаченно посмотрела на шефа Валя. – В смысле, что это означает?
– Первый фрагмент разгадки. Тут интересно, что это числительное. Что может начинаться с цифр? Код ячейки в камере хранения? Или сейфа? Надо позвонить Саше, спросить, не упоминал ли отец о каком-нибудь вокзале или банке.
Странно. Сашин телефон не отвечал. А ведь девочка жаловалась на усталость и говорила, что никуда из дома не выйдет. Легла спать? Вроде бы рано еще.
На душе стало неспокойно. Николас попробовал работать дальше: несколько раз прокрутили запись до конца, совместными усилиями восстановили всю сцену, до мельчайших подробностей – жесты Морозова, мимика, повороты головы. Но сосредоточиться не удавалось. Дальше числа 100 продвинуться не могли. Следующая фраза сумасшедшего была: «Потом посчитай его». Кого «его»? И как это «посчитай»?
Фандорин еще несколько раз звонил на Саввинский, с интервалом в пять минут. Телефон не отзывался.
– Мне это не нравится, – в конце концов не выдержал Ника. – Давай туда съездим. Если бы Саше надо было уйти, она бы позвонила, сказала. Она же знает, что мы тут сидим и пытаемся разгадать эту головоломку.
* * *
Поехали на метрокэбе, но за руль села Валя – она ездила по Москве раза в два быстрее Фандорина, потому что не утруждала себя соблюдением правил: могла погнать по встречной полосе, смело въезжала под «кирпич», а при особенно плотной пробке не стеснялась прокатиться и по тротуару. Такая манера езды выделялась даже на фоне привычного для Москвы автодорожного хамства, и обычно Ника жестоко ругал свою помощницу за варварство, но сейчас Валина нецивилизованность была кстати.
Не обращая внимания на запрещающие знаки, автомобиль рванул напрямую, поперек Славянской площади, потом срезал еще один изрядный кусок, вторгнувшись на паркинг гостиницы «Россия», и нагло, на глазах у милиционера, нырнул под Москворецкий мост. Удивительнее всего было то, что Вале всё это сходило с рук. Милиционеру, например, она просто послала воздушный поцелуй – и служивый лишь восхищенно покачал головой, свистеть не стал.
Сашина квартира по-прежнему не отвечала, прижимавший к уху трубку Николас мрачнел всё больше. Он уже не сомневался: что-то случилось.
У Вали же рот не закрывался ни на секунду. За рулем она вечно болтала без умолку, напоминая Нике жителя Чукотки, который едет на оленях по бескрайней тундре и поет нескончаемую песню обо всем, что попадается ему по дороге.
– Во козел, сам на «Волге», а эмблему от «мерса» прифигачил. То есть, прицепил. Круто было бы наоборот: едешь на спортивном «мерсе», а на капоте олень, как, знаете, с 21-ой «Волги». Классная вещь… Ой, глядите, глядите: мужик на «мини», и, главное, гордый такой. Я понимаю, когда девушка на мужской тачке, но когда мужчина на такой финтифлюшке катит – фи. Он бы еще в «смарткар» уселся. Сто процентов гомик. Я всегда их по машинам вычисляю. Вот у меня один знакомый…

Олень с 21-й «Волги»
– Давай скорей, а? – попросил Фандорин и включил радио, чтобы не слышать Валиного потока сознания.
Да и отвык он как-то ездить без включенного радио. Смотреть телевизор Ника давно уже перестал. Нечего стало. Новости по всем каналам одинаковые, шоу одноклеточные, ну а фильмы удобнее крутить с диска.
Ника вообще стал замечать, что российское радио, казалось, окончательно вытесненное телевидением, в последнее время вступает в эпоху возрождения. Одна из главных причин – поголовная автомобилизация. Каждый день миллионы людей в больших городах и на трассах тычут пальцем в кнопки FM-диапазонов – и всякий может найти себе станцию по вкусу. Выросло целое «Поколение FM». Летом едешь с открытым окном, слушаешь музыку, несущуюся из соседних машин, и сразу понимаешь, что за человек сидит за рулем. Скажи, какую частоту ты слушаешь, и я скажу, кто ты.
Существует, правда, особая разновидность радиоманов, к которой причислял себя и Ника. Это люди, без конца перескакивающие со станции на станцию. Что-то вроде нервного тика.
Волна, на которую Фандорин угодил с первой попытки, носила странное название «Узкое радио-2» и исполняла нечто удивительное: государственный гимн в джазовой обработке. «Россия, великая наша держава, у-у-у, Россия, священная наша страна, oh yeah», – подвывала певица с блюзовыми модуляциями.
– Уберите, тошнит, – попросила Валя.
Ника согласился:
– Да, официоз с задушевинкой – это противно.
Переключился на либеральное «Ухо Москвы».
Там, как обычно, шла перебранка в прямом эфире с прозвонившимися радиослушателями.
«Я вижу, мадам, вы по-русски не понимаете, – гремел ведущий, легко заглушая лепет собеседницы. – У вас в ушах, очевидно, бананы. Гудбай. Следующий звонок». «Из Йошкар-Олы я, меня зовут Венéй, – послышался ленивый, врастяжку голос. – Вот у меня такой вопрос к вам, мигрантам. Вы когда коренному населению долги думаете возвращать?»
Ведущий хищно рассмеялся. «Мигранты – это евреи, что ли? Здравствуйте, господин антисемит, давненько вас что-то в эфире не было». «Почему только евреи? И славяне тоже, – невозмутимо ответил житель Йошкар-Олы. – Пришли на нашу финно-угорскую землю, расплодились здесь, а исконному населению долги платить не желаете. В Америке вот у индейцев всякие льготы, в Австралии аборигенам тоже лафа, в Новой Зеландии маори вообще как сыр в масле катаются. А у нас? Тут ведь всё наше, финно-угорское, испокон веку. Даже «Москва» – наше слово, не славянское. Мы вас, конечно, не гоним. Пришли – живите, но совесть-то надо иметь…»
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?