Текст книги "Когда боги удалились на покой. Избранная проза"
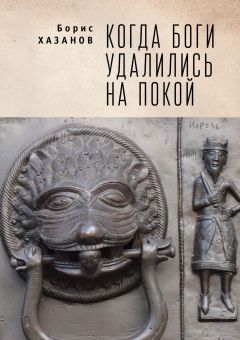
Автор книги: Борис Хазанов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Рембо, или спящий в долине
Существует абсолютная шкала поэзии. Существуют абсолютные стихи, – например, такие, как «Гимн Афродите» – единственное дошедшее до нас полностью стихотворение греческой поэтессы Сапфо, некоторые оды Горация, некоторые вещи из «Западно-восточного дивана» Гёте, «Песнь о вещем Олеге» Пушкина или «Незнакомка» Блока. Абсолютным стихотворением я считаю следующий сонет Артюра Рембо: он называется «Le Dormeur au val», то есть «Спящий в долине». Подстрочный перевод, разумеется, не передаёт его волшебства, его гармонии и его жестокости, – но всё же даст о нём некоторое представление:
Вот зелёная пуща, где распевает ручей, где цепляются к травам его серебряные лохмотья, солнце льётся с гордых высот, вот лощина, где пузырятся его лучи.
Молодой солдат, без каски, с открытым ртом, утонув затылком в синих влажных листьях, спит, он раскинулся в траве под облаками, бледный на зелёном ложе, под ливнем света.
Из цветов торчат его сапоги, – он спит. Улыбаясь, как улыбается больное дитя, он видит сон. Природа, согрей его: ему холодно. Его ноздри не вздрагивают от пряных запахов. Он спит под солнцем, спокойно, положив руку на грудь. В правом боку у него – две красных дыры.
Стихотворение «Спящий в долине» помечено октябрём 1870 года, вне всякого сомнения, оно подсказано впечатлениями франко-прусской войны. Седьмого октября 16-летний Рембо во второй раз бежит из дому. Он идёт пешком из Французских Арденн, переходит бельгийскую границу, снова оказывается во Франции, во фронтовой полосе, где его задерживает полевая жандармерия. Это лишь начало его странствий, которые продлятся ещё два десятилетия, до самой смерти.
Жан-Артюр Рембо умер ровно сто лет назад. У французов нет единого и бесспорного национального поэта наподобие Данте в Италии, Гёте в Германии, Пушкина в России. Вместо абсолютного монарха – череда князей: Гюго, Бодлер, Аполлинер… Быть может, Рембо – величайший поэт Франции. Но это фигура, которая не встраивается ни в какие ряды и обоймы. Рембо называли изгнанным ангелом, его сравнивали с Прометеем: не бог, не дьявол, но и нечто большее, чем человек.
Он родился на северо-востоке Франции в городке Шарльвиль в 1854 году. Его воспитала мать, сухая, надменная и деспотичная дама, дочь крестьянина; отец был офицером, целыми месяцами где-то пропадал, затем вовсе бросил семью. К пятнадцати годам Рембо прочёл уйму книг и был в своём классе чемпионом по сочинению латинских стихов, он даже получил премию на академическом конкурсе школьников за поэму «Югурта», написанную гекзаметрами. В мае 1870 года он послал свои французские стихотворения маститому поэту Теодору де Банвилю, а в августе, накануне последнего учебного года, сбежал из дому. Доехав зайцем до Парижа, он был снят с поезда, посажен под замок, его гимназический учитель выручил его и привёз к матери. Через десять дней Рембо снова исчез; об этом побеге мы уже говорили.
Несколько позже стало ясно, что уже в это время он достиг вершин мастерства. О стихах этого подростка, таких, как «Бал висельников», «Первый вечер», «Моё бродяжничество», «В зелёном кабачке», «Роман», «Спящий в долине», в наше время существует огромная литература. В следующем, 1871 году, в феврале, бросив лицей, он скрывается из дому в третий раз, две недели болтается в Париже и возвращается пешком, голодный и оборванный, в глубоком унынии; кажется, что свобода его обманула. Он ничего не делает, целыми днями сидит в кафе, пьёт и читает книги об алхимии и каббале. Тринадцатого и пятнадцатого мая им были написаны «Письма ясновидящего», так принято называть два тесно связанных друг с другом текста, адресованных учителю Изамбару и одному общему знакомому. Это своего рода эстетический манифест; там говорится о том, что поэт должен взломать границы своей личности: поэт – это тот, кто наделён даром сверхъестественной прозорливости; поэтому он становится голосом неведомого и непознаваемого, медиумом вечности. Для этого он должен изобрести новый язык. В истории европейской поэзии этот документ знаменует отказ от субъективной лирики, переход от романтизма к символизму.
Считается, что весной или летом 1871 г. Рембо прочёл «Цветы зла» Шарля Бодлера, умершего за четыре года до этого. Некоторые стихи свидетельствуют о влиянии Бодлера или, лучше сказать, о преемстве; к ним относится одно из самых могучих и загадочных творений Рембо – написанная классическим александрийским стихом и вместе с тем головокружительно новаторская поэма «Le Bateau ivre», «Пьяный корабль».
Спускаясь вниз по рекам, которых никому не перейти, я больше не повиновался команде. Краснокожие с криками целились в матросов, стрелы пригвоздили их, голых, к мачтам, на которых развевались мои вымпела…
Мне было всё равно, что станет с экипажем, неважно, что я вёз, фламандское зерно или английские ткани. Когда умолкла вместе с матросами вся эта суета, реки выпустили меня на простор…
В буйном плеске прибоя, глухой, как мозг младенца, я понёсся вперёд!..
…Я видел звёздные архипелаги! Острова в небесах, чьё безумие распахнулось навстречу пловцу! Не в эти ли бездонные ночи ты спишь, уходя в изгнание, о мощь грядущего, миллион золотых птиц?..
Но верно, что я слишком много плакал! Как надрывают сердце утренние зори! Жестокость лун и горечь солнц!.. И если я ещё жажду вод Европы, так ведь это – лужа, чёрная и холодная, где в благоуханных сумерках печальный ребёнок, присев на корточки, пускает кораблик, хрупкий, словно майская бабочка…
На исходе лета или в самом начале осени того же года Рембо получил письмо от Поля Верлена, которому послал незадолго до этого «Пьяный корабль» и другие только что написанные стихотворения, в том числе знаменитый сонет «Гласные», где звуки языка уподобляются цветам спектра. Верлен писал: «Приезжайте, дорогая великая душа…» В конце сентября Рембо снова явился в Париж.
К этому времени Парижская коммуна уже разгромлена. Великий пир поэзии и свободы, о котором грезил в провинциальном городке Рембо, остался где-то позади, а может быть, его никогда и не было. Рембо очутился среди маленьких стихотворцев, доморощенных кабацких гениев, бесконечных претенциозных словопрений об искусстве. Единственной по-настоящему великой фигурой в этом полуподвальном мирке был Верлен, добрый и слабовольный человек, очень скоро подпавший под власть демонического юноши, который вдобавок стал его любовником.
Сохранился рисунок Верлена: мальчик в короткой куртке и узких брючках, с бантом на шее, длинноволосый, в шляпе и с трубкой в зубах. Надпись: «Артюр Рембо, июнь 1872 года».
Разумеется, у Рембо нет ни копейки в кармане, и ему негде жить. Верлен готов помочь ему, чем может, но надменный Рембо отвергает всякое покровительство. Всё же он поселяется у Верлена, который живёт с женой, детьми и родителями жены. Бесконечные шатания вдвоём по злачным местам, где собирается литературная богема, пьянство и скандалы, тут-то и даёт себя знать необузданный нрав Рембо; не обходится дело и без наркотиков. Такая жизнь продолжается до лета 1872 г. Рембо, которому идёт восемнадцатый год, пишет свои последние стихи. В начале июля он пропадает из Парижа вместе с Верленом.
Приятели всплывают в Лондоне. Что они там делают, на какие средства существуют, трудно сказать. Матильда Верлен грозит своему непутёвому мужу разводом. Наступает сырая зима, и на Рождество, бросив 28-летнего друга, Рембо смывается домой, в Шарльвиль.
История взаимоотношений с Верленом, судорожный роман, которому посвящены короткие зашифрованные тексты в небольшом прозаическом сборнике «Пребывание в аду» (Рембо называет себя «инфернальным супругом»), – это, кажется, самая известная часть его биографии. После Нового года он возвращается в Лондон, остаётся с Верленом до весны, потом уезжает в местечко Рош неподалёку от Шарльвиля, где у матери Артюра есть деревенский дом; там и было написано «Пребывание в аду».
Ближе к весне Верлен каким-то образом оказывается в Арденнах, в деревне Жеонвиль, поблизости от друга. Происходит встреча, Верлен умоляет Рембо не бросать его, и вот они снова в Лондоне. Затем роли меняются: третьего июля 1873 года Верлен убегает от «инфернального супруга». Рембо мчится в порт – Верлен уже отплыл. Верлен добрался до Брюсселя. Рембо пишет ему отчаянное письмо: «Вернись, вернись, единственный друг. Клянусь, я буду вести себя хорошо… Вернись, мы обо всём позабудем, Какое несчастье, что ты принял всерьёз все мои глупости. Все эти два дня я проплакал… Вернись, все твои вещи на месте… А хочешь, я сам к тебе приеду?..» И, не дожидаясь ответа, Рембо 10 июля прибывает собственной персоной в Брюссель. На улице происходит безобразная сцена: пьяный Верлен стреляет в друга. Раненного в руку Рембо увозят в больницу, а Верлена ведут под руки в полицейский участок. Бельгийский суд приговаривает Верлена к двум годам тюремного заключения.
Через неделю, выписавшись из больницы, Артюр Рембо пешком вернулся во Францию, к матери в Рош. Здесь он закончил «Пребывание в аду». Судьба этой рукописи была следующей: осенью Рембо, оказавшись снова в Брюсселе, передал её одному издателю, но не мог с ним расплатиться. Книжку никто не покупал. Рембо махнул рукой на эту затею, воротился в Шарльвиль; считалось, что рукопись пропала, – кажется, он её сжёг, а издатель будто бы уничтожил все печатные экземпляры. Через 28 лет собиратель редких книг Леон Луссо обнаружил эти экземпляры в подвале типографии, но помалкивал о своём открытии ещё полтора десятилетия; о книге стало известно только в 1915 году.
Следующим и последним произведением Рембо были «Озарения», сборник коротких, необычайно ярких прозаических фрагментов, как и «Пребывание в аду», с трудом поддающихся расшифровке. Часть из них, возможно, фиксирует видения, посетившие автора под действием гашиша. Это отвечает поэтической и жизненной программе Рембо: чтобы выйти за грань познаваемого, поэт должен расстроить все свои чувства. Между тем с октября 1873 до весны 1874 г. о нём ничего не известно. Затем он появляется в Лондоне, на этот раз в обществе Жермена Нуво, малозначительного поэта и достаточно сомнительной личности. Живут, перебиваясь с хлеба на воду. Весной или летом Рембо заболел, он вообще не отличался крепким здоровьем. Нуво бросает его на произвол судьбы, но, к счастью, на помощь приезжают мать и сестра. Поправившись, Рембо впервые в жизни устраивается на работу у предпринимателя, который держит извоз, но отпрашивается домой на рождественские каникулы и больше не возвращается.
Теперь он собирается заняться «делом», учит языки, хочет окончить среднюю школу. В январе 1875 года он получает место домашнего учителя в Штутгарте, в Германии, тут к нему неожиданно приезжает Верлен, только что вышедший из бельгийской тюрьмы; короткая встреча заканчивается бурной ссорой. Больше они никогда не виделись.
За Рембо как будто захлопнулась дверь. Дальнейшая жизнь была тоже достаточно пёстрой, но к его творческой биографии она уже не имеет отношения. На двадцать первом году жизни Рембо перестал писать, перестал вообще интересоваться литературой. Во Франции растёт его поэтическая слава, Верлен пишет о нём, издаёт его стихи, но Рембо, по-видимому, даже не знает об этом. Рембо непрерывно странствует, лишь изредка на короткое время возвращается к матери в Шарльвиль или в Рош и снова исчезает. Весной 1876 года он зачем-то собрался в Россию, но в Вене ограблен и арестован как нищий; выслан во Францию. Побыв немного дома, уехал в Голландию, завербовался в колониальную армию, прибыл на остров Ява и через три недели дезертировал. В следующем году он появляется в Гамбурге, потом кочует где-то в Швеции с бродячим цирком. Оттуда через Францию на египетском корабле плывёт в Александрию; тяжелобольной, высажен в Италии; несколько позже оказывается на Кипре, лежит в тифозной горячке. Новая идея – разбогатеть. Рембо становится коммерческим агентом в Абиссинии, торгует харарским кофе, а также оружием для Менелика II. Эфиопский царёк, оспаривающий трон у негуса, обманывает француза, из проектов нажиться на войне ничего не получается. Так Рембо прожил в Африке десять лет.
Можно предполагать, что весной 1891 года у него появились первые признаки злокачественной опухоли правого бедра. По дороге домой он попадает в больницу Непорочного зачатия в Марселе. В документах он значится как «негоциант Рембо». Ему ампутируют правую ногу. Кое-как оправившись, на костылях он добирается до Роша, строит планы женитьбы, возвращения в Африку, но принужден снова, сопровождаемый сестрой, ехать в больницу в Марсель. Здесь он умирает 10 ноября 1891 года в возрасте 37 лет.
…Солдат без каски, с открытым ртом, спит в траве под облаками. Из цветов торчат его сапоги… Природа, согрей его: ему холодно! Его ноздри не вздрагивают от пряных запахов. Он спит, положив руку на грудь… В правом боку у него – две красных дыры.
Мост над эпохой провала: Музиль
Роберт Музиль находится в Британской энциклопедии между игроком в бейсбол Стэном Мьюзиелом и вождём итальянского народа Бенито Муссолини. Музилю посвящена одна фраза – пять строк: имя автора, кто такой, даты жизни, название главной книги. Статья о Мьюзиеле состоит из 28 строк. Статья, посвящённая Муссолини, при крайней сжатости изложения, занимает 480 строк: детство, юность, литературная, ораторская и политическая карьера, всемирно-исторические заслуги, мировоззрение, семейная жизнь; учтено всё, включая подхваченный в юные годы сифилис. Место литературы (М) в массовом обществе, кумирами которого являются звёзды спорта и политики, а верховным судьёй и распорядителем – рынок, можно описать с помощью уравнения:
М = М (1): М (2),
где М (1) – Роберт Эдлер Музиль, а М (2) – дуче Муссолини.
На вечер Музиля в швейцарском Винтертуре, первый и последний, где автор читал отрывки из своего романа «Человек без свойств», пришло 15 слушателей. Человек пять шло за его гробом. Посмертный редактор романа Адольф Фризе составил список отзывов о Музиле. В разные годы разные люди говорили о нём так: сдержанный, холодный, надменный, замкнутый, рыцарственный, сама любезность, невероятное самомнение, сухой, как чиновник, ни разу не улыбнётся, офицерский тон, горд своим фронтовым прошлым, оч-чень интересная личность, а вообще ничего подобного – может быть, и выдающийся, но малоприятный персонаж; одет безупречно, есть деньги или нет – костюм от лучшего портного, туфли первый сорт, считает себя недооценённым, держит всех на расстоянии и сам страдает от этого, падок на похвалы… И так далее.
Однажды это холодное одиночество было нарушено, Музиль написал нечто вроде воззвания к собратьям по перу, снабдив его заголовком: «Я больше не могу». Ледяным тоном, на изысканном немецком языке сообщается, что он погибает от нищеты, нечем платить за квартиру, инфляция сожрала небольшое состояние, и с тех пор он живёт от одного случайного заработка до другого; нация равнодушна к своему писателю. К короткому обращению (оставшемуся в бумагах) приложено «Завещание» – в четырёх вариантах. Он работал над этим криком о помощи, как работают над прозой, потому что под его пером всё становилось литературой, как всё, до чего касался фригийский царь, превращалось в золото. Четыре редакции отличаются друг от друга не только стилистически; так же, как главы неоконченного романа, они представляют собой не столько ступени совершенствования, сколько реализацию разных возможностей, заложенных в тексте, – писание в разные стороны. Возможно, здесь кроется один из секретов этого творчества, а может быть, и секрет этого человека.
Достоинство писателя состоит не в том, чтобы жить в истории, но в том, чтобы противостоять истории; очевидно, что это означает жить в своём времени и вопреки ему. Всякий литературный текст «актуален», тем не менее литература и общественность – понятия, связанные скорее обратной зависимостью: чем литература актуальней, тем она меньше литература. Несколько великих исключений, Аристофан или «Бесы», лишь подтверждают правило; при ближайшем рассмотрении исключения оказываются мнимыми; злоба дня переселяется в комментарий – кладбище злободневности; то, что некогда было животрепещущим, в глазах потомков в лучшем случае – лишь повод для чего-то бесконечно более важного.
Жизнь неизменно отвечает ангажированной литературе чёрной неблагодарностью: литература, которая хочет говорить т о л ь к о о самом жгучем и наболевшем, оказывается банальной, то есть художественно несовременной. Быть с в о е в р е м е н н ы м в литературе значит быть несовременным.
Присутствие Музиля на прокоммунистическом конгрессе писателей в защиту культуры в Париже в 1935 году кажется недоразумением. (Об этом конгрессе русский читатель может прочесть в мемуарах Ильи Эренбурга: упомянуто множество участников, Музиля он не заметил.) Речь Музиля никак не соответствовала настроению публики и тех, кто сидел на подмостках. «Я, – сказал он, – всю жизнь держался в стороне от политики, так как не чувствую к ней никакого призвания. Упрёк в том, что никто не вправе уклоняться от политики, ибо она касается каждого, мне непонятен. Гигиена тоже касается всех, и всё же я никогда не высказывался о ней публично. У меня нет призвания быть гигиенистом, так же как нет таланта руководить экономикой или заниматься геологией. Политики склонны рассматривать достижения культуры как свою естественную добычу, вроде того, как женщины раньше доставались победителям. Я же, со своей стороны, полагаю, что роскошной культуре подобает женское искусство защищать себя и своё достоинство. Культура предполагает непрерывность и пиетет даже перед тем, с чем борются. Кроме того, можно твёрдо сказать, что культура всегда была сверхнациональна. Но даже если бы она не обладала качеством наднациональности, она и внутри собственного народа всегда была бы чем-то таким, что живёт над временем, служила бы мостом над эпохой провала и соединяла бы живущих с далёким прошлым. Отсюда следует, что тому, кто служит культуре, не положено отождествлять себя без остатка с сегодняшним состоянием его национальной культуры. Культура – не эстафета, передаваемая из рук в руки, как это представляют себе традиционалисты; дело обстоит куда сложнее: творческие умы не столько продолжают культуру как нечто идущее к нам из мглы времён и из других стран, сколько видят в ней нечто такое, что заново рождается в них самих».
Услыхав о том, что Австрия объявила войну Сербии, Джойс, живший на положении эмигранта в Триесте, говорят, воскликнул: «А как же мой роман?» Автору «Улисса» принадлежит знаменитая формула: silence – exile – cunning (один из возможных переводов: молчание, изгнание, мастерство). Прекрасный девиз – если есть на что жить. Существует античный анекдот о том, как Александру был представлен умелец, умудрившийся записать на пшеничном зернышке всю «Илиаду». Полюбовавшись зерном, великий полководец вернулся к своим делам, но заметил, что человек всё ещё стоит на пороге. Царю объяснили, что мастер ожидает вознаграждения. «А, – воскликнул Александр, – разумеется! Пусть ему выдадут мешок пшеницы, с тем чтобы он мог и дальше упражняться в своём замечательном искусстве». В тридцатых годах в Вене образовалось «Общество Роберта Музиля»: несколько состоятельных людей выразили готовность выплачивать автору «Человека без свойств» ежемесячное пособие, дабы он и впредь мог упражняться в своём искусстве – закончить гигантский роман. Сам писатель рассматривал эту помощь как нечто естественное, считал, что оказывает честь членам Общества, позволяя им содержать Музиля, и лично проверял, все ли аккуратно платят взносы. После присоединения Австрии к нацистскому рейху Общество Роберта Музиля распалось, жертвователи были евреи, им пришлось бежать из страны. Да и сам Музиль женат на еврейке.
Супруги едут в Италию, вроде бы в отпуск, возвращаются – но не домой, а в Цюрих; это уже эмиграция, пока что неофициальная. Из немецкоязычного Цюриха Роберт и Марта перебираются в Женеву, в две комнатки на шестом этаже, на rue de Lausanne; вещи, книги – всё осталось в Вене, дом погибнет под бомбами в конце войны, когда Музиля уже не будет в живых. Ему остаётся жить 2 года 10 месяцев. В эти тысячу дней происходит последняя схватка с романом-Минотавром, грандиозным замыслом, который давно уже существует сам по себе и диктует автору свои условия; исход единоборства – ничья.
«Вообразите, – пишет он пастору Лежёну, – буйвола, у которого на месте рогов выросло другое придаточное образование кожи, а именно, две смехотворные мозоли. Вот это самое существо с огромной головой, некогда оснащённой грозным вооружением, от которого остались только мозоли, – и есть человек, живущий в изгнании. Если он бывший король, он говорит о короне, которая была у него когда-то, и люди вокруг думают: небось не корона, а шляпа. В конце концов он и сам начинает сомневаться и не уверен даже, осталась ли у него вообще голова на плечах…». Музиль живёт уединённо, не подписывает никаких заявлений и открытых писем, не участвует в манифестациях и не посещает собраний; пожалуй, единственное исключение – упомянутый выше конгресс в Париже.
«Иное Состояние», der Andere Zustand, к которому стремятся брат и сестра, не допускает утраты собственного «я». Снять извечное противоречие между рациональным и иррациональным! Личность не может быть принесена в жертву экстазу. Пускай же экстаз сомкнётся с бодрствующим сознанием.
«То, что в этих разговорах так много приходится распространяться о любви, имеет тот основной недостаток, что вторая жизненная опора, второй столп – злое, страстное начало, начало вожделения, – проявляет себя так слабо и с таким запозданием! Просчёт состоял в переоценке теории. Она не выдержала нагрузки; во всяком случае, оказалась не столь важной, какой представлялась до осуществления задуманного. Я давно уже это понял, теперь приходится расплачиваться. Вывод: не отождествляй себя с теорией. Отнесись к ней реалистически (повествовательно). Не изобретай теорию невозможного, но взирай на происходящее и не питай честолюбивой уверенности, будто ты владеешь всей полнотой познания».
«Теория» – это система внутрироманных оценок, сложный комментарий к «происходящему», который внешне приписан главному герою, но очевидным образом переступает за его горизонт; ведь и сам рефлектирующий герой становится в свою очередь объектом рефлексии. Это и есть расползание героя, вследствие которого он превращается в сверхперсонаж и не-персонаж, – ещё немного, и он возьмёт на себя функции всевидящего богоподобного автора. Но при такой нагрузке герою некогда жить. Вместо того, чтобы любить, страдать и, может быть, застрелиться, он без конца рассуждает о страсти и вожделении. Комментаторы говорят о крушении утопии, о неосуществимости Иного Состояния, но не есть ли странная неудача несостоявшихся любовников следствие несостоятельности самой концепции повествования? Роман, как блуждающая река, затерялся в песках.
И всё-таки. В романном пространстве всё становится художеством. Не зря у писателя возникает чувство, что роман сам диктует ему условия. Если есть ощущение, что автор, подобно своим героям, находится внутри романного пространства, значит, победило искусство. Если этого не произошло, роман разваливается. И снова: Отнесись к теории реалистически. Это значит: не превращай её в нечто произносимое извне, нечто самодовлеющее. Не используй роман как средство для деклараций или как выставку эрудиции. Не пытайся выдать свои размышления за безусловную истину, искусство – это истина, которая не знает о том, что она – истина. Не поучай читателя.
«Теория» – это тоже «жизнь»; это часть повествования. Это тоже художество. Всего лишь художество: не больше и не меньше. Это тоже «искусство для искусства», потому что искусство подчиняет себе всё – или уходит.
Кто он, собственно, такой – Человек без свойств? Вот одна из попыток объяснить (письмо Музиля 1931 г.):
«Человек без свойств – человек, в котором встретились лучшие элементы времени, встретились, но не обрели синтеза, человек, не умеющий избрать одну определённую точку зрения; он может только пытаться справиться с ними, приняв их к сведению».
Итак, всё в жизни Человека без свойств остаётся возможностью, пробой, экспериментом, в том числе самый грандиозный опыт – попытка достичь экстаза, не покидая царство разума. Загадочное «иное состояние», taghelle Mystik — мистика при свете дня, – слияние с другой душой, нечто вроде бесконечно длящегося соития, но не в первобытно-варварском помрачении сознания и не в вагнеровской ночи, а под полуденным солнцем, при свете бодрствующего ума. Другая душа – сестра-близнец Агата, которую Ульрих, оставив гротескную общественную деятельность, повстречал в доме почившего отца. Глава 45 второго тома начинается с сообщения о то, что «невозможное», почти физически овеявшее Ульриха и Агату, всё-таки повторилось, und es geschah wahrlich, ohne date irgendlei geschah. И воистину это случилось, хотя ничего такого не случилось. Инцест растворился в бесконечном незавершённом сближении, в разговорах, в томительном бездействии летнего дня. Atemzuge eines Sommertags, «Вздохи летнего дня». Над этой главой писатель сидел с утра 15 апреля 1942 г., в двадцать минут десятого зарегистрировал в тетрадке, заведённой по совету врача, первую сигарету, в одиннадцать часов – вторую. В час дня, собираясь принять ванну перед обедом, он умер.
Эта глава II:45, где что-то случилось и не случилось, снабжена многозначительным заголовком: Начало целого ряда удивительных переживаний. Переживаний (Erlebnisse) или реальных событий?
В любви (как и в художественной прозе) мимолётный взгляд, движение бровей, летучая реплика многозначительны, тончайшие переживания становятся событиями, к ним возвращаются, над ними ломают голову, их невозможно забыть.
Близнецы собираются на званый вечер, прислуга ушла, и некому помочь переодеться Агате. Они остались одни в доме. С этой минуты начинает что-то меняться, сгущаться. Так растёт напряжение электромагнитного поля.
Они опаздывают.
Всё ещё разбросаны там и сям военные украшения, которыми женщина оснащается перед выездом в свет. Поставив высоко открытую ногу на стул, она натягивает шёлковый чулок. Она вся поглощена этим занятием. Ульрих, уже одетый, стоит за спиной Агаты.
Он смотрит на её полуобнажённую спину. Желая убедиться, что чулок правильно обхватил пятку, она склоняет голову вбок, отчего появляются лёгкие складки на её нежном затылке. Видение женщины, её гипнотизирующая телесность пронизывает мужчину, прежде чем он успевает что-либо предпринять, – и вот это происходит. Он обхватывает сзади Агату.
Она вскрикивает и оборачивается – то ли ненароком, то ли оттого, что он рывком привлекает её к себе. Всё совершается не то в шутку, не то всерьёз, намеренно, но и непроизвольно. Любовниками, которые ими ещё не стали, владеет бессознательная целеустремлённость. И вот они стоят молча, тесно обнявшись, – близнецы, они как бы растут из единого корня. И далее следуют пространные размышления автора, который, оставаясь сторонним наблюдателем, вместе с тем и сливается, солидаризуется с Ульрихом, с обоими – братом и сестрой, как действующее сверхлицо романа.
В каком-то смысле они уже соединились, но соединения не произошло. Что их остановило: запрет кровосмешения? Едва ли. Казалось, из мира более совершенного, хотя и призрачного, соединения, который они предвкушали в мечтательном уподоблении, их овеяла некая высшая заповедь, высшее предчувствие, любопытство или предвидение чего-то.
Темнеет, о поездке не может быть и речи. Медленно разряжается эротическое поле. Они стоят у окна.
Между тем начинается война, речи и конгрессы – всё валится в тартарары, вся шумная деятельность предвоенных лет кажется абсолютно бесполезной; Германия и Советский Союз делят Польшу, Франция побеждена и выходит из игры, идёт воздушная битва за Великобританию, СССР продолжает раздвигать свои границы, корпус Роммеля теснит англичан в Африке, Рузвельт и Черчилль провозглашают Атлантическую хартию. Наконец, вермахт вторгается в Россию, а японцы бомбардируют Перл-Харбор. Музиль сидит над своим романом, действие которого происходит до первой Мировой войны в давно уже не существующем государстве. Кого может заинтересовать такая книга? Да и сам роман всё больше становится проблематичным – призрачным, как река в пустыне. После того, как Ровольт выпустил в 1930 г. первый том, а в 1932 – второй, дело застопорилось; издатель нервничает, время идёт, и самое имя Музиля постепенно отодвигается в прошлое. «Разве он ещё жив?» Новый издатель готовит к печати продолжение, двадцать глав, готов платить вперёд, но гранки, высланные автору для вычитки, так и не возвращаются в типографию: автор считает, что всё надо переписывать заново. Музиль сравнивает себя с человеком, который хочет зашнуровать футбольный мяч размером больше себя самого, пытается вскарабкаться на его поверхность, мяч всё раздувается; отдельные главы переписываются по десять и двадцать раз, вороха исписанной бумаги не помещаются на столе. К этому времени произведения Роберта Музиль уже запрещены на территории рейха, но и без этого он забыт, погребён под своим чудовищным произведением.
Гипотезы о том, почему не удавалось закончить «Человека без свойств», сами по себе образуют поле возможностей, аналогичное пространству самого романа. После Музиля, этого «короля в бумажном царстве», как назвал его Герман Брох, остался гигантский архив черновиков, вариантов, заметок, некоторые стоят целых трактатов. Лёжа в саду, Ульрих и Агата ведут нескончаемые разговоры – и ничего не происходит. В декабре 1939 года Музиль прочёл в газете отчёт о гастролях танцевального ансамбля с острова Бали. Под стук барабана плясуны впадают в транс. Они испускают хриплые крики, взгляд застывает, нижняя часть тела сотрясается в конвульсиях. «Сходство с половым актом, – замечает Музиль, – выступает ещё сильней, когда смотришь на выражение лиц… Транс принадлежит к области магии, магического воздействия на реальный мир. Коитус – то, что осталось у нас от транса. Понятно, что Агата и Ульрих не хотят соития…». Западный человек не может примириться с потерей сознательного контроля.
Что же совершается, в конце концов? Совершается ли что-нибудь? По некоторым предположениям, любовники должны были укрыться на дальнем острове, чтобы там войти в Иное Состояние. Никаких следов реализации этого замысла в бумагах, оставшихся после Музиля, нет.









































