Текст книги "Когда боги удалились на покой. Избранная проза"
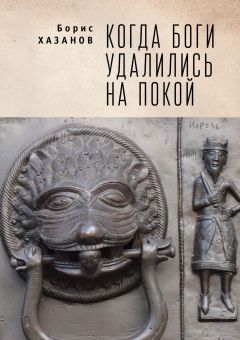
Автор книги: Борис Хазанов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Некий утекший из монастыря, как Гришка Отрепьев, монах по имени Ланц фон Либенфельз возвестил о создании арио-героического мужского ордена светловолосой и голубоглазой расы господ для расправы с неполноценными расами вплоть до их истребления – и вывесил (в 1907 г.) над своим наследственным замком знамя со свастикой.
Некто Гитлер, сын таможенника, проживавший в австрийской столице, зарабатывая на жизнь срисовыванием архитектурных памятников, четверть века спустя излил накипевшие на сердце чувства в хаотическом сочинении «Моя борьба»: «С той поры, как я стал заниматься этим вопросом, когда впервые обратил внимание на еврея, Вена показалась мне в другом свете, чем раньше. Куда бы я ни шёл, я видел одних евреев, и чем больше я их видел, тем они резче отличались от остальных людей… Была ли вообще какая-нибудь гнусность, какое-нибудь бесстыдство в любой форме, особенно в культурной жизни, где бы ни участвовал еврей?.. Я начал их постепенно ненавидеть».
16. Женщина 1900 года
Мы надеемся, что читатель не ожидает найти в этой статье полемику с концепцией и мировоззрением автора книги «Пол и характер». Время полемики давно прошло. Не говоря уже о том, что любые разумные доводы против половой вражды и расовой ненависти (и то, и другое всегда – знак внутреннего неблагополучия и роковой зависимости от предмета вражды) бьют мимо цели.
Чувствуется какая-то одержимость в том, что и как пишет о ненавистном ему племени этот ещё не видевший жизни, не ставший мужчиной, до головокружения заносчивый недоросль с задатками гениальности, вопреки его собственной уверенности в том, что гений и еврейство – две вещи несовместные; и эта одержимость сродни той, другой одержимости, которая, собственно, и подвигла его написать всю книгу: одержимости женщиной. Женщина, как и еврей, – ничто. Стоило ли вообще о ней разговаривать? Но оказывается, что это Ничто обладает жуткой притягательностью – колоссальной властью. Ничто – демонизируется.
Разумеется, здесь просвечивают черты времени. «Ж» Отто Вейнингера – это кошмарный сон о женщине его эпохи.
Во все времена, замечает Ст. Цвейг («Вчерашний день. Воспоминания европейца», 1942), мода непроизвольно выдаёт мораль и предрассудки общества. Дамский туалет на рубеже девятисотых годов: корсет из рыбьих костей перетягивает тело, придавая ему сходство с осой. Грудь и зад искусственно увеличены, ноги заключены в подобие колокола. На руках перчатки даже в знойный летний день. Высокий узкий воротничок до подбородка делает шею похожей на горлышко графина, причёску из бесчисленных локонов и косичек, уложенных завитками на ушах, венчает чудовищная шляпа. Всё это сооружение, называемое женщиной из приличного общества, неприступная башня в кружевах, бантах и оборках, распространяет удушливый аромат духов, воплощает монументальную добродетель и дышит запретной тайной – глубоко запрятанной и раздражённой чувственностью. Открытие психоанализа было бы невозможно без этих мод.
Такая женщина вставлена, как в золочёную раму, в перегруженный вещами и вещичками быт; она двигается, шурша своим колоколообразным одеянием, по комнатам, загромождённым вычурной мебелью, заставленным столиками и шкафчиками с безделушками, среди стен, увешанных полочками, тарелочками, фотографиями, между окнами в тяжёлых гардинах. Воспитанная в полном неведении касательно взаимоотношений полов, буржуазная барышня вручается в плотно упакованном виде мужу, который даже не знает толком, какого рода собственность он приобрёл, но то, что он приобрёл, есть именно собственность. В приличном обществе единственная карьера женщины – брак; если не удалось вовремя выскочить замуж, она становится предметом насмешек.
Что касается молодых людей, то покуда ты не приобрёл «положение», не окончил военную академию или университет, не получил место в банковском доме, в адвокатской конторе, в торговой фирме, в страховом обществе, в государственном учреждении, ты не можешь думать о женитьбе. Да и куда спешить? К услугам юного офицера, начинающего чиновника, новоиспечённого юриста или коммерсанта – армия проституток. Так получается, что женщина предстаёт перед ним в двух ролях: либо девица на выданьи, в перспективе – жена и мать, либо жрица продажной любви. И вечным кошмаром маячит перед ним риск подцепить дурную болезнь. Ведь ещё не открыт сальварсан.
Чарующая Вена на переломе столетия, этот, как сказал Брох, «весёлый апокалипсис», – это последние дни буржуазной Европы; ещё каких-нибудь десять, пятнадцать лет, и всё рухнет. Театрализованная сексуальная мораль общества в одно и то же время игнорирует, осуждает, разрешает и поощряет то, что скрыто за сценой; спектакль невозможен без закулисного мира. Да и не такой уж это, по правде говоря, секрет. Тротуары кишат полудевами, разгуливающими туда-сюда, цены доступны, свидание обходится ненамного дороже, чем коробка сигарет. Это самый низший разряд. За ним следуют певички, танцовщицы, «девушки для развлечения» в кофейнях и барах. Ещё выше на иерархической лестнице – дамы полусвета, загадочные гостьи сомнительных салонов, не говоря уже о персонале многочисленных борделей.
17. Философия как наваждение
Вернёмся к книге; об её «идейных истоках», связях с современной и классической немецкой философией, с Кантом, Шопенгауэром, с оперной драматургией Вагнера написано немало; здесь стоит указать на одну, впрочем, бросающуюся в глаза аналогию. Оппозиция Ми Ж слишком напоминает другую пару, традиционную для немецкого философствования и философического романа: дух и жизнь, интеллект и бессознательная своевольная стихия, которую Ницше (и следом за ним молодой Томас Манн) называет жизнью, а Бергсон во Франции – жизненным порывом. Но если в книге Вейнингера разуму – или, скорее, рассудку – отдаётся решительное предпочтение перед стихией, если благородный мужской интеллект у него бесконечно выше анархического бабьего начала, то в двадцатом веке многочисленные эпигоны Ницше становятся певцами иррациональности, «философия жизни» приобретает агрессивно-вульгарный, «силовой», профашистский характер; Вейнингер оказывается в кругу её зачинателей.
Книга «Пол и характер» предвосхищает ряд сочинений, которые выразили совершенно новое настроение: это книги апокалиптические, вышедшие почти одновременно после Первой мировой войны. «Закат Европы» Освальда Шпенглера, «Дух как противник души» Людвига Клагеса, «Дух утопии» Эрнста Блоха, ещё несколько. В этих объёмистых томах, восхитивших публику блеском стиля и неожиданностью обобщений, излучающих какое-то мрачное сияние, есть то, что можно назвать насильственной тотальностью. Они притязают на самый широкий охват истории и культуры, завораживают и порабощают читателя своим авторитарным тоном и навязывают ему под видом философии и науки некую не всегда доброкачественную мифологию.
18. Тень и голос
«Об одном хочу тебя попросить: не старайся слишком много узнать обо мне… Возможно, когда-нибудь я тебе расскажу об этом. Кроме той жизни, о которой ты знаешь, я веду две жизни, три жизни, которых ты не знаешь» (письмо А. Герберу, август 1902).
Ненаписанная пьеса о герое этих страниц – два действующих лица: О.В. и некто Другой – Doppelganger, неотвязный спутник. Сцена, напоминающая экспрессионистскую пьесу Леонида Андреева «Чёрные маски», где полубезумный герцог Лоренцо убивает на поединке другого Лоренцо, своё второе Я.
Другой, чей шепот шелестит в мозгу, Тёмный двойник – амплуа из театра масок глубинной психологии Юнга, – не я, Другой! Тот, кто воплощает всё пошлое и ненавистное, постыдный низ, потёмки души; кто, как некий посторонний, присутствует в тягостных снах. Это он несёт с собой анархию, безнравственность, хаос. Между тем как Я – стою на страже морали, разума и порядка, ибо Я сам – логика и порядок. Я мужчина. Он – моя вина и погибель. Он тащит меня к женщине. Он напоминает мне о моём происхождении, которого я стыжусь. Он мешает мне сознавать себя равным в обществе, единственно достойном меня. Истребить его!
Вейнингер разоблачает женщину, открещивается от еврейства. Но отделаться от себя невозможно, потому что Он – это Я. Ненависть к тёмному спутнику всё ещё написана на лице умершего; любящий Гербер, который отыскал Отто в одиннадцатом часу утра 4 октября 1903 года в морге венской Общей больницы, вспоминает:
«Ни единого намёка на доброту, ни следа святости и любви не было в этом лице… нечто ужасное, нечто такое, что вложило в его руку оружие смерти, – мысль о Зле. Но спустя несколько часов облик его изменился, черты смягчились… и, взглянув в последний раз на мёртвого друга, я увидел глубокий покой вечности».
Ненависть породила теорию, способ самоотчуждения, но вернулась к её создателю, умертвив его на сорок лет раньше, чем ему полагалось умереть.
Биограф Кафки Клаус Вагенбах рассказывает, что, прихав в Прагу, он сумел разыскать почти все улицы и дома, где жил или работал Кафка. К великому счастью, город не пострадал во время войны. Но когда исследователь приступил к поискам людей, знавших Кафку, и его родни, на всех архивных карточках под именем, фамилией, местом рождения стоял один и тот же штемпель: Освенцим.
Кафка был на три года моложе Вейнингера. Кафке повезло, он умер от туберкулёза, не дожив до газовой камеры. Вейнингеру тоже повезло.
Воспоминание о Ницше
В 1868 году двадцатичетырёхлетний Фридрих Вильгельм Ницше сообщил по секрету одной знакомой даме, жене своего учителя, знаменитого эллиниста Ричля, что он намерен соединить филологию с музыкой. Его мечта – изложить свои соображения об античной филологии с помощью нот, а о музыке – словами. Четыре года спустя в Лейпциге вышло в свет сочинение с предисловием, которое начиналось так:
«Что бы ни лежало в основании этой сомнительной книги, это должен был быть вопрос первого ранга и интереса, да ещё и глубоко личный вопрос; ручательством тому время, когда она возникла, вопреки которому она возникла, тревожное время немецко-французской войны 1870–1871 годов. Покуда над Европой проносились громы сражения при Вёрте, мечтатель-мыслитель и охотник до загадок, которому выпало на долю стать отцом этой книги, сидел где-то в альпийском уголке, погружённый в свои мысли-мечты и загадки, а следовательно, весьма озабоченный и вместе с тем беззаботный, и записывал свои мысли о греках – зерно той странной и малодоступной книги, которой посвящено это запоздалое предисловие».
Книга называлась «Рождение трагедии из духа музыки». Хорошо помню магазин в конце улицы Герцена перед её впадением в площадь Никитских ворот; на прилавке лежал томик в твёрдом переплёте, перевод Г. Рачинского, дореволюционная орфография, издание 1912 г. Только что кочилась война, мне было 17 лет. Я купил антикварную книгу по неправдоподобно низкой цене.
Таково было первое моё знакомство с философом, который именовался в энциклопедическом справочнике отцом европейского нигилизма. Словечко, образованное от латинского nihil, напоминало о герое Тургенева, но смысл его был шире. Нигилизм – умонастроение человека перед зрелищем распада унаследованных ценностей и дискредитации того, что он полагал смыслом жизни; нигилизм – осознание неизбежности этого распада. Нигилизм возвестил устами Ницше о «смерти Бога»: Gott ist tot. Нигилизм требует мужественно встретить то, что осталось. Что же осталось? – Ничто. Много воды утекло, прежде чем моего слуха коснулись вещие слова Мартина Хайдеггера: «Нигилизм есть приходящая к господству истина о том, что все прежние цели сущего пошатнулись. Но с изменением прежнего отношения к ведущим ценностям нигилизм становится свободной и чистой задачей установления новых ценностей».
Фридрих Ницше числился основателем «философии жизни». Под этим следовало понимать не философствование «о жизни», но философию, верховным аргументом которой должна была служить сама жизнь – вольная стихия, реальность страшная и чарующая, плодоносное лоно мира, если угодно – трансформированная мировая воля Шопенгауэра.
Друг юности Ницше Пауль Дейсен поведал об эпизоде, который приключился с его приятелем в феврале 1865 года. Студент Ницше, которому идёт 21-й год, не намного больше, чем было мне осенью 1945-го, когда я сам стал студентом классического отделения Московского университета, приезжает в Кёльн. Он просит служителя гостиницы показать ему город. Осмотрев собор и прочее, юноша хочет поужинать; вместо ресторана вожатый приводит его в бордель. Осаждённый одетыми во что-то полупрозрачное девицами, обалделый Ницше теряет дар речи. В углу гостиной стоит пианино, «единственный наделённый душою предмет»; гость садится и берёт несколько аккордов; после чего спасается бегством. Инцидент, знакомый многим по роману Томаса Манна «Доктор Фаустус», сам по себе незначительный, хотя и чреватый губительными последствиями, превращается в символическую встречу совсем ещё юного философа с «жизнью», какова она есть на самом деле, во всей её соблазнительной наготе. Защитить от манящей бездны призвана музыка.
Но музыка, в первом приближении музыка Вагнера, – это тоже бездна; музыка обещает окунуться в бездонность и вынырнуть; музыка приобщает к бытию. «Жизнь без музыки есть заблуждение». Зачарованность стихией жизни и её перевоплощением в искусстве, убеждение, что традиционная вера и мораль не выдерживают натиска этой дионисийской стихии, диктующей собственную мораль, – такова пожизненная тема Ницше вплоть до катастрофы в Турине, когда, увидев на улице, как кучер бьёт усталую клячу, философ в слезах бросился обнимать морду лошади, в состоянии острого помешательства был доставлен в психиатрическую клинику и оставшиеся десять лет своей жизни провёл на попечении матери и сестры, без надежды на выздоровление.
…Всё находилось поблизости, в двух шагах: и улица Герцена, бывшая Большая Никитская, по которой шёл, звеня и сворачивая от Манежа, трамвай, и магазинчик, где на прилавке дожидалось покупателя «Рождение трагедии», и Большой зал консерватории с портретами великих композиторов, в том числе Рихарда Вагнера, и университет, где в тесных коридорах Старого здания Доменико Жилярди помещался наш филологический факультет. Всё было рядом и происходило одновременно в ту памятную осень первого послевоенного года, и было внове: занятия классическими языками, увлечённость автором «Мира как воли и представления», полученного в подарок к семнадцатому дню рождения, знакомство с автором «Рождения трагедии из духа музыки», Заратустры, «Несвоевременных размышлений», «Весёлой науки», первое, триумфальное исполнение Полёта валькирий и Вступления к третьему действию Лоэнгрина в Большом зале…
Так возродилась для меня триада Томаса Манна – Вагнер, Шопенгауэр, Ницше, музыка гармонического трезвучия и головокружительная философия классического греческого и немецкого идеализма, так отворились ворота в германский мир.
2013
Полигисторический роман: Герман Брох
«Под лёгким, едва заметным бризом, нежно-голубые и отливающие металлом волны Адриатического моря катились навстречу императорской флотилии, когда, минуя слева медленно надвигавшиеся плоские холмы калабрийского берега, корабли вошли в бухту Бриндизия, – и вот, оттого ли, что солнечное, но дышащее близостью смерти одиночество моря превратилось в мирную и счастливую колыбель человеческих забот, оттого ли, что воды расцвели кротким отблеском человеческого жилья и заселились множеством судёнышек, сновавших туда и сюда, в гавань или из гавани, оттого ли, что, оттолкнувшись от низких волнорезов, защищавших многочисленные приморские селения и хутора, и развернув коричневые паруса, рыбацкие лодки со всех сторон покидали белый пенящийся берег, – вот, зеркало вод почти разгладилось, над ним раскрылась перламутровая раковина неба, вечерело, донеслись звуки жизни, стук молотка, ветер принёс чей-то зов, и почуялся запах горящих поленьев в очаге.
Из семи защищённых высокими бортами, выстроившихся в кильватер судов только два принадлежали военному флоту – первое и последнее: оба пятивёсельные, вооружённые таранами; остальные же пять, с десятью, с двенадцатью рядами вёсел, тяжеловесные и величественные, были изукрашены с той роскошью, какая подобает придворному обиходу, и самый богатый корабль, который шёл в середине, золотясь и сверкая обитым бронзой носом, сверкая львиными головами с продетыми в ноздри кольцами под поручнями носа, с пёстрыми вымпелами, развевающимися на мачтах, грозно и медленно вёз под своими пурпурными парусами шатёр цезаря. А следом за ним плыл корабль, на котором находился поэт – создатель «Энеиды», и знак смерти был начертан на его челе».
Эта медлительная, несколько высокопарная проза, ритм которой я пытался передать в несовершенном переводе, принадлежит Герману Броху: два первых абзаца 450-страничного романа «Смерть Вергилия».
Брох умер в Америке более пятидесяти лет назад. Он давно причислен к лучшим авторам нашего века, но в России всё ещё малоизвестен; скажем несколько слов о его жизни. Брох был сыном венского предпринимателя, разбогатевшего на оптовой торговле текстилем, и в начале века, в возрасте 21 года стал директором ткацкой фабрики, которую приобрёл его отец. Женитьба на девушке из аристократической семьи ещё больше упрочила его социальный статус, и всё же настоящего промышленника из него не получилось; он увлёкся философией и литературой, вошёл в круг венской художественной интеллигенции, познакомился с Элиасом Канетти, Георгом Лукачем, с подругой Кафки Миленой Есенской, с Робертом Музилем; продал фабрику, разошёлся с женой. В конце двадцатых годов Брох создал трилогию «Лунатики», затем был написан ещё один роман «Зачарованность», известный в нескольких редакциях. Ко времени присоединения Австрии Гитлером он был уже более или менее признанным литератором. В марте 1938 г. его арестовали в одном небольшом городке местные австрийские национал-социалисты, не столько, впрочем, за то, что он был евреем, сколько из-за его антифашистских статей. Сидя в тюрьме, где ему грозила смертная казнь, Брох сочинял новеллу о смерти Вергилия, из неё потом вышел роман. В камере у Броха началось кишечное кровотечение; его отпустили. Было ясно, что надо бежать из Австрии. Стараниями друзей (среди них был Джойс) удалось получить английскую визу, в июле он приехал в Лондон, осенью Томас Манн и Альберт Эйнштейн, два самых знаменитых представителя немецкой эмиграции в Америке, выхлопотали для него разрешение на въезд в Соединённые Штаты. Девятого октября 1938 года на голландском пароходе, в каюте третьего класса, имея в кармане шестьсот долларов, подаренных английским другом, пятидесятидвухлетний Брох прибыл в Нью-Йорк.
Дальше началась жизнь, хорошо знакомая всем политическим эмигрантам: жизнь под чужим кровом, скитания с места на место, притом, что Америка была и осталась лучшим, чем любая другая страна, прибежищем для людей столь сомнительной профессии, как литература. Брох получал время от времени стипендии от разных организаций, работал над своей безнадёжной прозой и, как мог, помогал другим беженцам, вновь и вновь прибывавшим по мере того как рейх глотал одну страну за другой. Академия искусств и литературы в Нью-Йорке присудила Герману Броху премию – тысячу долларов, затем он получил грант в Принстоне; это позволило продержаться ещё несколько лет. В год окончания войны вышла в свет «Смерть Вергилия», главная вещь.
Книга не сразу добралась до Германии, вообще роман прошёл почти незамеченным, лишний раз подтвердив истину о том, что подлинно современная литература редко бывает актуальной. Чтобы встретить немедленный и широкий отклик, художественная проза должна быть понятной и общедоступной, другими словами, банальной. Вот почему быть своевременным в литературе отнюдь не значит быть современным.
Брох сломал шейку бедра и год пролежал в больнице. Есть фотография: он полусидит в больничном кресле, перед ним грифельная доска с рукописью. Это был большой этюд «Гофмансталь и его время». Последняя крупная вещь, которую он успел закончить, отчасти составленная из старых материалов, был роман в новеллах под названием «Безвинные». Отчаянные усилия обогнать несущееся под уклон время жизни, изнурительный труд, дневной и ночной, над литературой, не имеющей никакого успеха, не способной даже прокормить писателя, что-то вроде растянутого самоубийства. Брох перебрался в городок Нью-Хейвен, резиденцию Йельского университета, где так и не получил постоянного места, и здесь скончался от коронарной болезни сердца в дрянной гостинице летом 1961 года.
В эссе, посвящённом Джойсу, Брох говорит о том, что действие «Улисса», книги объёмом в 1200 страниц, длится семнадцать часов, с восьми утра до двух часов ночи; один час – это 70 страниц текста, одна страница чуть дольше одной минуты. Будни мира равнозначны времени чтения, литературное время совпадает с временем жизни героя.
Почти столько же времени – столько, сколько требуется, чтобы прочесть книгу, – остаётся Вергилию. Автор объяснил, в чём смысл и содержание этого произведения, в заметке, которую он собирался предпослать американскому изданию:
«Книга рисует последние восемнадцать часов умирающего Вергилия, от момента его прибытия в порт Бриндизий и до кончины в послеполуденные часы следующего дня во дворце Октавиана Августа. Хотя книга написана от третьего лица, она представляет собой внутренний монолог поэта. Это прежде всего расчёт с собственной жизнью, спор с самим собой о том, была ли она правильной или неправильной в моральном смысле и насколько оправдано то, чему он посвятил жизнь, – его творчество. Перед смертью Вергилий хочет уничтожить свой труд, однако жизнь всякого человека вплетена в эпоху его бытия; итог, к которому он приходит, охватывает всю совокупность духовных поисков и многоразличных мистических течений, которые пульсируют в теле Римской империи этого последнего дохристианского столетия и которые сделали Вергилия предвестником христианства. Следовательно, дело не только в том, что лежащий на одре смерти и знающий, что он умирает, Вергилий принужден осмыслить так или иначе свой конец, что таким образом находит себе выражение весь мистический настрой эпохи, ярко высвеченный и усиленный в уме больного благодаря его лихорадочному состоянию, дело не только в том, что Вергилий приходит к выводу, что его труд оправдан, легитимирован как постижение смысла смерти. Но тем самым легитимирует себя как таковое и произведение Броха: лишь немногие создания мировой литературы отважились – и, заметим, с помощью чисто поэтических средств – подойти или, лучше сказать, подкрасться к феномену смерти так близко, как это сделал Брох. Книга Броха есть внутренний монолог, и, значит, её надо рассматривать как лирическое произведение. Это отвечает и намерениям автора…
Лиризм охватывает глубочайшие реальности души, те глубины психики, где иррациональные области чувства существуют на равных правах с владениями рассудка. То, что здесь раскрывается непрерывная, ежесекундная взаимная игра сознательного и бессознательного – в любое мгновение жизни героя и в каждой фразе, – принадлежит к особым достижениям этой книги.
Итак, речь идёт о единстве рационального и иррационального, их кажущаяся противоположность снимается в глубинах психики: это то единство, которое определяет всякую человеческую жизнь; всякий, кто всмотрится в свою жизнь, увидит в ней нерушимое единство, вопреки кажущимся противоречиям, которые её наполняют».
Я прошу обратить внимание на два обстоятельства. Брох может показаться рефлектирующим, умствующим, не доверяющим стихийному восприятию жизни писателем – и в самом деле таков: перед нами яркий пример «западного», с русской точки зрения, автора. Ещё немного, и мы увидим в нем образец западной рассудочности, мертвящего анализа, всего того, что со времён Ив. Киреевского ставилось в укор западноевропейскому просвещению. Ничуть не бывало. Речь идёт о труднейшей задаче, которую ставит перед собой литература XX века: создать синтетический образ мира, который одновременно был бы и грандиозной панорамой души.
Второе касается собственно текста, который только что процитирован: он принадлежит самому Броху. Автор «Смерти Вергилия» пишет о себе в третьем лице, выступая в качестве рецензента, представляющего публике новую книгу. Комментирование собственных текстов – не такая уж редкость в нашем веке, размышления над собственными книгами, попытка дистанцироваться от самого себя, выступить в роли автолитературоведа и создать метаязык творчества становится частью самого творчества. Томас Манн, как известно, охотно комментировал Томаса Манна, читал лекции о его произведениях и посвятил целую монографию творческой истории романа «Доктор Фаустус».
Слово «лирический» Брох употребляет в смысле, близком к тому, что было названо потоком сознания, главным образом применительно к Джойсу. Но когда мы читаем тридцатистраничный монолог Мэрион-Пенелопы без абзацев и знаков препинания, перед нами в буквальном смысле поток неуправляемого сознания, отчасти и подсознания, рыхлый катящийся шар полумыслей, полуэмоций; вдобавок, при всей своей пестроте, это весьма примитивное сознание. Внутренний монолог умирающего Вергилия – богатая и отрефлектированная речь, одновременно речь автора и героя. Джойс был любимым писателем Германа Броха, литературное родство с Джойсом признавал сам Брох. Тем не менее, пишет он, сходства между ними не больше, чем между таксой и крокодилом.
Здесь возникает проблема, назовём её эссеизацией романа. Под пером писателей-аналитиков, главным образом немецких, роман, который всегда был в первую очередь повествовательным жанром, становится огромным эссе, где автор не столько повествует о жизни героев, сколько рассуждает о них – а также комментирует собственные рассуждения. Язык романа, таким образом, многократно релятивируется. Такое произведение предъявляет к читателю немалые требования, и Броха (как и Музиля) упрекали в чрезмерном пристрастии к философствованию.
На эту тему есть любопытное место в одном письме Броха, когда он ещё жил в Вене и не догадывался, что придётся в скором времени бежать за тридевять земель.
«Вы знаете мою теорию, – пишет он в 1931 году своему издателю Даниэлю Броди, – о том, что роман и новая романная форма поглотили ту часть философии, которая хоть и отвечает метафизическим потребностям, но должна быть на нынешнем уровне научного исследования признана «ненаучной». Пришло время полигисторического, то есть универсально-гуманитарного романа. Но такой роман не означает, что мы обязаны нафаршировать его высокоучёными беседами или сделать главного героя научным работником. Роман – это художественное произведение, другими словами, он имеет дело с глубинными побуждениями души… Как бы ни было очевидно, что и Андре Жид, и Музиль, и «Волшебная гора» Томаса Манна, а теперь и Олдос Хаксли суть представители этой новой эры полигисторического романа, вы найдёте у этих писателей целые нагромождения учёных речей, задача которых – дать приют авторской эрудиции. У большинства этих писателей получается так, что наука, образованность стоят рядом с их художеством наподобие хрустального блока, от которого время от времени они откалывают кусочек, чтобы украсить им свой рассказ… Совсем иное дело Джойс. У Джойса вы всё-таки, в противоположность всем остальным, видите тенденцию отграничить рассудочно-интеллектуальный элемент от психического, отказаться от равномерноповествовательного течения прозы и ввести совершенно другой способ видения жизни… А теперь о моём методе: сколь бы охотно я ни сравнивал его с манерой Джойса, я держусь в своих собственных границах… В моих романах рациональное осмысление происходящего… исключает тот случай, когда «научность» стоит рядом с романом, как хрустальный блок; напротив, она непрерывно возникает из самого романа».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































