Текст книги "Когда боги удалились на покой. Избранная проза"
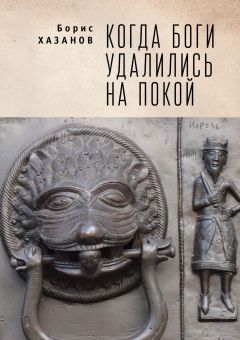
Автор книги: Борис Хазанов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Сон без сновидца: Кафка
Мир Франца Кафки строго упорядочен – как и язык его прозы. Есть известная фраза Мандельштама, младшего современника Кафки: «Вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела». Ничто не может быть противопоказано прозе больше, чем это слово поэта, – таково, по крайней мере, впечатление от чтения Кафки. Ошеломляющее действие этой прозы в немалой степени основано на кажущемся парадоксе: абсурдная ситуация описывается строгим, дисциплинированным, прозрачным языком, безумие предстаёт в форме добросовестного делового отчёта. Порой он напоминает стиль австрийской канцелярии. Не может быть никаких сомнений в его правдивости, как в мире сна нет сомнений в подлинности сновидения. Здесь нет противоречия: язык Кафки – это и есть его мир.
Мир Кафки упорядочен – в нём нет случайностей. Не может быть речи о произвольных решениях, всякая самодеятельность предосудительна, независимость репрессирована. Попытки нарушить порядок немедленно пресекаются. Свободы воли не существует. Всё происходящее в этом мире подчинено странной, мертвенной, алогичной логике. Всё действительно выглядит как чрезвычайно последовательный сон. Этим словом – сновидческий, сноподобный, – писатель характеризует в дневнике и свою собственную внутреннюю жизнь.
Но если это сон, то он снится не отдельному человеку, например, кому-нибудь из действующих лиц: проза Кафки свободна от субъективизма. «Действующими лицами», dramatis personae, их даже трудно назвать. Если это сон, то такой, в который погружены все персонажи, Чей-то сон, субъект которого отсутствует.
Мир Кафки может напомнить и некоторые формы шизофрении, так называемый бред отношения (Bezie-hungswahn), описанный классиками психиатрии, когда всё, что происходит вокруг, в глазах больного неслучайно, зловеще многозначительно, напоено угрозой, чревато опасностью: заговор вещей и обстоятельств. Этот мир следует закономерностям паранойяльного бреда – внутренне логичного, жестко детерминированного, хоть и основанного на абсурдных посылках. Они принимаются без критики как нечто само собой разумеющееся.
Жил ли сам писатель в таком мире? На это намекали первые советские интерпретаторы: осмелившись, наконец (в начале 60-х годов), нарушить запрет писать о Кафке, они давали понять, что речь идёт о душевнобольном авторе. Но Кафка не был сумасшедшим, вот уж нет. Кафка был наделён особой навязчивостью художественного воображения; назовём ли мы её патологией?
Не был он – на что указал в своё время Е.М. Мелетинский – и социальным критиком, разоблачителем бюрократических порядков Дунайской монархии. Подчеркнуть критицизм по отношению к буржуазному обществу считалось хорошим тоном «поплавков» – оправдательных предисловий к идеологически ненадёжным писателям. – Неуловимая ирония пропитывает романы Кафки. Тем не менее таинственный и крайне непривлекательный суд, разместившийся на чердаке, где невозможно разогнуться, не стукнувшись о стропила, суд, где проворачивается дело банковского служащего Йозефа К.; или какой-нибудь Титорелли, род придворного портретиста, который рисует судейских чиновников, восседающих в мантиях на троноподобных сиденьях, хотя на самом деле судьи так же непрезентабельны, как и всё учреждение; или замок графа Вествест, куда никак не может продраться сквозь бюрократическую паутину незадачливый землемер К.; или судьба несчастного Грегора Замзы, коммивояжёра, который превратился в огромное насекомое, позор семьи, – надо ли доказывать, что всё это отнюдь не сатира.
Тогда что же это? Вот ещё одно соблазняющее толкование (Г. Гессе). «Я думаю, среди душ, которым дано было – творчески, но и мучительно – выразить предчувствие великих переворотов, всегда будут упоминать Кафку». В самом деле, на тексты Кафки словно ложится тень близкого будущего – нашего времени. Хорошо помню, как меня поразил когда-то сюжет романа «Процесс». Он показался слишком знакомым. Человек живёт, ни о чём не подозревая, а в это время где-то там, в недрах тайных канцелярий, на него копится «дело». Множатся доносы, подшиваются всё новые материалы, дело переходит из одной инстанции в другую, обрастает визами, резолюциями, последний удар штемпеля – и за обречённым приезжают и волокут его на расправу. Чем не сюжет из нашей жизни?
Офицер, одновременно судья и палач из рассказа «В штрафной колонии», руководствуется правилом: «Виновность всегда несомненна» – разве это не похоже на лозунг советской тайной полиции: «Органы не ошибаются»? Разве все мы не были заведомо виновны самим фактом нашего существования, разве притча о вратах Закона, которую рассказывает Йозефу К. тюремный капеллан, – не метафора глухой засекреченности постановлений, инструкций и «установок», всей этой паутины, в которой барахтались граждане гигантского всесильного государства? Жизнь с чьего-то разрешения или по недосмотру, оттого, что у перегруженного делами начальства до тебя просто не дошли руки.
Но нет: ведь и это впечатление было только интерпретацией. Одной из многих, навязываемых Кафке, которыми возмущалась когда-то Сузан Зонтаг в нашумевшей статье «Против интерпретаций» и о которых писал Милан Кундера в книге «Преданные завещания». Достаточно перечитать «Процесс», чтобы заметить, что всё это и так, и не совсем так, и даже вовсе не так. Вот что пишет Райнер Штах, автор вышедшего к 80-летию смерти Кафки подробного жизнеописания, главным образом пятилетия 1910–1915, которое он считает решающим в судьбе писателя:
«Некоему прокуристу однажды утром сообщают, что он арестован. Оказывается, против него затеян процесс, но из-за чего, никто сказать не может. Все его попытки добраться до судебной инстанции, где он мог бы узнать, в чём дело, бесполезны… Под конец его уводят два палача, в заброшенной каменоломне совершается казнь».
«Легко убедиться, – продолжает Р. Штах, – что такое резюме – не более чем сюжетная схема; фактическое содержание книги при этом ускользает. Действительно ли Йозеф К. арестован? Об аресте сказано в первой фразе. Но о нём лишь сообщают потерпевшему. На самом деле он остаётся на свободе, ходит по-прежнему на службу. Первый допрос происходит на чердаке обыкновенного жилого дома, но сводится к установлению паспортных данных обвиняемого, к тому же ещё и фальшивых. Это карикатура на суд – ничего общего со знакомой тогдашнему читателю юстицией. “Арест”, “допрос”, “обвинение” – все эти слова нельзя понимать буквально, всё это хоть и похоже на то, чего мы ожидали, но вместе с тем и что-то другое».
То-то и оно, что в определение художественности входит неоднозначность (чтобы не сказать – неопределённость) замысла. То, о чём вам рассказывают – всегда так и не так. Здесь, но не только здесь.
Если можно говорить о «задаче» романа вообще, то это сотворение мифа о жизни. Такой миф обладает известным жизнеподобием, на него даже можно напялить маску актуальности; свой конкретный материал он черпает из общедоступной действительности (вернее, из кладовых памяти – в случае Кафки это легко проследить), но это только сырьё, материал, из которого воздвигается нечто относящееся к реальной жизни примерно так, как классический миф и фольклор относятся к историческому факту. С этой точки зрения традиционное противопоставление «реалистическая – нереалистическая литература» лишается смысла. В художественной прозе есть некоторая автономная система координат, сверхсюжет, внутри которого организуется сюжет, напоминающий историю «из жизни». В рамках литературной действительности – в царстве романа – миф преподносится как истина. На самом деле это игра. Ничего нет серьёзней этой игры; игра – это и есть истина. Истинный в художественном смысле, миф свободен от притязаний на абсолютную (внелитературную) философскую или религиозную истинность и, стало быть, радикально обезврежен.
Мир Франца Кафки, сказали мы, при всём его безумии упорядочен; можно добавить: мир Кафки не обезбожен. Какая-то мрачная религиозность чувствуется в его творчестве. Закон продиктован высшей волей. Эта воля надмирна и непроницаема. С ней невозможен какой-либо диалог. Так оказывается непроницаемой психика душевнобольного: язык, на котором он общается с окружающим миром, есть язык бреда. Если существует верховный Разум, это должен быть шизофренный разум. Не бог иудаизма (версия Макса Брода), суровый, но карающий за дело. Миром Кафки правит бог-шизофреник, напоминающий злого Демиурга гностиков Василида и Валентина. Зато трезвый дисциплинированный слог и утрата доверия к бытию – вот что делает создателя «Замка» и «Процесса» по-настоящему современным автором.
Франц (или Аншель) Кафка прожил без одного месяца 41 год. Его отец был то, что называется self-made man, подростком приехал из южно-богемского захолустья в Прагу, выбился в люди, владел магазином тканей и галантереи. Это был достаточно грубый и деспотичный человек. Кафка окончил немецкую гимназию и юридический факультет Карлова университета, прошёл годичную практику в итальянской страховой компании, много лет, до выхода на пенсию по болезни в 39 лет, был чиновником государственного Общества страхования рабочих от несчастных случаев на производстве.
Большую часть своей жизни Кафка был подданным Австро-Венгерской империи – «Какании» Роберта Музиля (словечко, образованное от официальной аббревиатуры K. und K., «императорская и королевская», и латинского глагола cacare, «какать») и в компендиумах истории литературы обычно причислялся, вместе с Верфелем, Мейринком, Бродом, Э. Вайсом, Э.-Э. Кишем, к пражскому анклаву немецкой литературы; впрочем, ни к какой школе не принадлежал и в литературе остался одиночкой. Немцы составляли в тогдашней Праге 7 процентов населения, это был верхний слой общества. Говорившие по-немецки евреи стояли на социальной лестнице ниже немцев, но выше большинства чехов. Представленная почти исключительно евреями пражская немецкая литература оставалась чуждой славянскому окружению, писатели не говорили по-чешски; Кафка, знавший чешский язык и носивший чешскую фамилию (торговым знаком отцовского магазина была галка, по-чешски kavka), был скорее исключением.
Кафка был холост. Женщины в его произведениях, например, фрейлейн Бюрстер или сиделка Лени в романе «Процесс», пожалуй, и Фрида в «Замке», ведут себя, как шлюхи; может быть, это отголосок почти неизбежного для молодых людей эпохи общения с проститутками; о более серьёзных событиях «личной жизни» можно узнать только из писем и дневника.
Нижеследующий абзац открывает главу «Боязнь секса и самоотдача» в упомянутой книге Р. Штаха:
«Слово “биография” буквально означает жизнеописание. Но почти всегда биография умолкает, когда кончается написанное и начинается жизнь. Тут биографа не было. Его дело – реконструкция, но материалом для неё служат не факты, как, может подумать читатель, а их следы в языке, в том, что содержится в разного рода заметках, в напечатанном и переданном с чьих-то слов. Поэтому соглядатай редко бывает хорошим биографом. Биографу же ничего не остаётся, как переписывать уже написанное… Вся спонтанная, органическая, телесная сторона жизни, короче, жизнь как она есть, – стремится вытеснить письмо. Таков парадокс жизнеописания – биограф не вправе утаивать его от читателя».
Живая жизнь. Речь идёт, в первую очередь о мучительно-нелепой истории с «фрейлейн из Берлина» – невестой Фелицей Леони Бауэр. Что происходило? Вечные сомнения, короткие встречи, скорые расставания. Две помолвки, обе расторгнуты.
Пятнадцатиминутный разговор с 12-летней Софи фон Кюн воспламенил Новалиса, и девочка, умершая три года спустя, вошла в историю немецкого романтизма. Встреча с женой банкира Сюзеттой Гонтар мгновенно решила судьбу Гёльдерлина. Один взгляд мальчика Данте на Беатриче Портинари в пурпурном одеянии… и прочее известно. Первое впечатление от Фелицы (запись в дневнике Кафки от 20 августа 1912 г.) было не то что любовью с первого взгляда, но попросту безрадостным.
«Фрл. Бауэр. Когда я пришёл 13-го к Броду, она сидела за столом. Сперва мне показалось, что это служанка. Никакого любопытства с моей стороны, всё же мы разговорились. Костистое пустое лицо, которое выставляет свою пустоту напоказ. Открытая шея, свободная блуза. Выглядела одетой по-домашнему, хотя на самом деле, как потом выяснилось, это было вовсе не так. Нос почти сломан, тусклые жестковатые волосы, сильный подбородок…»
В этой же записи, как удар камертона, обронено роковое слово Entfremdung – отчуждение.
Догадываешься, что характерная для Кафки реалистическая точность портрета (в дневнике есть много таких моментальных словесных снимков случайно увиденных девушек) как раз и обусловлена отчуждением: острый, бесстрастный, чтобы не сказать – мертвящий, взгляд со стороны. Но ведь и в самом деле нет большего соблазна для писателя, чем описание женщины.
Однако это было лишь мимолётное впечатление; последовало письмо (через месяц после знакомства): «Уважаемая фрейлейн! На тот очень возможный случай, если вы не сумеете вспомнить обо мне, я хочу ещё раз представиться: Франц Кафка…» Так началась эта история. Она описана не раз; это и есть то, о чём говорит Штах, напечатанное и пересказанное с чьих-то слов; лучшее в этой литературе – большое, основанное главным образом на переписке Кафки с Фелицей эссе Элиаса Канетти «Другой процесс». Р. Штах приводит множество новых подробностей и тонких соображений по этому поводу. Теперь это уже традиция: литературоведение занимается личностью писателя с таким же усердием, как прежде занималось его творениями; его интимная жизнь выставлена напоказ, словно ярко освещённая комната; творчество предстаёт как вспомогательный инструмент и отступает на задний план.
Вот нечто вроде фотоальбома. На известном снимке 1917 года Кафка стоит, Фелица сидит, на ней светлая блуза, просторная длинная юбка, на коленях сумочка. У неё открытое маловыразительное лицо молодой женщины, принявшей решение разделаться, наконец, со всеми недоразумениями. Официальная фотография после второй помолвки (в декабре расстались окончательно). Но какая разница с двумя сохранившимися фотографиями Кафки с младшей, любимой сестрой Оттлой (Оттилией): оба смеются, и вокруг них – облако тепла, доверия, братской дружбы, сестринской опеки. Сестру, – не мать и не любовницу, – искал Кафка в невесте. Ничего не получилось.
Ещё один двойной снимок десятых годов: дочь с матерью. Платье на Фелице с туго перетянутой талией, корсет подчёркивает бёдра и не слишком выпуклую грудь, отложной воротничок из кружев, широченная модная шляпа с искусственными цветами. Вымученная улыбка (чопорная мамаша не смеётся). Странные, притягивающие фотографии – точно с того света.
Ничего плохого нельзя было сказать о Фелице Бауэр. Она не была красивой, но ведь «нам с лица не воду пить». Честная прямодушная девушка из семьи среднего достатка, 25 лет, ассимилированная еврейка, трезвая, практичная, сама зарабатывающая себе на жизнь (машинистка фирмы по производству граммофонов и диктофонов), что тогда было некоторой новостью. Сколько-нибудь серьёзных препятствий к сближению, а в дальнейшем и к браку не было у Фелицы, никаких особых требований к будущему спутнику жизни не предъявлялось, родители вроде бы тоже были не против. Фелица не была влюблена, Фелица любила Кафку, было время, когда она, по-видимому, была даже готова «отдаться», отнюдь не будучи уверенной, что дело идёт к свадьбе.
Можно напомнить о том, что вплоть до 20-х годов в так называемом приличном обществе путь к браку исключал предварительное сожительство. Как только вырисовывалась официальная цель ухаживанья, вступал в действие ритуал жениховства: подключение семей, совместное времяпровождение, помолвка, соглашение о приданом, портниха, кольца. Наконец, публичное бракосочетание, и то, что было запретным, тотчас оказывалось не только дозволенным, но превращалось в обязанность. Кафку отвращал и этот ритуал, и перспектива этой обязанности.
Он считал себя созданным для семейной жизни. О горячей любви, видимо, говорить не приходится, но на свой лад он любил Фелицу. Больше того: в письмах говорится о «безграничном восхищении», о покорности и даже о сострадании. «Как прекрасен, – пишет он Броду, – взгляд её умиротворённых глаз, открытость женственной глубины». Но тотчас же заводит речь о страхе перед устойчивой связью. Он называет себя «алчущим одиночества» (gierig nach Alleinsein), достаточно трезвое суждение. Летом 1916 г. в Мариенбаде живут в одном отеле – в разных комнатах. Конвенция, не допускавшая телесной близости жениха и невесты, служила Кафке, так сказать, оправданием.
Вот ещё одна цитата. Уже весной 1913-го, – не прошло года со дня их знакомства, – он пишет Фелице:
«Что меня, собственно, пугает, – ужасней того, что я сейчас хочу тебе сказать, а ты – услышать, наверное, не бывает, – так это то, что я никогда не смогу тобой обладать, что в лучшем случае придётся ограничиться тем, что я, как потерянный, как верный пёс, буду целовать руку, которую ты рассеянно мне протянешь, и это не будет знаком страстной любви, но всего лишь выражением отчаяния того, кто обречён на вечную безъязыкость, вечное отъединение зверя. Меня пугает, что я буду сидеть подле тебя и, как уже случалось, чувствовать дыхание и жизнь твоего тела, а по сути видеть тебя ещё дальше от меня, чем теперь, когда я сижу в моей комнате. Что я никогда не сумею привязать к себе твой взор – и окончательно потеряю его, когда ты будешь смотреть в окно или закроешь лицо руками; что на людях мы будем демонстрировать наш союз – душа в душу, рука об руку, – а на самом деле – ничего подобного…»
Не смогу с тобой спать. Предположение об импотенции слишком напрашивается, чтобы быть правильным. Но он отдавал себе отчёт в том, что его трудная, подчас кошмарная внутренняя жизнь, до крайности интровертный характер плохо приспособлены для счастливой совместной жизни. А главное, он понимал, что писательство пожрёт всё: и любовь к женщине, и профессию, и вообще всё, что не работает на литературу. Кафка был приговорён к литературе.
Вырисовывается ещё один персонаж – в роман с Фелицей вторглось третье лицо: мы говорим о Грете Блох. Тут, правда, всё неясно в ещё большей степени. Затевается переписка, фрейлейн Блох берёт на себя инициативу: «Хотя мы незнакомы, я решила Вам написать, так как принимаю близко к сердцу счастье моей подруги». Вероятно, так оно и было. Но довольно скоро в письмах появилось и нечто личное; похоже, что Грете не справилась с самоотверженной ролью посредницы и адвоката Фелицы; во всяком случае, не всегда действовала по её поручению. Грете моложе подруги, ей 21 год, но она более активна в отношениях с мужчинами.
Есть фотография: совсем другой тип. Тёмные глаза, сжатые губы. почти страдальческий взгляд. Грете выглядит старше своих лет, возможно, снимок сделан позже.
Много лет спустя 48-летняя Маргарете Блох написала из эмиграции письмо одному знакомому, рассказ о том, как она посетила Прагу (мы сохраняем синтаксис оригинала).
«Я побывала тогда на могиле человека, который бесконечно много значил для меня. Он умер в 1924 году, его творчество ценится теперь очень высоко. Он был отцом моего мальчика, умершего в Мюнхене в 21-м году, ему не было ещё семи. Вдали от меня и моего ребёнка, если не считать короткой встречи на несколько часов, – он умер от смертельной болезни у себя на родине, а я была далеко. Никогда я об этом не говорила».
Речь идёт, конечно, о Кафке, но никаких документальных подтверждений сказанному нет.
Становится понемногу ясно, что это был за человек: высокий, очень худой, темноглазый и темноволосый, со взглядом, который на фотографиях кажется пронзительным, с лицом ассирийца; был чрезвычайно деликатен и несколько неловок; однажды (в ноябре 1911 г.) он записал: «Главное препятствие для моего продвижения в жизни – моё телесное состояние. С таким телосложением ничего не добьёшься». Как-то раз, придя в гости, Кафка шёл на цыпочках через комнату, где на диване дремал отец Макса Брода. Спящий открыл глаза. «Тс-с, – прошептал Кафка, – считайте, что я вам приснился». Этот рассказ Брода похож на притчу.
Вечно колеблющийся, мнительный, неуверенный в себе, готовый себя опровергнуть (словно следуя Талмуду, где вслед за утвердительным тезисом можно прочесть: «Но, быть может, справедливо и обратное»), он весьма критически, до самоуничижения, относился к своим писаниям, а вместе с тем знал доподлинно, что ни для для чего другого, кроме писательства, он не создан. «Я не “интересуюсь” литературой, я состою из литературы». На работе Кафка был на хорошем счету у начальства, прекрасно знал своё дело – и проклинал канцелярию. Придя с работы, он старается урвать часок для отдыха. По ночам пишет.
Рассказ «Приговор», одно из самых известных произведений Кафки, был написан в сентябре 1912 года (почти одновременно с первым письмом к Фелице). Запись в дневнике: «Рассказ этот я написал в ночь с 22-го на 23-е в один присест, с десяти вечера до шести утра. С трудом вытянул из-за стола ноги, онемевшие от долгого сиденья. Страшное напряжение и радость, когда история разворачивалась передо мной, словно двигалась в воде. За эту ночь я не раз тащил на себе свой собственный вес. Как можно всё сказать, как все мысли, самые дикие и неожиданные, плавятся и возрождаются в великом огне… Когда служанка вошла в переднюю, я дописывал последнюю фразу. Погасил лампу, светло. Слабые боли в сердце…»
Франц Кафка оставил около сорока законченных прозаических текстов – 350 печатных страниц – и три незавершённых романа; кроме того, множество мелких отрывков и набросков, дневник (3400 страниц) и полторы тысячи писем. Незадолго до смерти он написал завещание – в ящике письменного стола лежало письмо к Броду. Кафка просил самого близкого из немногочисленных своих друзей уничтожить всё, что не было напечатано, все рукописи, включая «Процесс», «Замок» и многое другое. Брод не выполнил эту волю.
После разрыва с Фелицей Бауэр Кафка был короткое время обручён с Юлией Ворыцек. Роману с Миленой Есенской-Поллак мы обязаны замечательными письмами. В конце жизни Кафке удалось оставить Прагу. Он провёл с юной Дорой Димант полгода в Берлине и скончался от туберкулёза гортани (заключительный акт давнего туберкулёзного процесса) в июне 1924 года, в санатории под Веной. Похоронен был в Праге, ненавистной и любимой, памятник-столб стоит на еврейском кладбище в Страшнице, там же лежат и родители Кафки. Три его сестры погибли в Освенциме.









































