Текст книги "Повести и рассказы"
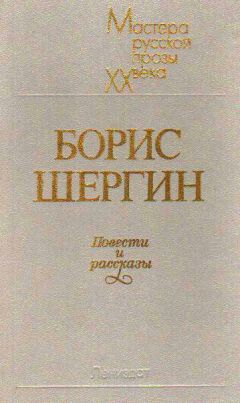
Автор книги: Борис Шергин
Жанр: Классическая проза, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц)
У АРХАНГЕЛЬСКОГО ГОРОДА
Егор увеселялся морем
Впоследствии времени пущай эти слова будут мне у гробового входа красою вечною сиять.
А сейчас разговор пойдет про свадьбу. О том, как Егор жену замуж выдал. Действительно, я свою бесценную супругу замуж выдал. Замуж выдал и приданое дал! Люди судят:
– Ты, Егор, всему берегу диво доспел. С тебя будут пример снимать.
– Не будут пример снимать, ежели рассмотрят, какими пилами сердца у нас перетирались.
Жизнь моя началась на службе Студеному морю. Родом я с Онеги, но не помню родной избы, не помню маткиных песен. Только помню неоглядный простор морской, мачты да снасти, шум волн, крики чаек. Я знал Студеное море, как любой человек знает свой дом. Ты идешь в темной комнате, знаешь, где скрипит половица, где порог, где косяк. Я судно в тумане веду. Не стукну о камень, не задену о коргу.
Теперешнее мое звание – шкипер, но судовая команда звала меня по-старому -кормщик – и шутила:
– Наш кормщик со шкуной в рот зайдет да и поворотится.
– Мореходство – праведный труд. Море строит человека.
Наше судно называлось «Мурманец». Много лет ходили мы на нем. Пятнадцать человек – все как одна семья. Зимовали на Онежском и на Зимнем берегу. Я занимался судовым строением, увлекался переправкой парусных судов на паровые. Чертил проекты и чертежи посылал в Архангельск.
Отдыхал с малыми ребятами: делал им игрушки. На Зимнем берегу был у меня приятель Колька Зимний. Обожал меня за кисти да за краски. Где меня ни встретит: «Дядюшка Егор Васильевич, срисуй кораблик!»
На Онежском берегу меня встречала маленькая Варенька. Я ей рассказывал про Кольку Зимнего. Она ему вышила платочек. Он ей послал рябиновую дудочку.
Маленькая Варенька любила мои сказки. Впоследствии она сама рассказала мне сказку моей жизни.
Имея дарование к поэзии, я две зимы трудился над стихами. В звучных куплетах изложил мое жизнеописание. Но едва начну читать, как слушателей сковывал могучий сон.
Я тогда не думал о своих годах, о возрасте. Годы жизни были словно гуси: летели, звали, устремлялись…
Мне стукнуло пятьдесят годов.
Получаю приглашение явиться в управление Архангельского порта. Товарищи мои обеспокоились:
– Что ты, шкипер! Неужели нас покинешь? Не являйся и не отвечай.
– Ребята, я вернусь через неделю. Может, любознательность какая.
– Смотри, шкипер. Отпускаем тебя на десять дней, не более.
Я ушел от них на десять дней – и прожил в разлуке с ними десять лет.
Являюсь в Архангельск. Оказалось, что над конторой порта поставлен некто, старый мой знакомец. Он меня встречает, стул поддерьгает. Из своих рук чаем потчует:
– Садись, второй Кулибин. Я нашел твои изобретательные чертежи о примененье парового двигателя в парусном ходу. Мы в этом направленье оборудовали мастерскую. Работай и сумей увлечь мастеровую молодежь.
…Я шел по городу без шапки. Шапку позабыл в конторе. Смеяться мне или плакать?
Мастеровая молодежь оценила жизнерадостность моей натуры. Был я слесарь и столяр, токарь и маляр , чертежник и художник.
Покатились дни и месяцы. Сравнялся год, пошел другой.
Вышеупомянутый начальник так аттестовал мою работу:
– Я не ошибся, что призвал тебя. Но не могу тебя понять. Ты механик, чинишь пароходные машины, а твои ученики только и слышат от тебя, что гимны легкокрылым парусным судам.
Так прошло пять лет. И такое у меня чувство, будто меня обокрали. Нет, – будто я кого-то обокрал. О покинутой семье, то есть о морской моей дружине, я старался ничего не знать, я усиливался позабыть…
Как весна придет, я места не могу прибрать:
– Эх, шкипер, пять годов на якоре стоишь! Выкатал бы якорь, открыл бы паруса -да в море…
…Нет, я на прибавку к якорю цепью приковался к берегу еще на пять годов.
Получаю письмо с Онеги. Варенька, которую я помнил крошкой, пишет, что, за смертью отца, желают они с матерью жить в Архангельске. Умеют шить шелками, знают кружевное дело.
Я жил в домике, который мне достался после тетки. Пригласил Вареньку к себе.
Встретил их на пристани. Со шкуны сходит девица в смирном платье, тоненькая, но, как златая диадима, сложены на голове косы в два ряда. Давно ли на зеленой травке резвилась, а тут… Взгляни да ахни! И какое спокойствие юного личика! Какая мечтательность взгляда! Тонкость форм не во вкусе по нашему быту, но я обожаю мечтательность в женщине.
Они стали жить у меня в верхнем покойчике.
Мне – за пятьдесят, Варе – двадцать, а я по первости робел. Она выйдет шить на крылечко, я из-под занавески воздыхаю и все дивлюсь: «Что это люди-те у моих ворот не копятся на красу любоваться?»
Дальше – Варя поступила в школу, учить девиц изяществу шитья. Я тоже осмелел. Укараулю Варю дома, подымусь на вышку, будто к маменьке, а разговоры рассыпаю перед дочкой:
– Ну, задумчивая Офелия, признайтесь, кто из коллег– учителей вам больше нравится?
Варя шутливо:
– Офелию вода взяла. Ужели я с утопленницей схожа?
– Кто-нибудь да утонет в вашем сердце…
И мать вздохнет:
– Сердце закрыто дверцей. Истинная Фефелия. Хоть бы ты, Егор, ее в театр сводил.
Я за это слово ухватился. Представление привелось протяжное. Моя дама не скучает, переживает от души. Переживал и я. В домашности даже касательство руки предосудительно, в театре – близкая доверчивость. Притом воздушный туалет и аромат невинности…
В гардеробной подаю Варе шубку, а сторожиха с умиленьем:
– Ишь, папенька как доченьку жалеет! Видно, одинака дочка-то?
Дома в зеркало погляделся: сюртук по старой моде. Борода древлеотеческая… Что же, старее тебя есть кобели, и те женились на молоденьких. Мало ли исторических примеров!
Ум мой раздвоился. Корабль руль утерял, и подхватили его неведомые ветры.
Не узнают дядю Егора его ученики: брюки с напуском при куцом пиджачке, бородка а-ля Фемистофель. Во рту папироса, курить не умею.
Приглашаю Варю в оперетку. Половина действия не досидела:
– Как это можно любовь на смех подымать, а измену выхвалять?!
Как-то в мастерской наступил я кошке на хвост. Ребята рассмеялись:
– Егор Васильевич, жениться задумал?
– Кто вам сказал?
– Примета такая. Рассеянность чувств.
Я постарался открыть свои чувства в стихах. Варя отвечала грустным взглядом. Наконец я изъяснился со всею тонкостью, вынесенною из книг. Варя покорно опустила глаза.
Первый-то год после свадьбы «молодой муж» на крыльях летал, на одном каблуке ходил. С лестницы бегом и на лестницу бегом. На работу побежу, жене воздушны поцелуи посылаю. А поясница аккуратно дождь и снег предсказывает. Изучил тонкую светскую манеру поведенья – ножкой шаркать и ручку целовать. Да, любовь у юноши душу строит, а у старика душу мутит.
А Варя какова была, такая и осталась. Ни вздоров, ни перекоров, ни пустых разговоров. Никогда меня не оконфузила, не оговорила, не подосадовала. Чуть припаду с простуды, она и ночь не спит. И школу посещала, ремесло свое правила радетельно. Детей любила. С улицы чужого ребенка притащит, обмоет да накормит.
Варенька была охотница до романов, изображающих высокие волнения страстей. Но к себе того не примеряла.
Таковым побытом мы прожили с ней четыре года. Но у меня такое чувство, будто меня обокрали. Нет, – будто я кого-то обокрал.
Было ненастливое лето. В море бушевали непогоды. Ходили слухи о крушениях. В один ненастный день меня требуют в контору. Начальник говорит:
– На Соломбальском острове находится шкуна по имени «Обнова», потерпевшая аварию. Шкуна принадлежит Онежскому обществу, но контора собирается ее купить. Возлагаю на тебя ремонт. Возьми помощников. Имей в виду, что шкипер этой шкуны – аттестованный механик. Приобучался в Петербурге, Николай Иванов.
– Не слыхал такого, – говорю.
Пришел в Соломбалу на лихтере. Ребята выгружают матерьялы, инструменты, а я на эту шкуну наглядеться не могу. Истинно «Обнова»! Какая легкость и изящество постройки! Разговариваю с ней, со шкуной-то, пробоины руками глажу:
– Не горюй, голубушка моя. Залечим твои раны. Будешь краше прежнего…
Вдруг кто-то меня руками сзади охапил. Оглядываюсь: молодой детина, станом крепок, лицом светел.
– Вы кто будете? – спрашиваю.
Детина состроил мальчишескую рожицу и выговорил только:
– Дядюшка Егор, срисуй кораблик!
– Колька Зимний! Ах ты, милый мой! Ах ты, желанный…
Меня почему-то страшно взволновала новость, которую мне Коля сообщил: команда его шкуны почти целиком состояла из былых моих товарищей по «Мурманцу». Старый «Мурманец» обветшал, но согласие его дружины осталось нерушимо.
Спрашиваю Колю:
– Они где теперь?
– Поспешили на родину, в Онегу. Но я слышал, что управление порта не хочет отпустить таких отменных моряков.
Варе я рассказал о встрече с Колей Зимним, а ему устроил маленький сюрприз. Он знал, что я женат, но ожидал увидеть хлопотливую старушку. Вообразите изумление молодого человека, когда перед ним предстала моя задумчивая Офелия в венце прекрасных кос.
– Варенька, вот этот джентльмен когда-то смастерил трумпетку из рябины и послал тебе в подарок.
Варенька смеется, протягивает ему руку. Он ее руки не замечает, покраснел:
– Так это вы… Это вы мне вышили платочек?…
Я хохочу впокаточку:
– Это я вас, сопленосых, сватал. Дары от жениха невесте за море возил. Упустили вы свое счастье. Сват-то сам не промах. Ха-ха-ха! А ты, Коля, почему не женат?
– Судьбы не было, Егор Васильевич.
С весельем я у этой шкуны работал.
Как матка дочку умывает да утирает, учесывает да углаживает, наряжает и любуется, так я эту «Обнову» уделывал и обихаживал. И то было умильно и утешно, что для старых моих товарищей стараюсь. Пускай добром помянут кормщика.
Варя иногда придет, шанег горячих принесет.
Как-то в обед сижу я, отдыхаю под берегом: чайки кричат, рыбу промышляют. Меж седого камня синий колокольчик, незабудки. Вдруг слышу смех: Коля с Варей собирают по угору шиповник на букет. Она боится оступиться, он ее за руку содержит. И что у них смеху, разговору! Молодость их берет. А мне что-то скучен стал сияющий день, полиняло небо, поблекли цветы.
Стал я уросить и обижаться. Ну, посудите сами: этот молодой человек разбил о камни судно. Заместо того чтобы с сокрушенным сердцем помогать мне у починки этого судна, он зубоскалит с дамами, подносит им букетики.
Коля за столом пустяк соврет – Варенька смеется, как колокольчик. А я учну что-нибудь полезное объяснять – в ней захватывающего вниманья нет. А уж, кажется, любезная, могла бы ты за столько лет оценить мои любопытные познания и рассудительность понятий…
А Николай что? Неосновательность мнений, невнимание к тайнам природы. От моря пошел, а к морю должного пристрастия нет. При всем желании нечем восхищаться: ни изящества воспитанных манер, ни светской обходительности… Медвежонок! Каждая лапа с ведро. Только и есть, что располагающие глаза да зубы со смехом.
Мне были тягостны такие переживания. Будто два человека боролись во мне. Один, любящий и добрый, радовался, что Варя оживилась и повеселела, а другой кто-то ревновал и оскорблялся.
Но и Варя что-то заметила в своем сердце и чего-то испугалась. Как-то раз сговорились мы втроем на остров по морошку. Я, изобретаючи олифу, позамешкался. И Варя отказалась:
– Я без мужа ездить неповадна.
Как дом отеческий, я шкуну обновил и учинил. И, отделав дела, как с домом отеческим, простился. Николай остался жить в Соломбале.
Потянулась ненастливая осень. Залетали белые мухи. Варя ни разу Соломбалу не помянула. Николая не проименовала.
Николай приехал к нам по первопутку. Завидев гостя, Варя дрогнула и с лица сменилась. Он гостил у меня два дня. Варя не сказала с ним двух слов. По отъезде в глазах ее установилась смертная тоска. Молчит, склоняясь над шитьем. За оконцем неустанно-неуклонно падает снег…
Что же делает Егор в присутствии плачевной супруги? Вознамерился презрение показывать и безотрадно в том преуспевал. Оледенело сердце, и страшная была зима душевная.
Думали, конца зиме-то не дождаться…
Однажды Варя мне сказала:
– Егор Васильевич, Коля мне пишет. Письма все в красненьком столике.
Я процедил сквозь зубы:
– За низкость почитаю интересоваться подобными секретами.
Однажды ночью слышу: Варя вздыхает, плачет за своей перегородкой, Я выговорил ехидным тенорком:
– Бабушка, бывало, молилась: «Пошли мне, господи, слезную тучу». Я спишу для вас?
Остегнул ее таким словом и – ужаснулся. Я ли это? Ей ли, бедной, говорю? Хотел зареветь, заместо того скроил рожу в улыбку.
Коля явился к нам на масленой. Я только охнул. Будто кто его похитил: глаза ввалились, по привычке улыбается, но улыбка самая страдальческая.
Я был маленько выпивши и запел дурным голосом:
Где твое девалось белое тело?
Где твой девался алый румянец?
Белое тело на шелковой плетке,
Алый румянец на правой на ручке.
Плетью ударит, тела убавит.
В щеку ударит, румянца не станет.
Пою… И тяжкий груз, который меня всего давил, во едино место собрался: вот-вот скину. Заплакать бы – еще не могу.
На другой день Барина мать мне «по тайности» высказывала:
– Коля без тебя заходил проститься. Они всегда молча сидят. А тут он глядел-глядел, да и пал перед Варей. Обнял ей ноги, положил ей голову на колени и заплакал навзрыд, как ребенок. Варя лила слезы безмолвно, прижимая к устам платок, чтобы заглушить рыданья. Потом отерла Колино лицо и сказала: «Коля, много у нас цветов было посеяно, мало уродилося. Коленька, когда мы будем в разлуке, не грусти безмерно. Моя душа всякий раз слышит твою печаль и скорбит неутешно».
Я прибежал к себе, зачал бороду рвать и кусать: «Ирод ты! Журавлиная шея, желтая седина! Что ты, мимо себя, на людей нападаешь? Что ты свою жизнь надсаживаешь?
Опять весна пришла, большие воды, немеркнущие зори. Было слышно, что старые товарищи мои согласились поступить на «Обнову». Контора их ждала со дня на день. Но какое мне дело до вольных людей!
Какой-то вечер мы сидели с Варей, молчали. Приходит Зотов, пароходский знакомый. К разговору спрашивает:
– Что это ваш Николай Зимний затевает? Подал в управление порта просьбу о зачислении его в команду Новоземельской экспедиции. Вторую неделю живет в городе. Остановился у меня.
Варя сделалась белее скатерти. Вышла из комнаты. Слышу, наверху, в светелке, дверь скрипнула.
Когда Зотов ушел, я поднялся к Варе. Она где плакала, у окна на сундучке, тут и уснула. И столько было ейного возрыданья, что и рукав и плат мокры от слез. Негасимый свет летней ночи озарял лицо спящей. И грозно было видеть неизъяснимую печаль на сомкнутых глазах, горечь в сжатых устах.
Жалость пуще рогатины ударила мне в сердце. И, опрятно встав, руки к сердцу, заплакал я со слезами. И тихостным гласом, чтобы не нарушить скорбного сна, зачал говорить:
– Дитятко мое прежалостное, горькая сиротиночка! Где твоя красота? Где твоя премилая молодость? Ты мало со мною порадовалась. Горьки были тебе мои поцелуи. Я неладно делал, лихо к лиху прикладывал. Совесть меня укоряла – я укорам совести не верил. Видел тебя во слезах – и стыдился утешать. Сколько раз твоя печаль меня умиляла, но гордость удержала. Кукушица моя горемычная, горлица моя заунывная! Звери над детьми веселятся, птица о птенцах радуется, – ты в холодном гнезде привитала. Ты, как солнце за облаком, терялась, мое милое дитя ненаглядное! Был я тебе муж-досадитель, теперь я тебе отец-покровитель…
Шепчу эти речи, у самого слезы до пят протекают. А красное всхожее солнышко золотит сосновые стены.
Так я в эту ночь свою гордость обрыдал и оплакал.
Но часы – время коротаются, утро – в полном лике. Прилетел морской ветерок, и занавески по окнам залетали, как белые голуби. Внизу я наказал, чтобы покараулили Варин сон, чтобы, как проснется, шла она к Коле на квартиру и ждала меня там, у Зотова.
А сам достал из сундука поморскую свою одежу коричневых сукон, вязаную, с нездешними узорами рубаху, бахилы с красными голенищами, обрядился, как должно, и легкою походкой отправился в контору.
В конторе прямо подлетаю к начальнику, не обратив вниманья на людей, сидящих вдоль стены:
– Господин начальник, я по личному делу…
Удивленно взглянув на меня, он показал рукой на сидящих:
– Ты с ними не знаком, Егор Васильевич?
Я оглянулся и… повалился в ноги им, старой дружине моей.
Сколько у меня было слов приготовлено на случай встречи с ними! А только и мог выговорить:
– Голубчики… Единственные… Простите.
Они встали все, как один, и ответно поклонились мне большим поклоном:
– Здравствуй многолетно, дорогой кормщик и друг Егор Васильевич!
Меня усадили на стул. А я все гляжу на них, вековых моих друзей, на их спокойные лица, степенные фигуры.
Начальник говорит:
– Ты пришел, Егор Васильевич, более чем кстати… Да ты ведь по личному делу?
– Я шел сюда проситься в команду «Обновы».
Начальник говорит:
– Я ожидал этого. Но правление не отпустит тебя, если не представишь заместителя. А такого не предвидится.
Я спрашиваю:
– Верны ли слухи, что Николай Зимний ушел с «Обновы»?
– Ушел. Отказался от этой службы категорически. По каким-то личным обстоятельствам.
Я говорю:
– Господин начальник, вот бы кто поставил мастерскую на должную высоту. Николай Зимний – судовой механик с аттестатом.
Начальник даже крякнул:
– Эх, Егор! Лучшего бы выхода и для тебя и для меня не было. Но Николай Зимний рвется в дальние края. Он заявил мне: «Если не устроите меня в Новоземельскую экспедицию, я уйду в дальние зимовья на купеческих судах…» Уперся, уговаривай его хоть год.
Я стукнул кулаком о стол и говорю:
– Господин начальник, я берусь уговорить Николая остаться в городе. И сроку мне понадобится не год, а пять минут.
Все глаза вытаращили.
– Каким образом?…
– Цепью его прикую к пристани.
– В добрый час, Егор! Орудуй!
Я побежал к Зотову, где жил Николай. Остоялся в сенях, слушаю… Варя плачет с причетью:
Не одна родитель нас родила,
Одной участью-таланом наградила:
Что любовь наша – печаль без утешенья.
Мне не честь будет старого мужа бросить.
Он не грозно надо мной распоряжался,
Не обидел меня грубым словом.
Он много цветов посеял, мало уродилось.
Николай говорит:
– Мне должно уехать, Варенька, но не терплю без вас быть!
Я дверь размахнул, за порог высокоторжественно ступил:
– Принимайте меня с хлебом-солью! Доченька! Много ты потерпела бедностей, и ты ныне возрадуйся! Я, твой бывший муж, ныне же твой отец, торжествую над собой пресветлую победу. Отдаю тебя Николаю на руки, Ивановичу навеки… Николка, я твою думу разбойницкую всю знаю. Не затевай! Не езди!
Он прослезился горько и отер слезы:
– Егор Васильевич!… Мы вас не согласны обидеть…
Варя пала мне в ноги:
– Благодарствую, Егор Васильевич! Спасибо на великом желаньице. Ты доспел себе орлиные крылья, нашел в себе высокую силу.
Ты мужскую обиду прощаешь,
Превысоких степеней отцовских доступаешь,
Перед тобой мы безответны и немы.
Я подхватил ее с полу, как ребенка:
– Дочка, подыми лицо и более ни перед кем не опущай! Дети! Я упал больно, встал здорово. Теперь буду вашей радости пайщик, вашего веселья дольщик, вашего счастья половинщик.
Видя мою радость, Коля с Варей стали краше утра.
Я учредил их в моем домишке и, как куропать вырвавшись из силка, устремился к старой и вечно юной морской жизни.
Радость одна не приходит: дружина моя объявила портовой конторе, что подпишутся в службу только в том случае, ежели шкипером на «Обнове» положат старого их кормщика Егора Васильева.
Вот и настал этот торжественный день моего освобожденья, день отпущенья. Низменная конторская палата будто светом налилась. Все мы собрались сполна. Начальник конторы сам перо в чернильницу обмакнул и подает мне:
– Подписывайся, кормщик.
Я говорю:
– Дозвольте, господин начальник, чин справить, у дружины спроситься.
Товарищи зашумели:
– Егор Васильевич! Это чин новоначальных. Ты старинный мореходец.
Я говорю:
– Совесть моя так повелевает.
Они сели вдоль стены чинно. Я встал перед ними, нога к ноге, рука к сердцу, и выговорил:
– Челом бью всем вам, и большим, и меньшим, и середним: прошу принять меня в морскую службу, в каков чин годен буду. И о том пречестности вашей челом бью, челом бью.
И, отведя руки от сердца, поклонился большим обычаем, дважды стукнув лбом об пол. Они встали все, как один, и выговорили равным гласом:
– Осударь Егор Васильевич! Все мы, большие, и меньшие, и середние, у морской службы быть тебе велим, и быть тебе в чину кормщика. И править тебе кормщицкую должность с нами однодумно и одномысленно. И будем мы тебе, нашему кормщику, послушны, подручны и пословны.
И вот я опять в море. Попутный ветер свистит в снастях. Волны идут рядами, грядами.
Обгоняем поморскую лодью. Они кричат нам:
– Путем-дорогой здравствуйте!
Я отвечаю:
– Вам здоровья многолетнего на всех ветрах!
От них опять доносится:
– Куда путь правите?
Я отвечаю:
– Из Архангельского города в Мурманское море…
И опять только волны шумят да ветер разговаривает с парусами.
О море! Души моей строитель!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































