Текст книги "Тропы песен"
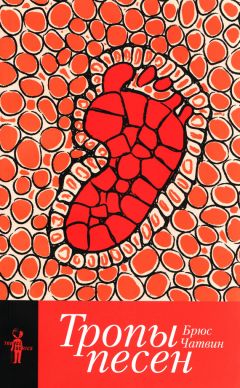
Автор книги: Брюс Чатвин
Жанр: Зарубежные приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
Юноши – у одного были бицепсы «штангиста», второй был строен и прекрасен, – пришли спросить у Мари, нет ли у нее какой-нибудь лишней косметики.
– Mais sûrement…[78]78
Ну конечно (фр.)
[Закрыть] – она позвала нас из спальни, и мы все зашли.
Дотянувшись до своей дамской сумочки, она высыпала ее содержимое на постельное покрывало и стала перебирать его, время от времени приговаривая: «Non, pas ça!»[79]79
Нет, не это! (фр.)
[Закрыть] И все-таки ребята взяли по каждому из оттенков губной помады, лака для ногтей, теней для век и карандашей для бровей. Они завернули свою добычу в головной платок. Еще она дала им несколько старых номеров журнала «Elle». Потом, застучав сандалиями по террасе, они со смехом убежали.
– Это для их обряда, – объяснила мне Мари. – Сегодня ночью они оба станут мужчинами. Вы должны на это посмотреть! Un vrai spectacle.[80]80
Настоящий спектакль (фр.)
[Закрыть]
– Обязательно посмотрю! – ответил я.
– За час до заката, – сообщила она. – Перед дворцом эмира.
С крыши дворца эмира мне открывался отличный вид на двор, где играли трое музыкантов – трубач, барабанщик и человек, дергавший за струны трехструнного инструмента с тыквой-горлянкой в качестве резонатора.
Человек, сидевший рядом со мной, ancien combattant[81]81
Бывший фронтовик (фр.)
[Закрыть], хорошо говорил по-французски.
Вышел «мастер обрядов» и велел двум молодым помощникам обозначить на земле круг, насыпав белого порошка, чтобы получилось подобие цирковой арены. Когда это было сделано, молодые люди встали на страже «сцены» и начали отгонять всех, кто пытался проникнуть за эту границу, пуками пальмовых волокон.
Среди зрителей было много женщин-бороро среднего возраста с дочерьми. На дочерях было нечто вроде белых вуалей. На матерях была одежда цвета индиго, а в ушах у них болтались большие медные кольца. Они смотрели на предполагаемых зятьев с видом бывалых посетительниц рынков чистокровных животных.
Во внутреннем дворе стояли юноши, которые в течение последних четырех лет должны были щеголять в женских нарядах. Мы услышали многоголосый крик – и вот под рокот барабанов вышли двое юношей, вымазанные гримом из косметички Мари.
У «крепыша» был нарисован вокруг губ розовый лук купидона; ногти у него были алыми, а веки – зелеными. На пышном платье без бретелек лавандовые полоски были нашиты на розовую нижнюю юбку. Впечатление портили ядовито-зеленые носки и кроссовки.
Его друг, «красавец», был выряжен в тугой лиловый тюрбан, облегающее платье с белыми и зелеными полосками; он явно лучше разбирался в современной моде. Губная помада была наложена очень аккуратно, а на обеих щеках розовыми и белыми чертами он нарисовал два четких прямоугольника. На нем были зеркальные черные очки, он любовался собой в маленькое зеркальце.
Толпа потешалась.
Еще один молодой бороро вынес им на выбор «геркулесовы» дубинки, все только что вырезанные из ствола акации. Выбор оружия он предоставил красавцу.
Сняв темные очки, красавец томно указал на самую большую дубинку, сунул что-то себе в рот и помахал своим друзьям на крыше. Они ревом выразили ему одобрение и подняли на остриях копий свои пластмассовые канотье.
Мастер обрядов взял выбранное красавцем оружие и с торжественным видом официанта, подающего на стол «шато-лафит», вручил дубинку крепышу.
Затем красавец вышел на середину круга и, держа солнечные очки над головой, запел фальцетом. Тем временем его друг, обеими руками держа дубину и размахивая ею, выделывал пируэты с другой стороны очерченного круга.
Барабанщик ускорил темп. Красавец пел так, что, казалось, у него вот-вот лопнут легкие; а крепыш, продолжая кружиться, подходил к нему все ближе. Наконец одним костедробительным ударом он обрушил дубину на ребра своего друга, а тот издал победный клич: «Яу…о…о…о…о…!», но не дрогнул.
– О чем он поет? – спросил я у соседа-ветерана.
– Он поет: «Я могу убить льва… У меня самый большой член… Я могу удовлетворить тысячу женщин…» – ответил тот.
– Ну, конечно, – сказал я.
После того как они проделали то же самое еще два раза, настал черед красавца дубасить крепыша. Когда с этим тоже было покончено, они оба – лучшие друзья и побратимы на всю жизнь – принялись скакать вокруг зрителей, а те протягивали к ним руки и совали им в размалеванные лица банкноты.
Держась за руки, юноши направились обратно во дворец. Потом через те же обряды прошли еще две пары, но те были уже не такими «шикарными». Потом они тоже удалились.
Помощники стерли белый круг, и зрители толпой потянулись во двор, ожидая какого-то события.
Было уже почти темно, когда из внутреннего двора долетели леденящие кровь крики. Снова барабанная дробь – и вот стройным шагом вышли все шестеро, напряженные и блестящие от пота, в черных кожаных юбках, в шапках со страусовыми перьями, покачивая плечами, размахивая мечами: они шли соединяться с девушками.
– Теперь они мужчины, – сказал мне фронтовик.
Я поглядел сквозь полумрак вниз: множество сине-черных фигур напоминали ночные волны с парой беляков, а среди них крапинками свечения поблескивали серебряные украшения.
35
Рольф и Уэнди, чтобы не мешать друг другу, имели отдельные жилища. Рольф с книгами занимал караван. Уэнди в те ночи, когда ей хотелось побыть одной, спала в бетонном сарайчике. Раньше, когда уроки проводились на открытом воздухе, это был школьный склад.
Как-то раз она пригласила меня зайти посмотреть, как она работает над словарем. Моросил дождик. С запада двигалось легкое дождевое облако, и все попрятались по хижинам.
Я застал ее со стариком Алексом: они оба сидели на корточках над подносом с ботаническими образцами – стручками, засушенными цветами, листьями и корешками. На нем было фиолетовое бархатное пальто. Уэнди давала ему образец, тот вертел его так и сяк, подносил к свету, что-то шептал сам себе, а потом произносил его название на пинтупи. Она просила его повторять названия по нескольку раз – чтобы не ошибиться в фонетическом звучании. Затем она прикрепляла к образцу ярлычок с подписью.
Алекс не знал только одного растения: это была засушенная головка чертополоха.
– Это принес белый человек, – нахмурился он.
– Да, он прав, – сказала мне Уэнди. – Этот вид завезен сюда европейцами.
Она поблагодарила его, и он ушел, перебросив копья через плечо.
– Он – настоящий клад, – сказала она, улыбаясь ему вослед. – Но расспрашивать приходится понемногу: у него внимание рассеивается.
У Уэнди царила такая же строгость и простота, какой у Рольфа царил беспорядок. Одежду она держала в чемодане. В комнате стоял металлический серый остов кровати, умывальник и телескоп на треножнике.
– Это семейная реликвия, – пояснила она. – Он еще моему деду принадлежал.
Иногда она вытаскивала ночью кровать и засыпала, глядя на звезды.
Она взяла поднос Алекса и повела меня в другой, жестяной сарайчик, еще более тесный, где на подмостях было разложено еще множество разных образцов – не только растений, но и птичьих яиц, насекомых, рептилий, птиц, змей и пород камней.
– Я вроде как этноботаник, – рассмеялась она. – Но все это как-то постепенно вышло из-под контроля.
Алекс был ее лучшим информатором. Его познания в области растений были неиссякаемы. Он так и сыпал названиями разных видов, говорил, когда и где каждый из них цветет. Они служили ему чем-то вроде календаря.
– Когда работаешь здесь в одиночестве, – сказала Уэнди, – в голову приходят всякие сумасшедшие идеи, а проверить их не на ком, – она откинула голову и засмеялась.
– Хорошо, что у меня есть Рольф, – добавила она. – Ему-то ни одна идея не кажется сумасшедшей.
– Например?
Уэнди никогда профессионально не училась на лингвиста. Однако, работая над словарем, она заинтересовалась мифом о Вавилонской башне. Зачем, если жизнь всех аборигенов была более или менее одинакова, в Австралии существовало около 200 языков? Можно ли это объяснить только межплеменной враждой и обособлением? Конечно нет! Она уже склонялась к мысли, что сами языки были тесно связаны с распределением разных видов по земле.
– Иногда, – сказала она, – я прошу старика Алекса назвать мне какое-нибудь растение, а в ответ слышу: «Безымянное», что означает: «Это растение не растет на моей земле».
Тогда она разыскивала другого информатора, который ребенком жил там, где это растение росло, – и выяснялось, что все-таки название у него имеется.
«Сухая сердцевина» Австралии, продолжала она, представляет собой мозаику микроклиматов: в каждой местности имеются свои минералы в почве, произрастают разные растения, водятся разные животные. Человек, выросший в одной части пустыни, досконально знал «свою» флору и фауну. Он знал, какое растение привлекает ту или иную дичь. Он знал тамошние источники вод. Он знал, где искать съедобные клубни под землей. Иными словами, благодаря тому, что он знал по имени все «вещи» на своей территории, ему не грозила гибель.
– Но если, скажем, с завязанными глазами отвести его в чужую землю, – сказала Уэнди, – то он может заблудиться и умереть с голоду.
– Потому что он утратит привычную опору?
– Да.
– Ты хочешь сказать, что человек как бы «делает» территорию своей, называя все «вещи», имеющиеся на ней?
– Да, именно! – ее лицо осветилось радостью.
– Тогда, выходит, никакой основы для всемирного языка никогда не существовало?
– Да. Да.
Уэнди рассказала, что и в наши дни мать-туземка, заметив у своего ребенка первые признаки речи, дает потрогать ему «вещи», которые имеются на их земле: листья, плоды, насекомых и так далее.
Ребенок, сидя у материнской груди, начинает играть с «вещью», лопотать ей что-то, пробовать на зуб, запоминает ее название, повторяет его – и наконец выбрасывает ее.
– Мы дарим нашим детям пистолеты и компьютерные игры, – сказала Уэнди. – Они дарили своим детям землю.
* * *
Величайшая задача поэзии – наделять смыслом и страстью бесчувственные вещи; детям как раз свойственно брать в руки неодушевленные предметы и разговаривать с ними, играя, как будто они – живые существа… Эта филогогически-философская аксиома доказывает нам, что в пору детства мира люди по природе своей были величайшими поэтами…
Джамбаттиста Вико, «Новая наука», XXXVII
Люди дают выход бурным страстям, разражаясь песней: такое мы наблюдаем у тех, кто объят страшным горем или, наоборот, преисполнен великой радости.
Вико, «Новая наука», LIX
Древние египтяне считали, что вместилищем души является язык: язык был тем рулем или веслом, с помощью которого человек плыл по реке жизни.
В «первобытных» языках слова очень длинные, они состоят из очень сложных сочетаний звуков; их скорее поют, чем просто проговаривают… Вероятно, первые в мире слова были по сравнению с современными словами тем же, чем были плезиозавр и гигантозавр по сравнению с современными пресмыкающимися.
О.Йесперсен, «Язык»
Поэзия – это родной язык человеческого рода; точно так же и сад старше поля, рисунок старше письма, песня старше декламации, притчи старше умозаключений, а обмен старше торговли…
Всякий страстный язык невольно делается музыкальным – с музыкой более тонкой, нежели просто музыка ударений; речь человека, охваченного праведным гневом, становится настоящей поэмой, песнью.
Томас Карлейль, цитируется у Йесперсена в «Языке»
Слова добровольно льются из груди, без нужды и без намерения, и не было, наверное, ни в одной пустыне ни одного кочевого племени, у которого не было бы собственных песен. Как животный вид, человек есть певчее создание, однако с музыкальным мотивом он сопрягает мысли.
Вильгельм фон Гумбольдт, «Языковая изменчивость и развитие интеллекта»
Согласно Штрелову, на языке аранда слово tnakama означает «называть по имени», а также «доверять» и «верить».
Собственно поэзия никогда не выступает просто более возвышенным тоном (мелосом) повседневной речи. Скорее, все наоборот: повседневный язык является забытой и потому затертой поэмой, в которой почти не слышно прежнего зова.
Мартин Хайдеггер, «Язык»
Ричард Ли подсчитал, что бушменский ребенок «проезжает» на руках родителей расстояние примерно в 7400 км, прежде чем сам начинает ходить. Поскольку на протяжении этой ритмической фазы он постоянно повторяет названия всего, что только ни есть на его территории, он просто не может не вырасти поэтом.
Пруст – с большей проницательностью, чем какой-либо другой писатель, – напоминает нам о том, что сырьем нашего сознания становятся детские «прогулки»:
Цветы, которые я вижу теперь впервые, кажутся мне ненастоящими. Направление в Мезеглиз с его сиренью, боярышником, васильками, маком, яблонями, направление в Германт с рекой, где было полно головастиков, с кувшинками и лютиками навсегда сложили для меня предствавление о стране, где мне хотелось бы жить… Васильки, боярышник, яблони, которые попадаются мне теперь, когда я гуляю, расположены на глубине, на уровне моего прошлого, они мгновенно находят доступ к моему сердцу. [83]83
Цитата из романа М. Пруста «По направлению к Свану» (перевод Н. Любимова).
[Закрыть]
Общее правило биологии гласит, что мигрирующие виды менее «агрессивны», чем оседлые.
И под этим кроется одна объективная причина. Сама миграция, как и паломничество, – это полное тягот странствие: «уравнитель», в котором «пригодные» выживают, а отставшие погибают.
Таким образом, странствие отменяет необходимость в иерархии и в демонстрации господства. «Диктаторами» животного царства являются те, кто живет в обстановке достатка. Анархисты же, как всегда, – это «рыцари большой дороги».
Что поделаешь? Мы появились на свет с Великой Тревогой. Отец учил нас, что жизнь – это долгий путь, с которого сбиваются лишь негодные.
Эскимос-карибу в беседе с доктором Кнудом Расмуссеном
Эта выписка приводит мне на ум неопровержимую находку – ископаемые останки двух особей Homo habilis, которые были притащены в пещеру Сварткранс и там съедены: одним был мальчик с опухолью мозга; второй – старуха, больная артритом.
Из работ, которые рекомендовала мне почитать Элизабет Врба, одна называлась «Состязание или мирное существование?» и принадлежала перу Джона Уинса.
Уинс – орнитолог, работающий в Нью-Мексико, – изучал поведение перелетных певчих птиц – американских спиз, пустынных овсянок, горных кривоклювых пересмешников, – которые каждое лето возвращаются вить гнезда в засушливые земли Западных Равнин.
В тех краях, где вслед за голодным годом может наступить внезапная пора изобилия, птицы вовсе не увеличивают свою численность, что как-то объяснялось бы количеством пищи; не возрастает и конкуренция между соседями. Похоже на то, заключил Уинс, что в сообществе мигрантов существует некий внутренний механизм, благоприятствующий товариществу и сосуществованию.
Далее он утверждает, что великий дарвиновский принцип «борьбы за существование», как это ни парадоксально, возможно, гораздо более актуален для устойчивого климата, чем для непостоянного. В местах гарантированного изобилия животные метят свои границы и защищают свои участки территории очень воинственно. В неблагополучных, бедных кормом местах, где природа редко бывает щедрой – зато обычно достаточно пространства для перемещения, – животные ухитряются извлекать пользу из имеющихся скудных ресурсов и потому приучаются жить без драк.
В книге «Традиции аранда» Штрелов противопоставляет два центрально-австралийских народа: один – оседлый, второй – подвижный.
Аранда, живущие в земле, где есть надежные источники и в изобилии водится дичь, были архиконсерваторами, чьи церемонии оставались неизменными, обряды инициации крайне жестокими, а наказанием за святотатство была смерть. Они считали себя «чистым» народом и редко покидали свою землю.
Люди Западной Пустыни, напротив, были настолько же открыты, насколько аранда были замкнуты. Они свободно заимствовали друг у друга песни и танцы, любили свою землю ничуть не меньше, но вечно находились в пути. «Самое поразительное в этих людях, – пишет Штрелов, – это их смех. Это веселый, смешливый народ, который ведет себя так, словно никогда в жизни не ведал забот. Аранда, приобщившиеся к цивилизации на овцеводческих станциях, говорят про них: «Они вечно смеются. Не могут смех сдержать».
Поздний летний вечер на Манхэттене; толпы устремляются прочь из города, едут по нижней Парк-авеню, куда с поперечных улиц падает косой свет, а целые стаи бабочек-монархов, попеременно то коричневых в тени, то золотых в солнечных лучах, вылетают из-за Пан-Ам-билдинга, спускаясь от статуи Меркурия на вокзале Грэнд-сентрал и продолжая двигаться через нижнюю часть города в сторону Карибского моря.
Читая о миграциях разных животных, я узнал о странствиях трески, угря, селедки, сардины и о самоубийственных массовых исходах леммингов.
Я взвешивал все доводы «за» и «против» существования «шестого чувства» – магнетического чувства направления, – которое таилось бы в глубинах центральной нервной системы человека. Я видел переход антилоп гну по Серенгети.[84]84
Национальный парк в Танзании.
[Закрыть] Я читал о птенцах, которые «учатся» перелетам от своих родителей, – и о кукушатах, которые никогда не знали своих родителей, и потому, наверное, тяга к странствиям у них в генах.
Все миграции животных были изначально обусловлены сдвигами климатических поясов, а в случае зеленой черепахи – сдвигом самих континентов.
Возникали разные теории относительно того, как птицы определяют свое положение по высоте солнца, по фазам луны, по восходу и заходу звезд; и как они вносят поправки в свой курс, если во время полета их сносит в сторону бурей. Некоторые утки и гуси умеют «распознавать» лягушачьи концерты и тем самым «определять», что пролетают над болотами. Другие ночные летуны кричат, опуская головы вниз, и, вслушиваясь в эхо, определяют, на какой высоте летят и каков характер местности под ними.
Рев мигрирующих косяков рыб способен проникать через стенки кораблей и среди ночи поднимать моряков с коек. Лосось знает на вкус воду своей отчей реки. Дельфины посылают щелкающие звуки в сторону подводных рифов, чтобы заранее понять, есть ли там безопасный проход… Мне даже приходило в голову, что, когда дельфин производит «триангуляцию», чтобы установить свое местонахождение, его поведение уподобляется нашему: ведь мы все время называем и сравниваем «вещи», с которыми встречаемся в повседневной жизни, и тем самым определяем свое место в мире.
В каждой из книг, с которыми я знакомился, приводился, как нечто само собой разумеющееся, рассказ о самой удивительной из птичьих миграций – о перелете полярной крачки: эта птица гнездится в тундре, зимует в антарктических водах, а потом снова летит обратно на север.
* * *
Я захлопнул книгу. Кожаные кресла Лондонской библиотеки начали нагонять на меня сон. Человек, сидевший рядом со мной, уже храпел, распластав литературный журнал у себя на животе. К черту миграцию! – сказал я себе. Я положил стопку книг на стол. Мне хотелось есть.
На улице было холодно, стоял солнечный декабрьский день. Я надеялся напроситься на обед к одному приятелю. Я шел по улице Сент-Джеймс и поравнялся с клубом «Уайтс», как вдруг там притормозило такси, и из него вышел человек в пальто с бархатным воротником. Он протянул пару фунтовых бумажек таксисту и направился к ступенькам клуба. У него были густые седые волосы и сплошная сетка кровеносных сосудов на лице – будто на щеки ему натянули прозрачный красный чулок. Это был герцог – я узнал его по фотографиям из прессы.
В тот же миг другой человек – в старой солдатской шинели, в башмаках, зашнурованных обрывками бечевки, на босу ногу – ринулся ему навстречу с заискивающей улыбкой на лице.
– Э… Простите за беспокойство, сэр, – проговорил он с сильным ирландским акцентом. – Я подумал, может быть…
Герцог молча скрылся за дверью клуба.
Я поглядел на бродягу, и тот понимающе подмигнул мне. Над пятнистым черепом развевались жидкие рыжеватые пряди. У него были водянистый просительный взгляд, сфокусированный близко к носу. Лет ему было, наверное, около семидесяти. Оглядев меня, он счел, что не стоит труда клянчить деньги у такого, как я.
– У меня есть идея, – сказал я ему.
– Да, командир?
– Вы ведь человек странствующий, верно?
– Весь мир изъездил, командир.
– Ну так вот: если вы согласитесь рассказать мне о ваших путешествиях, я с удовольствием угощу вас обедом.
– А я с радостью соглашусь.
Мы завернули за угол и дошли до битком набитого недорогого итальянского ресторана на Джермин-стрит. Там был один свободный столик.
Я не стал предлагать ему снять шинель, опасаясь того, что может обнаружиться под ней. Запах от него исходил неописуемый. Две хорошенькие секретарши попятились от нас, подбирая юбки, словно ожидая нашествия блох.
– Что будете есть?
– Э… А вы что будете?
– Не стесняйтесь, – сказал я. – Заказывайте все, что хотите.
Он проглядел меню, держа его вверх ногами с уверенным видом завсегдатая, который чувствует себя обязанным свериться с plat du jour.[85]85
Дежурное блюдо (фр.)
[Закрыть]
– Бифштекс с жареной картошкой! – сказал он.
Официантка прекратила покусывать кончик карандаша и бросила страдальческий взгляд на секретарш.
– Задок или филей? – спросила она.
– Как вам угодно, – ответил бродяга.
– Два филея, – уточнил я. – Один средний. Один средний с кровью.
Он утолил жажду пивом, однако его ум был загипнотизирован предвкушением еды, и из уголков рта уже потекли слюнки.
Я знал, что у бродяг имеется особая методика, что они регулярно наведываются к одним и тем же полюбившимся мусорным ящикам. А в чем, спросил я его, заключается его метод попрошайничать около лондонских клубов?
Он на минутку задумался, а потом ответил, что лучшее место – это «Атенеум». Среди его членов еще остались религиозные джентльмены.
– Да, – задумчиво произнес он. – Там обычно можно и шиллинг выпросить у какого-нибудь епископа.
Вторым по счету «рыбным» местом в прежние времена был клуб «Травеллерз». Состоявшие в нем джентльмены, как и он сам, повидали мир.
– Можно сказать, родственные души, – заметил он. – Но теперь… не то… не то…
Теперь «Травеллерз» сильно изменился, не то что раньше. Там собирались люди совсем другого склада.
– Рекламные работники, – сказал он хмуро. – Очень прижимистые, могу вас заверить.
Он добавил, что «Брукс», «Будлз» и «Уайтс» относятся к той же категории. Слишком высокий риск! Или щедрость… или ни шиша!
Бифштекс, когда его принесли, полностью лишил его способности поддерживать беседу. Он набросился на него со слепой яростью, поднес тарелку к лицу, начал слизывать соус, а потом, вспомнив, где находится, снова поставил тарелку на стол.
– Еще порцию? – спросил я.
– Не откажусь, командир, – отозвался бродяга. – Очень любезно с вашей стороны!
Я заказал еще один бифштекс, а он начал рассказывать историю своей жизни. Она стоила внимания! Это была именно такая развернутая повесть, какую я желал услышать: бедная ферма в графстве Голуэй, смерть матери, Ливерпуль, Атлантика, скотные загоны в Чикаго, Австралия, Депрессия, острова Южных морей…
– О-о-о! Вот это место, молодой человек! Та-ити! Ва-инес!
Он высунул язык, провел им по нижней губе.
– Ваинес! – повторил он. – Так там называют женщин… О-о-о! Кра-сотки! Занимался этим, стоя под водопадом!
Секретарши попросили счет и ушли. Я заметил тяжелые челюсти метрдотеля, который сверлил нас враждебным взглядом. Я уже начал опасаться, что сейчас нас вышвырнут.
– Ну, хорошо, – сказал я. – Я хотел бы у вас еще кое-что спросить.
– Да, командир! – отозвался бродяга. – Я само внимание.
– Вы бы хотели когда-нибудь вернуться в Ирландию?
– Нет. – Он прикрыл глаза. – Нет, я не хочу туда. Слишком много плохих воспоминаний.
– Ну, а есть ли на свете такое место, которое вы считаете своим «домом»?
– Конечно есть. – Он снова вскинул голову и усмехнулся. – Promenade des anglais[86]86
Английская набережная (фр.)
[Закрыть] в Ницце. Когда-нибудь слышали о нем?
– Приходилось, – ответил я.
Однажды летней ночью, гуляя по Набережной, он разговорился с очень грамотным французским джентльменом. Они не меньше часа обсуждали по-английски международные дела. Затем джентльмен достал из бумажника купюру в 10 тысяч франков – «Старыми, заметьте, старыми!» – и, вручив ему свою визитную карточку, пожелал ему приятного отдыха.
– Тысяча чертей! – прокричал он. – Это был начальник полиции!
Он пытался при любой возможности снова вернуться к этому памятному и самому трогательному эпизоду своей карьеры.
– Да, – хихикал он. – Я стрельнул милостыню у начальника полиции… в Ницце!
Ресторан был уже не таким заполненным. Я заказал бродяге две порции яблочного пирога. От кофе он отказался, объяснив, что у него от кофе брюхо болит. Он рыгнул. Я расплатился.
– Благодарю вас, сэр, – произнес он с видом человека, который закончил давать очередное из множества интервью, назначенных на сегодня. – Надеюсь, вам пригодился мой рассказ.
– Безусловно. – я тоже поблагодарил его.
Он поднялся, но вдруг снова уселся и внимательно на меня посмотрел. Описав внешние события своей жизни, он решил, что не следует уходить, не сказав хотя бы несколько слов о ее внутренней мотивации.
Медленно, очень серьезно, он проговорил:
– Меня будто какая-то сила все тянет и тянет на дорогу. Я как полярная крачка, командир. Это такая птица. Красивая белая птица, которая летит с Северного полюса на Южный полюс, а потом обратно.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































