Текст книги "Гениальность и помешательство"
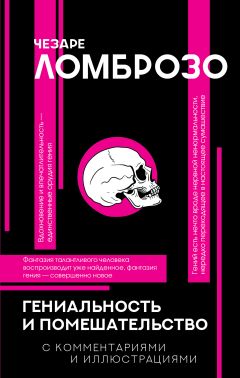
Автор книги: Чезаре Ломброзо
Жанр: Классики психологии, Книги по психологии
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
VIII
Сумасшедшие артисты и художники
Хотя артистические наклонности весьма резко и почти всегда проявляются при некоторых формах умопомешательства, но лишь немногие из психиатров обратили должное внимание на это обстоятельство. Насколько мне известно, о нем писал только Тардье, который признал, что рисунки сумасшедших имеют громадное значение в судебной медицине, и доказал это на деле; затем Симон, который, исследуя вопрос о развитии воображения у помешанных, нашел, что люди, страдающие манией величия (мегаломаньяки), особенно склонны заниматься рисованием и что воображение усиливается обратно пропорционально здоровому состоянию мозга; и, наконец, доктор Фрижерио, поместивший по этому вопросу прекрасную статью в «Дневнике дома умалишенных в Пезаро» 1880 года. Кроме того, в том же году я составил вместе с Максимом дю-Кан небольшой очерк «Arte nei pazzi» («Искусство у сумасшедших»), помещенный в журнале «Архив психиатрии и судебной медицины». Нам с дю-Кан удалось всесторонне исследовать занимавший нас вопрос о проявлении артистических наклонностей у сумасшедших при помощи богатого материала, собранного в больницах для умалишенных, находящихся в Пезаро и Павии, а также благодаря недавней френиатрической выставке в Реджио и содействию многих специалистов, помогавших нам не только советами, но и доставлением множества интересных документов и факсимиле. На основании собранных таким образом данных мы нашли артистические наклонности у 107 помешанных, в том числе 46 человек занимались живописью, 10 – скульптурой, 11 – резьбой, 8 – музыкой, 5 – архитектурой и 27 – поэзией.
Френиатрия (греч.: лечение мозга, «мозгоправство») – не вошедший в широкое употребление термин того времени, означавший психиатрию.
По роду психического расстройства эти больные распределялись так:
25 страдали извращением чувств (sensoria) и манией преследования;
21 – безумием (demenza);
16 – мегаломанией (мания величия);
14 – острым или перемежающимся помешательством;
8 – меланхолией;
8 – общим параличом;
5 – нравственным помешательством (follia morale);
2 – эпилепсией.
Из этих цифр очевидно преобладание неизлечимых форм помешательства и сопряженных с полной потерей рассудка (demenza) – мегаломания, паралич и мономания.
Сопоставляя сведения, так любезно доставленные мне коллегами из различных мест, с моими собственными наблюдениями, я пришел к заключению, что провинции, где особенно процветают искусства, – Парма, Перуджиа, дают и наибольшее число помешанных с артистическими наклонностями, тогда как их очень мало в Павии, Турине и Реджио.
Из числа этих 107 человек были: 8 живописцев или скульпторов, 10 столяров, архитекторов и резчиков на дереве, 10 учителей или духовных [лиц], 1 телеграфист, 3 студента, 6 моряков, военных или инженеров, откуда ясно, что лишь у немногих появление артистических наклонностей обусловливалось профессией и приобретенными до болезни привычками, которые, без сомнения, должны были оказывать влияние на творческую деятельность их во время психического расстройства.
Так, инженер чертил планы машин и оконные косяки; двое моряков делали маленькие суда, совершенно пропорциональные во всех частях, трактирщик рисовал на полу столы, украшенные пирамидами фруктов, и пр. В Реджио один столяр вырезывал прелестные орнаменты и арабески; в Генуе капитан-моряк сначала устраивал изящные лодочки, а потом принялся за живопись, хотя прежде никогда не занимался ею, и постоянно рисовал сцены из морской жизни, что, по его словам, служило ему облегчением в тоске по любимой стихии. Некоторые, принявшись за прежние занятия, выказывают, под влиянием сумасшествия, странное увлечение своей работой и разрисовывают столы, стены, а при случае даже и пол. Один из подобных живописцев обнаружил во время болезни такие дарования, что его копия с Мадонны Рафаэля была удостоена премии на выставке. В больнице Адриани столяр, страдавший перемежающимся безумием, выполнял художественные работы из дерева. То же самое наблюдали и другие врачи. Знаменитый живописец Миньони, уроженец Реджио, принадлежавший к типу большеголовых (окружность головы 60 сантиметров, вместимость черепа – 1671, лицевой угол – 73, вес мозга – 1555), у которого мать была истеричная, а брат – эпилептик, поступил в больницу Реджио вследствие полного умопомешательства (demenza) и мегаломании и провел там 14 лет в полнейшей праздности; наконец, по совету доктора Зани, он снова принялся за кисти и расписал все стены великолепными картинами, на которых изобразил историю графа Уголино до того реально, что одна больная, чтобы избавить несчастных отца и сына от голодной смерти, бросала куски мяса в стены, вследствие чего на них и до сих пор еще сохранились жирные пятна.
Арабески – здесь: сложные узоры, наподобие арабской каллиграфии и арабского архитектурного декора, далее употребленное как синоним арабесок слово «шифры» (от арабского: буквы, цифры) означает составление узоров из букв, принятое в арабской каллиграфии. Ломброзо справедливо считает наиболее частым свойством искусства психически больных (ар-брют) детализацию, доходящую до натурализма, соединенную при этом с капризностью и произвольностью самого художественного решения.
Уважаемый доктор Фунойоли писал мне, что в Сиенском доме умалишенных в продолжение 10 лет находился один живописец, страдавший манией преследования, который превосходно разрисовал больничные палаты. Но это все исключительные случаи; вообще же под влиянием потери рассудка люди, никогда не бравшие в руки кисти, чаще делаются живописцами, нежели настоящие живописцы снова берутся за кисти. Например, Делапьер сообщает, что известный живописец Мак-Кленель, сойдя с ума, сделался поэтом, а физик Мельмур, потерявший рассудок от горя вследствие смерти его жены в день свадьбы, превратился в словесника (letterato [гуманитария, знатока литературы]) и перестал заниматься своей специальностью. В Сиене живет знаменитый скульптор Л., у которого после легкого паралича статуи начали выходить непропорциональными. Умственное расстройство если и заглушает некоторые артистические дарования, зато вызывает другие, не существовавшие прежде, и сообщает творчеству отпечаток оригинальности.

Из восьми находившихся в Перуджии живописцев, характеристики которых прислал мне Адриани, четверо сохранили вполне свой талант под влиянием острого или перемежающегося сумасшествия; у двоих дарование значительно ослабело, так что они по выздоровлении уничтожали написанные во время болезни картины; у одного оно совсем исчезло, и наконец, последний – липеманьяк – утратил правильность рисунка и колорита. Один живописец, пишет мне Верга, в таком излишестве употреблял красную краску, что все написанные им фигуры, казалось, изображали пьяных. Алкоголики, напротив, всегда злоупотребляют желтой краской, что Фрижерио заметил и у одного больного, страдавшего нравственным помешательством. Известен также случай, когда живописец-алкоголик потерял всякую способность различать цвета и до того усовершенствовался в употреблении одной только белой краски для своих картин, которые писал в промежутках между периодами запоя, что сделался первым во всей Франции художником по части зимних, северных пейзажей. Кретины, идиоты, слабоумные или чертят фигурки детей, или постоянно воспроизводят один и тот же рисунок, как, например, Гранди, хотя и они обнаруживают иногда замечательные способности в раскрашивании и составлении арабесок: мне самому случалось два раза видеть кретинов, прекрасно рисовавших шифры. Часто даже люди в нормальном состоянии, не чувствовавшие никакой склонности к искусству, после болезни вдруг начинают заниматься рисованием и всего усерднее именно в момент ее наибольшего развития.
Один каменщик, находившийся в Пезарской больнице для умалишенных, обнаружил большой талант к рисованию и во время маниакальных припадков всегда принимался чертить карандашом карикатуры на служителей и заведующих больницей, причем изображал их в нелепом виде, испытывающими различные мучения. Так, например, когда повар не дал ему какого-то рагу, он нарисовал его в позе и с лицом Ессе Homo (хотя тот был круглолицый толстяк) перед железной решеткой, которая не позволяла ему воспользоваться помещенными за нею лакомыми кушаньями. (…)
Ломброзо правильно отмечает, что в ар-брют частный случай возводится к наиболее общим символам, например, отсутствие еды – к распятию, и из-за такого разрыва между частным и общим каждый символ приобретает сразу несколько противоречащих друг другу значений: распятие означает и муку самого пациента от недостатка еды, и препятствие, некий забор, мешающий получить добавку, сеть означает и корзину с едой, и плен, и соблазн, и уловки повара не давать еду, смешивая физиологические и риторические впечатления.
Рассмотрим теперь более подробно самые рисунки.
1. Выбор сюжета обусловливается у многих характером умственного расстройства: липеманьяк рисовал постоянно человека с черепом в руке; женщина, страдавшая мегаломанией, непременно помещала изображение божества на своих вышивках; мономаньяки по большей части пользуются какими-нибудь эмблемами для обозначения мучащих их воображаемых бедствий. У меня есть пасквиль, составленный одним чиновником из Вогера, воображавшим, что его преследует префект посредством ветров; поэтому он изобразил на рисунке с одной стороны толпу гонящихся за ним врагов, а с другой – защищающих его судей. Одна женщина, страдавшая манией преследования и отчасти эротическим помешательством, нарисовала образ Богородицы, а в подписи под ним сделала намек, что это – ее собственное изображение.
Помещала изображения божества – в оригинале: вписывала слово БОГ (DIO) в узоры своей вышивки. Сомнительно видеть в этом мегаломанию, а не навязчивое желание завести себе «амулет» на каждой вышивке.
Пасквиль – здесь представление врагов в драматической сцене. Ветров – имеется в виду наветов, клевет, клеветников, отсюда необходимость юридической защиты.
2. Психическое расстройство часто вызывает у больных, как мы уже убедились в этом относительно гениев и даже относительно гениальных сумасшедших, необыкновенную оригинальность в изобретении, что резко выражается даже в произведениях полупомешанных людей. Причина этого ясна: ничем не сдерживаемое воображение их создает такие причудливые образы, от которых отшатнулся бы здоровый ум, признав их нелогичными, нелепыми. Так, например, в Пезаро была одна дама, придумавшая особый способ вышивания или, скорее, выкладывания: она выдергивала нитки из материи и потом наклеивала их слюной на бумагу.
Такая необычная технология работы с нитями, не шить, а наклеивать, встречается и в нынешнем ар-брют. Дело в том, что с шитьем у таких художниц ассоциируется работа их организма, например, образование плода, и попытка шить или прясть иначе, чем принято, – это попытка справиться с фактом своей телесности.
Другая вышивальщица, страдавшая запоем, так живо воспроизводила бабочек, что они казались трепещущими, и придумала такой способ вышивания белыми нитками, что шитье выходило с полутенями, как будто не одноцветное. В Мачерато один сумасшедший воспроизвел посредством палочек фасад больницы, а другой изобразил в скульптуре целую песенку, хотя и не особенно отчетливо; точно так же в Генуе один помешанный вырезывал трубки из каменного угля.
Хотя и не особенно отчетливо – в оригинале: едва ли поддающуюся расшифровке.
В Реджио некто Занини сшил себе один только сапог для того, чтобы никто не мог воспользоваться им; с одной стороны этого сапога был сделан разрез, который связывался веревочкой, а сверху – отвороты, разрисованные иероглифами.
В Пезаро был один больной, которому очень хотелось вернуться домой, но его не отпускали под тем предлогом, что переезд стоит слишком дорого. Тогда он соорудил себе чрезвычайно оригинальный экипаж – нечто вроде четырехколесного велосипеда.
Один больной, страдавший горделивым помешательством, рисовал арабески, по большей части таким образом, что из различных завитков выходили то коробка, то животное, то человеческая голова, то железная дорога, то пейзажи, виды городов и пр.
Наконец, оригинальность проявляется уже и в том, что сумасшедшие обнаруживают дарование в таких искусствах, которыми они прежде никогда не занимались.
3. Но в конце концов и самая оригинальность превращается у всех или почти у всех помешанных в нечто странное, причудливое и кажущееся логическим лишь в том случае, когда нам известен пункт их помешательства и когда мы представим себе, до какой степени разнузданно у них воображение. Симон заметил, что в мании преследования, а также в паралитической мегаломании воображение бывает тем живее и сила творческой, эксцентрической фантазии тем деятельнее, чем менее нормально состояние умственных способностей. Один психически больной живописец, например, уверял, что он видит недра земли, а в них – множество хрустальных домов, освещенных электричеством и наполненных чудным ароматом и прелестными образами. Далее он описывал представляющийся ему город Эммы, у жителей которого по два рта и по два носа – один для обыкновенного употребления, а другой – для более эстетического; мозг у них – серебряный, волосы – золотые, рук – три или четыре, а нога только одна и под нею приделано маленькое колесо. (…)
Такой эпизод вполне можно представить в фантастическом космическом романе в духе Жюля Верна. Но как обычно при шизофрении (Ломброзо еще не знал такого термина, который ввел Эйген Блейрер в 1908 году), интересная детализация соседствует с невозможностью самостоятельно выстроить какой-либо сюжет. В современной психиатрии, критически относящейся и к диагнозу «шизофрения» как часто слишком обобщающему и неточному, есть возможности увидеть и скорректировать стоящий за такими фантазиями сюжет, восстанавливая субъектность пациента.

4. Одну из характерных особенностей художественного творчества сумасшедших составляет почти постоянное употребление письменных знаков вместе с рисунками, а в этих последних – изобилие символов, иероглифов. Такие смешанные произведения чрезвычайно походят на живопись японцев, индийцев, на старинные стенные картины египтян и обусловливаются у сумасшедших теми же причинами, как у древних народов, т. е. потребностью дополнить значение слова или рисунка, в отдельности недостаточно сильных для выражения данной идеи с желательной ясностью и полнотой. Это объяснение вполне применимо и к факту, сообщенному мне Монти, когда один немой, страдавший умопомешательством в продолжение 15 лет, к нарисованному им совершенно правильно плану какого-то строения прибавил множество непонятных рифмованных надписей, эпиграфов, вписанных внутри плана и кругом его, очевидно, с тою целью, чтобы служить комментариями, которых бедняк не мог дать устно.
В ар-брют, как и в наивном искусстве и прототипах наивного искусства (икона, лубок), часто используются надписи и подписи. Дело в том, что все это искусство, от икон до ар-брют, подразумевает не просто считывание смыслов, но и их усвоение, не только порядок восприятия, но и порядок усвоения, который для психически больных художников может иметь автотерапевтический смысл. Надписи и служат этому второму порядку.
У некоторых мегаломаньяков это зависит также от стремления выражать свои идеи на языке, не похожем на общечеловеческий, – явление, в сущности, вдвойне атавистическое, т. е. выражающее наклонность к тому способу выражения мыслей, которым пользовались наши отдаленные предки, придумывавшие новые слова, а за неимением их прибегавшие к рисункам. Такой случай я наблюдал в одном сумасшедшем, называвшем себя владыкой мира, и описал его вместе с Тозелли в «Archivio di psichiatria e scienze penati» [Архив психиатрии и наук о наказаниях] за 1880 год. Это был крестьянин 63 лет, крепкого телосложения, с большим лбом, выдающимися скулами и выразительными проницательными глазами. Вместимость его черепа равняется 1544, лицевой угол 82, температура 37,6°.
Осенью 1871 года на него вдруг напала страсть к бродяжничеству, к болтовне; он начал останавливать самых высокопоставленных лиц на площадях или в присутственных местах, жалуясь им на оказанную ему несправедливость, уничтожал съестные припасы, опустошал поля и бегал по дорогам, грозя кому-то жестокой местью. Мало-помалу несчастный вообразил себя богом, царем вселенной и даже говорил проповеди в соборе Альба о своем высоком назначении. Когда его поместили в дом умалишенных в Ракониджи, он вначале держал себя тихо, пока был твердо убежден, что здесь никто не сомневается в его могуществе; но при первом же противоречии стал грозить, что опрокинет земной шар, разрушит все государства и сделает себе пьедестал из развалин целого мира. При этом несчастный называл себя владыкой вселенной, олицетворением стихий и – то братом, то сыном, то отцом солнца.
«Мне уже надоело, – кричал он, – содержать на свой счет такую массу солдат и праздношатающихся! Справедливость требует, чтобы, по крайней мере, правительство и богатые люди прислали мне значительную сумму денег для уплаты долгов смерти!» Так называл он требуемый им налог и обещал навсегда сохранить жизнь уплатившим его, бедняки же все должны были умереть как совершенно бесполезные существа. Затем его крайне возмущала необходимость содержать в своем дворце столько помешанных, и он не раз просил доктора отрубить им всем головы, что не мешало ему, однако, заботливо ухаживать за ними в случае их болезни. Вообще непоследовательность у него была полная. Небольшие деньги, получаемые им за поденную работу, он употреблял для уплаты какому-нибудь мошеннику, которого посылал с письмами и поручениями то к солнцу, то к звездам, то к смерти, к грому и вообще к силам природы, прося у них помощи, а по ночам вступал с ними в дружеские интимные беседы. Когда в окрестных деревнях случалось какое-нибудь бедствие, он был чрезвычайно доволен, считая его одним из обещанных им наказаний и видя в этом доказательство, что погода, солнце или гром повинуются ему.
В чемодане у него хранились какие-то жалкие подобия корон, но он уверял, что «это настоящие императорские и королевские венцы Италии, Франции и других государств, а короны, которые носят теперь государи этих стран, признавал не имеющими никакой цены, как неправильно захваченные узурпаторами, обреченными на гибель в ближайшем будущем, если только они не заплатят ему деньги смерти (i debiti délia morte) векселями на множество миллиардов».
Но всего типичнее проявлялся безумный бред этого больного в его письменных произведениях. В молодости он выучился читать и писать; однако теперь считал недостойным себя обычный способ письма и потому изобрел свой собственный для своих записок, векселей, указов, адресованных или к солнцу, или к смерти, или к военным и гражданским властям. Карманы его были всегда наполнены подобными документами. Писал он, употребляя преимущественно одни только заглавные буквы, к которым иногда присоединял известные знаки и фигуры для обозначения предметов и лиц. Слова по большей части отделялись друг от друга одной или двумя точками и состояли лишь из нескольких букв, почти всегда исключительно согласных, без всякого отношения к числу слогов.
Например, чтобы написать две фразы: «Domine Dio Sole ricoverato all’ospedale di Racconigi fa sentire al prefetto del tribunale di Torino se vuol pacare i debiti délia morte. Prima di metire venga di presto all’ospedale di Racconigi»[7]7
Владыка Бог Солнце, находящийся в больнице Ракониджи, спрашивает председателя суда в Турине, желает ли он заплатить долги смерти. Прежде чем умереть, пусть явится скорее в госпиталь Ракониджи.
[Закрыть], он на большом листе изобразил следующее:

Вместо подписи нарисован был двуглавый орел с лицом на груди – любимая эмблема больного, который носил ее даже на шляпе и на платье.
Здесь кроме пропуска некоторых букв, преимущественно гласных, как это принято у семитов, мы встречаемся еще и с употреблением тех символов, которые в египетских иероглифах называются определительными (determinativi). Так, например, смерть изображена посредством черепа и костей, а председатель туринского суда – посредством грубо нарисованного в полумесяце, и притом вверх ногами, профиля.
В других произведениях того же больного возврат к древним письменам (атавизм) еще заметнее, так что буквы почти совершенно заменены рисунками.
Например, чтобы сильнее выразить все величие своей власти, больной нарисовал целый ряд рожиц, служащих эмблемами стихий и близких ему высших существ, составляющих армию, готовую по первому знаку его ринуться на борьбу с земными владыками, оспаривающими у него господство над миром. Тут изображены по порядку: 1) Вечный Отец, 2) Святой Дух, 3) Св. Мартин, 4) Смерть, 5) Время, 6) Гром, 7) Молния, 8) Землетрясение, 9) Солнце, 10) Луна, 11) Огонь (военный министр), 12) Могущественный человек, живущий от начала мира, и брат автора письма, 13) Лев ада, 14) Хлеб, 15) Вино. Затем следует двуглавый орел, который заменяет на рескриптах печать или подпись. Под каждым изображением находятся, кроме того, буквы, например, под первым – P.D.Е.I. (Padre Eterno), под вторым – L.S.P.S. (lo Spirito Santo) и т. д.
Эстетика этого человека с манией величия напомнит нам позднейший символизм: ну кто, как не Метерлинк, мог писать Хлеб и Вино с заглавной буквы, или кто, как не Рильке, разговаривать с Солнцем или Зверем. Отличается он от символистов только тем, что у символистов созерцание должно перейти в духовное действие, например, признать себя сыном солнца – это значит начать заниматься определенным видом творчества, создавать несомненные ценности, отстаивать некоторую программу индивидуального и социального действия. Тогда как непоследовательность безумца, считающего себя то отцом, то сыном, то братом солнца, препятствует такому ценностному творчеству.
Это одновременное употребление букв, рисунков и эмблем представляет интересный факт в том отношении, что напоминает фоноидеографический период, наверное, пережитый всеми народами (без всякого сомнения, мексиканцами и китайцами) до изобретения ими буквенного письма, что доказывается не только греческим словом grafo для выражения глаголов рисовать или писать, но и самой формой теперешних письменных знаков, напоминающих звезды и планеты.
Ломброзо имеет в виду параллельное развитие букв, цифр и астрономических знаков; иначе говоря, что буквы хотя и не являются прямыми созерцаниями вещей, в отличие от идеограмм и иероглифов, они способствуют этому созерцанию. Далее Ломброзо показывает начала эстетического символизма в идеограммах и иероглифах.
У дикарей Америки и Австралии письменные буквы и до сих пор заменяются грубо сделанными рисунками. Так, чтобы выразить письменно, что кто-нибудь обладает быстротою птицы, они изображают человека с крыльями вместо рук. Два челнока с фигуркой внутри (медведь и семь рыб) служат выражением того, что рыбаки поймали в реке медведя и несколько рыб. Это даже и не письмена, а скорее связанные одной общей идеей знаки, служащие для напоминания событий, сохраняющихся в песнях или преданиях.
У некоторых племен существуют еще менее совершенные письменные знаки, напоминающие наши ребусы; так, американцы племени Майя для обозначения слова врач рисуют человека с пучком травы в руке и крыльями на ногах, очевидно, намекая этим на обязанность его поспевать всюду, где нуждаются в его помощи; эмблемой дождя служит ведро и пр.
Точно так же древние китайцы, чтобы выразить понятие о злости, рисовали трех женщин, вместо слова свет изображали солнце и луну, а вместо глагола слушать – ухо, нарисованное между двух дверей.
Эти грубые эмблематические письмена приводят нас к тому заключению, что риторические фигуры, составляющие гордость педантов-филологов, доказывают, скорее, ограниченность ума, чем его высокое развитие; в самом деле, цветистостью часто отличаются разговоры идиотов и глухонемых, получивших образование.
Ломброзо критикует риторику с позиций позитивизма, для которого достоверная научная связь явлений законна как основание суждения, тогда как метафорическое сходство незаконно как аргумент. Наука XX века, начиная с феноменологии Гуссерля и герменевтики Дильтея, показала, что «содержание сознания» не может быть сведено к предметной реальности, и поэтому нельзя сказать, что научно достоверные суждения не подлежат столь же строгой философской критике, что и поэзия.
После того как эта система письменного выражения идей практиковалась долгое время, некоторые наиболее цивилизовавшиеся расы, как, например, мексиканцы и китайцы, сделали шаг вперед: они сгруппировали фигуры, служившие вместо письменных знаков, и составили из них остроумные комбинации, которые хотя прямо и не выражали собою данной идеи, но косвенно напоминали ее, подобно тому, как это мы видим в шарадах. Кроме того, чтобы читающий не затруднялся в понимании тех или других знаков, впереди или позади их воспроизводился абрис предмета, о котором шла речь, в чем виден уже некоторый прогресс сравнительно с древним способом письма, состоявшим исключительно из одних только рисунков. Это произошло, вероятно, после того, как установилась устная речь и люди заметили, что многие слова, произносимые с помощью одних и тех же звуков, могут служить для выражения различных понятий. Так, чтобы письменно выразить Itzlicoatl, имя мексиканского короля, рисовали змею, называвшуюся на мексиканском языке Coatl, и копье – Istzli.
Прибегнув к такому способу письма, наш мегаломаньяк (страдающий манией величия) еще раз доказал, что сумасшедшие, точно так же как и преступники, при выражении своих мыслей, часто обнаруживают признаки атавизма, возвращаясь к доисторической эпохе первобытного человека. В данном случае мы легко можем проследить, вследствие каких причин и посредством какого процесса мышления больной пришел к заключению о необходимости употребить особые письменные знаки. Находясь под влиянием мании величия, считая себя неизмеримо выше всякой власти, какую только можно вообразить себе, и располагая по своему произволу даже стихиями, он, понятно, находил простую речь недостаточно ясной, чтобы ее вполне уразумели невежественные и неверующие люди. Точно так же и обычный способ письма мог показаться ему неудовлетворительным для выражения его идей, совершенно новых и необычайных. Изображение львиных когтей, орлиного клюва, змеиного жала, громоносной стрелы, солнечного луча или оружия дикарей – вот письмена, достойные повелителя мира и способные внушить людям страх и уважение к его особе. (…)
5. У некоторых, хотя и немногих, душевнобольных является, по замечанию Тозелли, странная склонность к рисованию арабесок и орнаментов почти геометрически правильной формы, но в то же время чрезвычайно изящных; впрочем, особенность такого рода обнаруживают только мономаньяки, у безумных же и маньяков преобладает хаотический беспорядок, правда, иногда тоже не лишенный изящества, как это доказывает сообщенная мне Монти и нарисованная сумасшедшим картинка, с изображением какого-то здания, составленным из тысячи мельчайших завитков, красиво перепутанных между собою на всевозможные лады.
6. Далее, у многих, в особенности у эротоманьяков, паралитиков и безумных, рисунки и поэтические произведения отличаются полнейшей непристойностью; так, один душевнобольной столяр вырезывал на углах своей мебели и на верхушках деревьев мужские половые органы, что, впрочем, опять-таки напоминает скульптуру дикарей и древних народов, в которой половые органы встречаются повсюду. Другой, капитан из Генуи, постоянно рисовал неприличные сцены. Иногда такие художники стараются замаскировать циничность своих рисунков и объяснить ее мнимыми требованиями самого искусства, как, например, больной, воображавший, что изображает картину Страшного суда, или патер, который рисовал обнаженные фигуры и потом затушевывал их так артистически, что детородные органы, груди и пр. выделялись совершенно ясно, и на упреки в непристойности возражал, что ее находят лишь люди, враждебно относящиеся к его рисункам. Этот же самый субъект часто изображал группу из трех лиц – женщину в объятиях двоих мужчин, из которых один был в шляпе патера (Раджи).
Маньяк М., писавший иногда, как мы уже видели, такие прелестные стихотворения, иллюстрировал их множеством рисунков с изображениями каких-то невозможных животных, монахов или женщин и придавал им всем самые неприличные позы.

У некоторых, именно у паралитиков, цинизм проявлялся с еще меньшей сдержанностью. Так, я помню одного старика, который рисовал женские половые органы и писал самые непристойные двустишия в заголовках писем к своей жене. Любопытное явление представляли также два живописца, один из Турина, другой из Реджио, страдавшие манией величия: у обоих было стремление к содомскому греху, основанное на той безумной идее, что они – боги, властители мира, создаваемого ими тем же способом, как птицы несут яйца. Один из них, обладавший замечательным талантом, даже изобразил себя на картине, писанной красками, в момент подобного создания мира, совершенно голым, посреди женщин и различных символов своего могущества. Эта чудовищная картина воспроизводит перед нами древнее изображение божества египтян, Птифалло, и отчасти служит объяснением происхождения этого мифа.
7. Общую черту большей части произведений сумасшедших составляет их бесполезность, ненужность для самих работающих, что вполне подтверждается изречением Гекарта: «Трудиться над созданием ни к чему непригодных вещей – занятие, свойственное только сумасшедшим». Так, одна женщина, страдавшая манией преследования, работала по целым годам, прелестно разрисовывая хрупкие яйца и лимоны, но, по-видимому, без всякой цели, потому что всегда тщательно прятала свои произведения, так что даже мне, которого она считала своим лучшим другом, удалось увидеть их только после ее смерти. В том же роде был и труд того больного, который сшил себе только один сапог, о чем мы говорили раньше. Можно подумать, что сумасшедшие, подобно гениальным артистам, тоже придерживаются теории искусства для искусства, только в извращенном смысле.
8. Иногда сумасшедшие создают и чрезвычайно полезные вещи, но совершенно непригодные для них лично, и притом не по той специальности, какой они прежде занимались. Например, один помешавшийся интендантский чиновник придумал и сделал модель кровати для беснующихся больных, до того практичной, что, по-моему, кровать эту следовало бы ввести в употребление; двое других чиновников сообща делали прехорошенькие, покрытые резьбой спичечницы из бычьих костей, хотя пользы не могли извлечь никакой из этой работы, потому что отказывались продавать свои произведения. Впрочем, мне случалось видеть и много исключений из этого правила: так, меланхолик, страдавший манией убийства и самоубийства, устроил себе из костей, остававшихся от обеда, нож и вилку, что было для него очень полезно, так как, по приказанию директора, ему не давали металлических ножей и вилок. Мегаломаньяк, служитель кафе, лечившийся в больнице Колленьо, приготовлял там превосходную сладкую водку, хотя материалы, доставлявшиеся ему любителями этого напитка, были самого разнообразного качества. Пятидесятилетняя женщина, страдавшая припадками бешенства, сшила громадный ночной чепчик в виде шлема и не могла уснуть иначе, как натянув его себе на лицо по самую шею; маньяк-преступник из лучинок сделал себе ключ. Я не говорю здесь о тех, которые устраивали для себя настоящие кирасы из железа или камешков, так как в этом случае работа вызывалась необходимостью защититься от воображаемых преследователей, и потому труд вполне вознаграждался полученными результатами.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































