Читать книгу "Двенадцатый год"
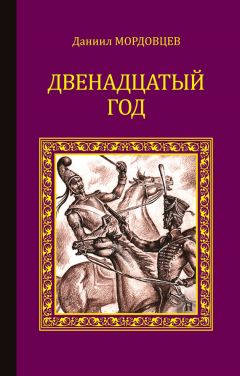
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
7
Опять идет служба в Архангельском соборе в Москве. Восковые свечи – и толстые, купеческие, как купеческие карманы, и тоненькие, словно одни фитильки, мужицкие свечечки – тысячами огней теплятся и оплывают, и чадят, теплятся и чадят в душном, тяжелом, насыщенном дымом ладана, свечным чадом и чадом дыхания молящихся воздухе церковном. Глухие, словно выходящие из пивной бочки возглашения любимого купцами и купчихами рыжего дьякона, скрипучие попискиванья старого, испостившегося на осетринке от благодетелей, протоиерея, октавы, басы, тенора и дисканты проголодавшихся певчих, шепот и по временам стоны молящихся, стуканье кулаками в сокрушенные перси, сокрушенными лбами в помост церковный, звяканье о ктиторово блюдо лобанчиков, рублей, пятаков и всего громче кричащих к небу грошей бедняков, – все это так величественно, внушительно, как внушительно движение волны морской, шум говора народного, говор дремучего бора в ветер…
Вон у самого клироса стоит знакомая уже нам фигура, с высоким, гордым, но опущенным книзу белым лбом; на лице, в опущенных глазах, в задумчивом склонении головы отражается эта внушительность места и обстановки. Это граф Ростопчин.
«На этих склоненных головах, на этих согбенных спинах, на этой детской вере, что заливает церковь огнями копеечных свечечек, а церковный помост слезами – на этом фундаменте я сумею построить величавое здание, храм народного духа, и имя мое, как имя архитектора, записано будет на скрижалиях бессмертия… Вот где наша сила – в восковой копеечной свечке; и я еще когда-нибудь зажгу ее – и будет она вечно теплиться в истории вместе с моим именем…»
Так мечтала, прикрытая французским париком, длинная, честолюбивая голова Ростопчина, которому не давал спать патриотический успех его «Мыслей вслух на Красном крыльце…».
Несколько в стороне от Ростопчина стоит Мерзляков. И его доброе лицо задумчиво. Ему вспоминается старик Новиков, заживо схоронивший себя в своем Авдотьине и воспитывающей карасей в своем вотчинном озере. Молитва его мешается с этими воспоминаниями.
«Да, караси, караси… молящиеся караси – все больше караси… А есть и щуки – вон купцы с Мясницкой, из Охотного ряду – это щуки зубастые… Вон еще щуки молящиеся… Мечтатель Николай Иванович, старый мечтатель… Эх, невесело житье человеческое!..»
Рядом с дядей стоит и Ириша. Тепла ее молитва, и молодое лицо ее теплится радостью и благодарностью, вон та свечечка восковая, что поставила девочка с радостным личиком и новым платочком на голове… За этот платочек-обновку она и свечечку ставит: Бог послал обновочку, крестный подарил… А у Ириши своя обновочка: пленных разменяли… Эх, всемогущая молодость! Ты все творишь из ничего…
А вон, как видно, тот отставной военный, что стоит у стенки и глядит на Спасителя, не умеет создать себе счастье из ничего. С мольбою смотрит он на образ – и нет-нет да и скатится по лицу его одинокая слеза и стукнет о пол… Он еще не очень стар, но, видно, горе его старо…
А это чье молодое лицо смотрит на него с такою любовью и тоскою? Чьи это молодые губы шепчут: «Господи! Пошли ему успокоение и радость… Папа! Папа! Это я дала тебе горе, бедный мой!» – Да, это те губы шепчут так, которые недавно целовались с другими, калмыковато толстыми губами за рощею, у Двины, под Полоцком. Это она, Дурова, в своем уланском мундире стоит в соборе и молится. Флеигель-адъютант Засс, взяв ее из Витебска, заехал по делам службы в Москву, и она в то время, когда Засс отправился с каким-то поручением к московскому главнокомандующему и сказал, что воротится не раньше двух часов, – она пошла взглянуть на Кремль и зашла в Архангельский собор, где обедня еще не кончилась… Стоя в церкви и разглядывая ее, она вдруг издали узнает знакомый затылок и лысину… Сердце так и запрыгало у нее, не то оборвалось и заныло при виде этого широкого затылка и этой светящейся лысины… «Это папин милый затылок, папина лысина, которую я целовала когда-то…» Подходит ближе и видит, что это молится и плачет ее отец… о ней, дуре, плачет, о бессердечной, о недостойной дочери молится… Так бы она и бросилась перед ним на колени, так бы и выцеловала с холодного пола все слезинки, которые упали из его добрых глаз на этот пол и разбились, да не смеет она этого сделать, не может… Теперь не смеет, потому что ее везут к государю, и никто не должен знать, кто она.
Между тем служба кончается. Молящиеся расходятся. Но к старенькому попику, выглянувшему из боковых врат, суется кучка мужчин и в особенности женщин и баб, желающих служить молебен. Дурова стоит сзади и видит все это. Впереди всех – ее папа.
– Вам, государь мой, панихиду или о здравии? – спрашивает, тряся головкой, попик папу.
– Я и сам не знаю, батюшка, – отвечает папа, утирая слезы.
– Как, государь мой, не знаете? – удивляется попик.
– Не знаю, батюшка.
– О ком же вы молиться желаете, государь мой?
– О дочери.
– Что ж она – умерла, помре?.. Скончалась?
– Не знаю, батюшка.
– Больна, может? Немоществует?
– И того не знаю… Может быть, умерла, может – жива… Но думаю, что ее нет уже на свете.
– Так глухую вам, государь мой, молитву можно, – соображает попик.
– Хоть глухую, батюшка, – отвечает тоскливо папа.
В это мгновенье над ухом его раздаются слова:
– Дочь ваша жива и здорова… не печальтесь…
Как громом пораженный, он задрожал и чуть не упал.
– Надя! Надя!.. Это ее голос!
Но когда он обернулся, он не увидел той, голос которой слышал: она быстро скрылась в толпе.
– Солдатик какой-то, – шептали пораженные бабы.
– Уланик молоденький, – подтверждал попик.
Дуров бросился искать уланика в церкви, на паперти, на площади – уланика и след простыл.
Через два дня уланик был уже в Петербурге. Весь этот путь от Полоцка и Витебска до Петербурга, эта бешеная фельдъегерская скачка, Москва, никогда ею не виданная, подавляющая своей бестолковой громадностью и сутолокой всякого, кто жил только в глуши, потом эта потрясающая сцена в Архангельском соборе, а тут Петербург, словно гриб необычайного вида, выросший на трясине и не проваливающийся в болотную глубь, эти гранитные, каменные и бронзовые чудища, в виде дворцов, храмов, палат и памятников, торчащие над водою, этот блеск, и стук, и гам, и хрест оголтелых, торопящихся и суетящихся десятков тысяч людей, эти тысячи колес, стучащих разом, слишком много для девочки, по нервам которой хотя и перекатилось такое тяжелое колесо, как Фридланд с громом сотен орудий, с пальбой сотен тысяч ружей и тысячами стонущих и умирающих людей, – однако все же этого слишком много, слишком разом: впечатлений и переходов, крутых и невероятных, слишком много образов, сцен, потрясений тоже много – и не ее бы нервам вынести это; а они вынесли… Да чего не вынесет молодость с крыльями Меркурия на ногах и в сердце!
А тут надо вынести еще нечто…
В день приезда в Петербург юный уланик, сопровождаемый Зассом, едет во дворец… Все эти переходы по громадному зданию, этот лабиринт, блестящий золотом убранства и золотым шитьем на людях – все это мелькает в глазах как сон, как волшебство, и исчезает, мгновенно вылетает из памяти, оставляя следы только на нервах…
Юный уланик машинально, но стройно, как восковая свечка, входит в императорский кабинет, ничего не видя вокруг себя… Она видит только, что к ней тихо, ровно, как-то монументально приближается очень высокий, очень стройный, с немигающими глазами человек… Где она видела такие же совсем не мигающие глаза!.. Да, в Тильзите, у маленького, кругленького человека в странной треугольной шляпе… Да еще она видела немигающие глаза у одной большой птицы в Малороссии, когда она гостила там… Это был орел. И тут глаза не мигают…
Задумчивое лицо, разом, так сказать, окатив с головы до сапог вошедшую своим немигающим взглядом, подходит к ней и, взяв за руку, которая, холодная, дрожала как осиновый лист осенью, подводит ее к столу, опирается другою рукою на стол с богатыми инкрустациями и, продолжая держать трепетную, холодную руку, говорит тихо, словно на исповеди:
– Я слышал, что вы – не мужчина… Правда ли это?
Она стоит с потупленною головой. Голова гладко стрижена – такая круглая, словно точеная… Немигающие глаза все это осматривают и – эту круглую, наклоненную голову, и эту выдавшуюся, приподнятую и подымающуюся, как у взволнованной женщины, грудь… Минута молчания… Наклоненная голова поднимается, и в немигающие глаза смотрят робкие, смущенные женские глаза…
– Да, ваше величество, правда, – шепчут губы бесстыдницы, несколько дней тому назад целовавшиеся с толстыми, калмыковатыми губами мужчины.
Немигающее лицо краснеет мало-помалу. Краска заливает и лицо той, которая сейчас отвечала, что она не мужчина… Ее глаза – не из немигающих, не орлиные; они не выносят немигающих глаз и опускаются долу, да так уж больше и не поднимаются.
– Что было причиною, побудившею вас отказаться от своего пола? – спрашивает ее государь.
– Ваше величество! С самого детства я получила наклонности, которые привели меня к этому решению, – отвечает наклоненная голова.
– Ваш отец военный?
– Отставной гусар, ваше величество.
– Как же вы пришли к такому решению, небывалому в России? В прошедшем вы не могли найти примеров для себя.
– Я нашла их в моем сердце, государь, в моей природе. Я родилась на походе. Я имела несчастье родиться вопреки надеждам моей матушки и потеряла ее любовь. Гусарское седло было моей колыбелью, эскадронный фланговый – моей няней и воспитателем, эскадронная конюшня – моею первою школою. Оружие заменяло мне детские игрушки. С детства матушка моя внушала мне, что женщина – жалкое, презренное существо, на котором тяготеет проклятие Божие…
– Напрасно она так говорила. Это – хула на Духа Святого… Как же вы привели в исполнение ваше намерение?
– Когда мне исполнилось шестнадцать лет, государь, я тайно ушла от родителей и пристала к казачьему полку, следовавшему на Дон.
– Когда это было?
– Ровно год, государь.
– В каких делах вы участвовали?
– При Гутштадте и под Фридландом, государь.
– И вас не испугало то, что вы там видели?
– Нет, государь.
– Да, верю… Все ваши начальники отозвались с великими похвалами о вашей храбрости, называя ее беспримерною… Мне очень приятно этому верить, и я желаю сообразно этому наградить вас и возвратить с честью в дом отцовский, дав…
Государь был прерван – слово не досказалось. Вскрикнув от ужаса, точеная голова упала к ногам императора.
– Не отсылайте меня домой, ваше величество! Не отсылайте! Я умру там, умру! Не заставьте меня сожалеть, что не нашлось ни одной пули для меня в эту кампанию. Не отнимайте у меня жизни, государь! Я добровольно хотела ею пожертвовать для вас…
Точеная голова билась о сапоги императора, руки ее обнимали его колена… Голос дрогнул, когда император, поднимая ее, сказал:
– Чего ж вы хотите?
– Быть воином, носить мундир, оружие… Это единственная награда, которую вы можете дать мне, государь. Другой нет для меня. Я родилась в лагере. Трубный звук был колыбельною песнью для меня. Со дня рождения люблю я военное звание. С десяти лет обдумывала средства вступить в него, в шестнадцать достигла цели своей, одна, без всякой помощи. На славном посте своем поддерживалась одним только своим мужеством, не имея ни от кого ни протекции, ни пособия. Все согласно признали, что я достойно носила оружие, а теперь ваше величество хотите отослать меня домой. Если б я предвидела такой конец, то ничто не помешало бы мне найти славную смерть в рядах воинов ваших.
Государь был, видимо, растроган. В его глазах затеплились доброта и жалость. Об задумался.
– А закон? – сказал он как бы про себя.
– Закон – ваше слово, государь.
– Но женщина по закону не может быть воином.
– Я останусь мужчиной, ваше величество.
– Хорошо. Ваша тайна и должна оставаться тайной.
– Клянусь, государь, – эта тайна умрет в груди моей.
Но перед нею разом встало калмыковатое, дорогое ей лицо… Сердце бросило кровь к щекам – они запылали…
– Если вы полагаете, – сказал государь, что одно только позволение носить мундир и оружие может быть вашею наградою, то вы будете иметь ее и будете называться по моему имени – Александровым… Не сомневаюсь, что вы сделаетесь достойною этой чести отличностию вашего поведения и поступков.
Не забывайте ни на минуту, что имя это всегда должно быть беспорочно и что я не прощу вам никогда и тени пятна на нем.
Новый Александров упал на колени, чтобы благодарить.
– Встаньте. Я определяю вас в мариупольский гусарский полк – офицером.
«А где он стоит – мариупольский полк – далеко от атаманского казачьего? – промелькнуло в голове нового Александрова. – Бедненький Греков – он и теперь на гауптвахте… думает обо мне…»
– Мне сказывали, что вы спасли офицера. Неужели вы отбили его у неприятеля? Расскажите мне об этом, – говорит государь. – Где это было?
– При Гутштадте, ваше величество.
– В самом бою?
– В бою, государь.
– Как же это было?
– Во время одной из атак я увидела, что несколько человек неприятельских драгун, окружив русского офицера, выбили его выстрелами из седла. Раненый офицер упал, и драгуны хотели рубить его лежащего… Тогда я быстро понеслась к ним, держа пику наперевес. Надобно думать, ваше величество, что моя сумасбродная смелость озадачила их и испугала нечаянностью, потому что они в то же мгновение оставили офицера и рассыпались врозь. Я подняла раненого, посадила на свою лошадь и отправила в обоз, а сама оставалась в битве пешею. Офицер, которому я подала помощь, был Панин.
– Это известная фамилия, – заметил государь, – и неустрашимость ваша в этом одном случае сделала вам более чести, нежели в продолжение всей кампании, потому что имела основанием лучшую из добродетелей – сострадание. Хотя поступок ваш служит сам себе наградою, однако ж справедливость требует, чтоб вы получили и ту, которая вам следует по статуту: за спасение жизни офицера дается Георгиевский крест.
Государь обернулся к столу. Взглянула на стол и девушка: там, на бумаге, она увидела беленький крестик на полосатой, черно-желтой ленточке.
– Вот ваш кавалерский знак – вы заслужили его.
И государь, взяв крестик, собственноручно стал вдевать его в петлицу героя. Петлица приходилась как раз на самом возвышении груди героя. Грудь эта поднималась от волнения – крестик не попадал в петлицу. Герой, новый кавалер, пунцовел как маков цвет.
Наконец крестик вдет, болтается, бьется вместе с грудью. Не успел государь отнять руку от груди нового кавалера, как в кабинет без доклада неожиданно появилось новое лицо – словно из земли выросло. Лицо это было не из привлекательных – длинное, сухое, жесткое, словно деревянное и с маленькими, мутными, словно оловянными глазами под высоко вскинутыми круглыми бровями. Фигура – несколько сутуловатая, словно бы у вновь пришедшего субъекта так был устроен хребет, что не позволял ему глядеть на небо, а дозволял только подглядывать, подслушивать, копаться и разнюхивать.
– А! Это ты, граф, – сказал государь, взглянув на вошедшего, – рекомендую тебе нового офицера и георгиевского кавалера. Это – Александров.
На последнем слове государь сделал особенное ударение. Вошедший пытливо и недружелюбно оглядел с ног – и непременно с ног до головы, а не наоборот, – представленного ему молодого человека.
– Если б я встретил его не в кабинете вашего величества, я бы посадил его на гауптвахту, – быстро, несколько гнусливо сказал пришедший.
Девушка растерялась – она догадалась, кто был пришедший. А государь с удивлением спросил:
– За что же?
– За то, ваше величество, что он осмелился явиться не в форме.
– Но, ваше сиятельство, у меня отобрали саблю, – смело отвечала девушка.
– Это не резон.
– Но, граф, ты слишком строг… тебе не все известно, – заметил государь.
– Государь! Что касается службы и особы вашего величества – мне все должно быть известно, – отвечал упрямец.
– О, я уверен в твоей ревности, – ласково сказал император. – Но тут тебе не все известно.
– Все, ваше величество, – настаивал упрямец.
Это был Аракчеев. Ему действительно все было известно: он знал, кто стоит перед ним, и в его сердце уже заползла змея подозрительности. Как! Эта девчонка, в форме улана, вошла в кабинет государя помимо него, графа Аракчеева, военного министра и правой руки государя! Эта рука, а не другая, должна была ввести ее… Так его, графа Аракчеева, могут оттереть и от кормила правления – и через кого же! Через девчонку, которая задумала играть роль Иоанны д’Арк! Нет, времена чудес прошли – и при Аракчееве они не повторятся: у него и чудеса должны ходить в мундире, держать руки по швам и отдавать честь начальству! И Иоанну д’Арк он посадит на хлеб и на воду за отступление от формы… Потом, обратясь к безмолвно и неподвижно стоящей с опущенными глазами девушке, Аракчеев спросил не без ехидства:
– А где вы, молодой человек, получили военное воспитание?
– В доме родителей, граф, я получил воспитание.
– И военное?
– Нет, ваше сиятельство…
– Гм… так вам многому надо поучиться.
– Александров еще молод, граф, – военная практика даст ему то, что не дано школою, – примирительно заметил государь.
– Дай бог, ваше величество, дай бог.
Когда девушка вышла из кабинета государя, и смущенная и радостная, ее окружили пажи, вертевшиеся в соседней с кабинетом зале.
– Что говорил с вами государь? – слышалось от одного.
– Произвел вас в офицеры? – перебивал другой.
– Пожаловал Георгия? – перебивал другого третий.
– Вы спасли Панина? – перебивал всех четвертый.
Девушка не знала, кому отвечать, и молчала, глядя на любопытных юношей, белые, розовые, упитанные лица которых в сравнении с ее загорелым лицом казались девическими. Но в это время из среды их отделился один юноша и, робко, но с привычной ловкостью поклонившись, сказал:
– Я – Панин, брат того Панина, которого вы спасли.
– Я очень рад. Что он, поправляется?
– Благодарю вас, поправляется… Но позвольте просить вас, господин Дуров…
– Извините, я уже не Дуров.
Юноша с удивлением посмотрел на нее. Остальные пажи и рты разинули.
– Как! Кто же вы?
– Я – Александров.
– Почему же?
– Эту фамилию пожаловал мне сам государь: это фамилия – имени его величества.
– Поздравляю вас, господин Александров, от души поздравляю.
– Поздравляем, поздравляем, – вторили другие.
– Моя maman и мой брат поручили мне передать вам их желание лично видеть вас и засвидетельствовать вам глубокую благодарность и удивление, внушаемые всем вашим геройским подвигом, – проговорил Панин как по-заученному. – Maman поручила мне просить вас сделать нам честь своим посещением. Когда и куда я должен приехать за вами, если вы не откажете нам в этой чести?
Когда она отвечала, через залу проходил средних лет мужчина с толстой папкой под мышкой. Лицо его было несколько худо, казалось утомленным, а глаза – кротки и задумчивы. Пажи почтительно расступились перед ним и поклонились. Он прошел прямо в кабинет – тоже без доклада.
То был Сперанский.
8
И Надя Дурова, и юнкер Дуров перестали таким образом существовать: на месте их вырос Александров! Надя добилась своего: ей дозволено носить оружие; она – офицер и притом гусарский! Но чего ей это стоило!
В гусарстве и уланстве Надя Дурова искала, в сущности, того, чего нынешние девушки наши ищут на фельдшерских и медицинских курсах, в гимназиях, на так называемых университетских курсах: она искала признания за женщиной человеческих прав. Она искала того, чего искали американские негры времени «дяди Тома». Действительно, если сравнить положение русской женщины, в особенности девушки, начала нынешнего столетия, времени Дуровой, с положением ее в наше время, то едва ли можно ошибиться, сказав, что эти два положения русской женщины равны положениям американского негра при «дяде Томе» и в настоящее время. Давно ли у нас еще травили девушку за отрезанную косу? Поэтому для современной русской девушки менее чем для девушки начала этого столетия будут понятны слова, вырвавшиеся из-под пера Дуровой в тот момент, когда она уланским кивером прикрыла свою погибшую девическую косу, а рейтузами – свое историческое рабство. Вот эти слова, записанные ею в своем дневнике, слова, обращенные к тогдашней русской девушке:
«Свобода, драгоценный дар неба, сделалась наконец уделом моим навсегда! Я ею дышу, наслаждаюсь, ее чувствую в душе, в сердце! Ею проникнуто мое существование, ею оживлено оно! Вам, молодые мои сверстницы, вам одним понятно мое восклицание! Одни только вы можете знать цену моего счастья! Вы, которых всякий шаг на счету, которым нельзя пройти двух сажен без надзора и охранения, которые от колыбели и до могилы в вечной зависимости и под вечною защитою Бог знает от кого и от чего! (конечно от мужчин). Вы, повторяю, одни только вы можете понять, каким радостным ощущением полно сердце мое при виде обширных лесов, необозримых полей, гор, долин, ручьев и при мысли, что по воем этим местам я могу ходить, не давая никому отчета и не опасаясь ни от кого запрещения. Я прыгаю от радости, воображая, что во всю жизнь мою не услышу более слова: „Ты, девка, сиди. Тебе неприлично ходить одной прогуливаться“. Увы! Сколько прекрасных, ясных дней началось и кончилось, на которые я могла только смотреть заплаканными глазами сквозь окно, у которого матушка приказывала мне плесть кружева…»
Дневник этот, сначала напечатанный Пушкиным в «Современнике» 1836 года, а потом изданный самою Дуровою в 1839 году, стал уже библиографической редкостью.
Так вот из-за чего билась эта необыкновенная Надя. Но что она вынесла потом, пока не сделалась тем, чем она стала через год! Заглянем опять в ее дневник. Ее приняли в уланы, обмундировали на казенный счет. Но пусть она говорит сама:
«Мне дали мундир, саблю, пику, так тяжелую, что мне кажется она бревном; дали шерстяные эполеты, каску с султаном, белую перевязь с подсумком, наполненным патронами; все это очень чисто, очень красиво и очень тяжело… Надеюсь, однако же, привыкнуть; но вот к чему нельзя уже никогда привыкнуть – так это к тиранским казенным сапогам: они как железные! До сего времени я носила обувь мягкую и ловко сшитую; нога моя была свободна и легка, а теперь! Ах, Боже! Я точно прикована к земле тяжестью моих ног и огромных брячащих шпор! С того дня, как я надела казенные сапоги, не могу уже более по-прежнему прогуливаться и, будучи всякий день смертельно голодна, провожу все голодное время на грядах с заступом, выкапывая оставшийся картофель. Поработав прилежно часа четыре сряду, успеваю нарыть столько, чтоб наполнить им мою фуражку; тогда несу в торжестве мою добычу к хозяйке (полк стоит, в ожидании Наполеона, в Литве, на квартирах), чтобы она сварила ее. Суровая эта женщина всегда с ворчаньем вырвет у меня из рук фуражку, нагруженную картофелем, с ворчанием высыпает в горшок, и когда поспеет, то, выложив в деревянную миску, так толкнет ее ко мне по столу, что всегда несколько их раскатится по полу. Что за злая баба! А кажется, ей нечего жалеть картофелю: он весь уже снят и где-то у них запрятан; плод же неусыпных трудов моих не что иное, как оставшийся очень глубоко в земле или как-нибудь укрывшийся от внимания работавших».
Это – на квартирах. А что же на походе, в летучей войне, когда по пятам гонится косматая старая гвардия Наполеона и приходится идти, идти – беспрестанно идти!
«Есть, однако ж, границы, далее которых человек не может идти! – записывает она в своем дневнике, в одну из остановок. – Я падала от сна и усталости; платье мое было мокро. Двое суток я не спала и не ела, беспрерывно на марше, а если и на месте, то все-таки на коне, в одном мундире (у нее шинель украли), беспрестанно подверженная холодному ветру и дождю. Я чувствовала, что силы мои ослабевали час от часу более. Мы шли справа по три, но если случался мостик или какое другое затруднение, что нельзя было проходить отделениями, тогда шли по два в ряд, а иногда и по одному; в таком случае четвертому взводу приходилось стоять по нескольку минут неподвижно на одном месте; я была в четвертом взводе, и при всякой благодетельной остановке его вмиг сходила с лошади, ложилась на землю и в ту же секунду засыпала. Взвод трогался с места, товарищи кричали, звали меня, и как сон, часто прерываемый, не может быть крепок, то я тотчас просыпалась, вставала и карабкалась на лошадь, на своего Алкида, таща за собою тяжелую дубовую пику. Сцены эти возобновлялись при каждой самой кратковременной остановке; я вывела из терпения своего унтер-офицера и рассердила товарищей: все они сказали мне, что бросят меня на дороге, если я еще хоть раз сойду с лошади. „Ведь ты видишь, что мы дремлем, да не встаем же с лошадей и не ложимся на землю, делай и ты так“. Вахмистр ворчал вполголоса: „Зачем эти щенята лезут в службу! Сидели бы в гнезде своем“. Остальное время я оставалась уже на лошади – дремала, засыпала, наклонялась до самой гривы Алкида – и поднималась с испугом: мне казалось, что я падаю! Я как будто помешалась. Глаза открыты, но предметы изменяются, как во сне. Уланы кажутся мне лесом, лес – уланами! Голова моя горит, но сама дрожу, мае очень холодно. Все на мне мокро до тела».
Страшные испытания для девочки! И при этом – надо прятать свой пол, не выдать себя во сне; надо прятаться с такими деяниями, которые ее товарищи уланы делают открыто… Это жизнь между скорпиями.
А в сражениях!.. Вот хоть бы под Фридландом… «В этом жестоком и неудачном сражении, – заносит она в свой дневник, – храброго полка нашего легло более половины! Несколько раз ходили мы в атаку, несколько раз прогоняли неприятеля и, в свою очередь, не один раз были прогнаны. Нас осыпали картечами, мозжили ядрами, а пронзительный свист адских пуль совсем оглушил меня. О, я их терпеть не могу! Дело другое – ядро. Оно по крайней мере ревет так величественно и с ним везде короткая разделка…»
О, велико ты, безумие человеческое!
Так вот какими адами добралась девочка до права носить оружие.
На другой день после аудиенции у государя она неожиданно получила приглашение от Сперанского. В коротенькой записке, написанной в третьем лице, Сперанский просил господина Александрова сделать ему честь своим посещением и добавлял, что имеет сообщить ему нечто, лично его касающееся.
Записку привез Кавунец, который никак не мог прийти в себя от изумления, увидев перед собой такого молоденького офицерика и притом с Георгием на груди. У самого Кавунца на груди болтался Георгий, но он помнит, как нелегко он ему достался.
Дурова получила записку в тот момент, когда вместе с Зассом, в квартире которого она остановилась в Петербурге, она вышла в швейцарскую, намереваясь куда-то ехать. Она, сама недавно получившая Георгия, не могла не заинтересоваться этим орденом на груди старого солдата, и потому спросила Кавунца:
– За какую кампанию ты пожалован кавалером?
– Не могу знать, ваше благородие, – молодецки отвечал старый служака.
Девушка улыбнулась. Она догадалась, что не так спросила.
– В каком сражении ты отличился? – снова спросила она.
– Не могу знать, ваше благородие, – был ответ.
– Ну, так где?
– Не могу знать, ваше благородие, – стоял на своем Кавунец.
– Экой ты, братец! Я тебя спрашиваю – за что тебе дали Георгия?
– За черта, ваше благородие.
– За какого черта? (Она не могла не рассмеяться.)
– Чертов мост, ваше благородие, с Багратионом брали.
– А! Это в италийскую кампанию?
– Не могу знать, ваше благородие.
– В Швейцарии?
– Не могу знать, ваше благородие.
– С Суворовым?
– Так точно, ваше благородие.
Она поняла, что с таким говоруном немного наговоришься, и потому коротко сказала:
– Доложи его превосходительству, что я непременно буду.
– Слушаю, ваше благородие.
Вечером она явилась к Сперанскому. Увидев в передней Кавунца, девушка невольно улыбнулась. Кавунец сделал руки по швам. Когда лакей услыхал фамилию приезжего молодого офицерика, то тотчас же сказал, что «его превосходительство просят пожаловать в кабинет», и провел ее через залу в большую, светлую, но словно траурную комнату: в ней, кроме массивных шкапов с книгами и ящиками да огромного письменного стола, не было никаких ни украшений, ни картин на стенах, ни кабинетных разных безделушек. Сперанский любил работать и предаваться своим деловым мечтам только в такой комнате, в которой ни один лишний предмет не привлекал бы его внимания и не заслонял бы собою, так сказать, тех образов его духовного творчества, которые зарождались в нем, развивались и воплощались в деле.
«Когда человек наслаждается – целует, например, любимое существо, он непременно как-то инстинктивно закрывает глаза: это для того, чтобы наслаждение, вся его сила концентрировалась и всецело передавалась душе. Для меня работа – тоже наслаждение; за работой я как бы закрываю глаза на все остальное, концентрирую наслаждение в глубине моего ума… Вот почему я люблю, чтобы комната, в которой я работаю, была для меня как бы невидима». Так говорил он о своем кабинете. И какую же титаническую работу успевал он совершать в этом кабинете! Сколько он делал!
Когда Дурова вошла в этот кабинет, Сперанский сидел за письменным столом и что-то писал. Увидев входящего юного гусара, он тотчас же встал и, приветливо протягивая гостю руку, сказал:
– Простите меня, что я не исполнил по отношению к вам долга вежливости. Но я все объясню сейчас. Государь сообщил мне вчера разговор свой с вами, и мне до некоторой степени известны главные обстоятельства вашей жизни. Ваша тайна останется неприкосновенною. Но я должен был сообщить вам одно обстоятельство и, в интересах вашей тайны, сообщить его без свидетелей. Вот почему я и осмелился пригласить вас к себе – против правил вежливости. А теперь – очень рад познакомиться. Прошу садиться.
Смущенный этой речью гусарик звякнул, как подобает гусару, саблей, шпорами и всеми металлическими штуками, какие на гусаре обретаются, сел, не зная, как открыть рот.
Сперанский, взяв со стула какую-то бумагу, подал ее гостю.
– Вам знаком этот почерк? – спросил он.
Гусарик, как только взял бумагу и увидел почерк, воскликнул с испугом:
– Это рука моего отца! Что с ним?
– Прочтите.
Гусарик торопился прочесть письмо, но руки так ходенем ходят, что глаза не попадут на строчки. А Сперанский молча и с видимым сочувствием на лице вглядывается в интересного гостя, в его молоденькое, бледное, но загорелое лицо, в это оригинальное очертание круглой точеной головы, в невысокий, но какой-то раздвинутый лоб. Ему кажется, что эта голова формировалась не по такому лекалу, чтобы быть разрубленной саблею или стать глупою, безответною вехою для шальной пули – нет, это череп существа, способного мыслить не только прямолинейно, но всесторонне и кубически…
– Ах, бедный папа!









































