Читать книгу "Двенадцатый год"
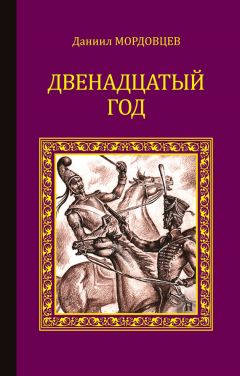
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Говорят, Литва славится своим пивом, как Москва квасом – du kouasse… а я, кстати, пить хочу.
Граф Пац стремительно, словно юный нахоленок, бросился в сторону, не отводя глаз от лица Наполеона, метнулся к толпе знати и исчез, чтобы немедленно утолить державную жажду властителя судеб полувселенной, и через несколько минут уже стоял перед ним с серебряным подносом, на котором массивный золотой кубок пенился пивом. Наполеон выпил и крякнул, как простой смертный, смакуя губами.
– Добрэ пиво! – произнес он по-польски с сильным французским акцентом.
Историческую фразу эту, эти два польских слова польские хроники с благоговением занесли на свои страницы. А графиня Шуазель-Гуфье, урожденная полька, панна Тизенгауз, в то время молоденькая и, если верить ее «Запискам», неотразимо очаровательная девушка, записав эту историческую фразу Наполеона, с горечью разочарования прибавляет: «И вот – в ту же минуту явились люди, готовые идти за него в огонь».
В то же время войска французские, итальянские, испанские, португальские и других всевозможных национальностей, а равно польские вступали в город всеми улицами, которые, украшенные флагами и махающими с балконов и окон «хустечками», словно открывали дорогим гостям свои объятия. «Полк князя Доминика Радзивилла, – говорит панна Тизенгауз в своих „Записках“, или „Воспоминаниях“, – прошел по нашей улице: то были польские уланы в своих прелестных мундирах со значками из польских цветов. Я стояла на балконе замка. Они с улыбкой отдавали мне честь. И в первый раз в жизни я увидела поляков! (То есть не литовцев, а настоящих поляков.) Слезы восторга и радости полились из моих глаз – я сознала себя полькой! И эта минута была восхитительна; но как она была коротка!»
За польскими уланами Радзивилла шла неаполитанская гвардия герцога де-ла-Рокка – Романа, невиданного красавца, за эту невиданную красоту прозванного Аполлоном Бельведерским. Прелестная гвардия его шла точно на парад, на показ своего изящества всему миру: в великолепных ярко-малиновых гусарских куртках и в белых, тонкого сукна, словно женских, плащиках, мотыльками взвивавшихся на плечах красавцев юга – все это было восхитительно для Неаполя, для паркета, для южного солнца… А их ожидали московские снега и вьюги… Но кто об них думал!
Все радовалось и ликовало на улицах, на площадях. По лицам старых литвинов и молодых литвинок катились слезы умиления.
В тот же день Наполеон принимал во дворце все литовское дворянство. На лице его покоилось все то же добродушие довольства и удовлетворенности.
– Почему русские не захотели дать мне сражение? – спросил он скороговоркой, ни к кому не обращаясь. – Выгоды были на их стороне.
– Ваше величество внушаете им ужас, – отвечал стоявший впереди других старый конфедерат, сражавшийся когда-то с русскими под знаменами Косцюшки.
При этом ответе Наполеон, говорят современники, «отскочил, как бы ужаленный осой». Он на опыте уже испытал, что не «ужас» на уме у северных варваров, а что-то другое, непонятное ему пока. Кучи невероятной бессмыслицы – говорят сами поляки, современники и очевидцы, – пришлось Наполеону выслушать, пока он обходил ряды литовского панства. Только мимо одного польско-литовского магната, мимо графа Тизенгаузена, отца прелестной сочинительницы панны Тизенгауз, император прошел, не удостоив его ни одним словом: все заметили это, и в то же время всем бросилась в глаза невиданная дотоле вещь – голубая, яркая, так и бьющая в глаза, так и кричащая своей обидной яркостью – голубая лента русского Белого Орла на груди у дерзкого графа… Да, это небывалая дерзость перед лицом великого императора! За то он и не удостоил безумца даже кивком пальца, движением державных ресниц.
Тут же император изъявил желание видеть представленными ему «литовских женщин, которые умеют рожать таких бравых молодцов, мужественно сражавшихся под его знаменами в Германии, Пруссии, Италии, Испании, под палящими лучами Солнца Сирии и Палестины, в тени пирамид Египта и среди тропической природы Сан-Доминго»… О! Маленький человек умел красно говорить… после всякого его красного словца поля и реки краснелись человеческою кровью. И теперь литовцы за это красное словцо сразу отдали ему бесповоротно и свою душу, и свою горячую кровь.
На женщин великий полководец смотрел специально с точки зрения поставки будущих рекрутов – и только. «Вон идет прелестная мать будущего солдата», – говорил он обыкновенно при виде хорошенькой девушки. Как, по его словам, «каждый солдат носит в своем ранце маршальский жезл», так каждая здоровая девушка носит за пазухой по малой мере полдюжины рекрутов.
Поэтому он желал взглянуть на литовских женщин, из которых одни уже народили ему бравых солдат, а другие должны народить если не ему, то крошечному наследнику, королю римскому и будущему императору Европы.
Ночью же развезли по городу повестки, которыми «приказывалось дамам явиться во дворец для представления императору». Панна Тизенгауз в своих «Воспоминаниях» говорит, что ей, тоже получившей такую любезную повестку, словно от мирового судьи или околоточного, сильно не понравилась эта форма приглашения, «напоминавшая обычаи гауптвахты», и она решила не ехать. Но отец ее, старый придворный короля Станислава, не удостоенный уже, при общем представлении Наполеону литовского дворянства, кивком великого императора за голубую ленту, благоразумно напомнил девушке, что ее поступок может быть дурно истолкован, что их семейство уже и без того считают в числе приверженцев России и потому косятся и на них и на других. Девушка согласилась, но на том только условии, что наденет свой фрейлинский шифр, пожалованный ей и некоторым другим литовским дамам императором Александром Павловичем во время последнего его пребывания в Вильне. Молодая графиня говорила при этом отцу, что при получении фрейлинского знака она хотя и не была нисколько этим обрадована, но теперь считала бесчестным не надеть его при таких обстоятельствах, какие им пришлось пережить: не надеть шифр перед Наполеоном – это значило или малодушно испугаться императора-пришельца, или оказать пренебрежение к своему законному императору в то именно время, когда он принужден был отступить перед своим противником.
Когда хорошенькая графиня явилась во дворец и дамы заметили на ней шифр, все пришло в смятение: шифр русской фрейлины во дворце великого Наполеона, идущего на Россию, – это вызов, бунт…
– Он скажет вам какую-нибудь колкость, милая графиня, – с ужасом шептали польки, уже знавшие бесцеремонность великого человека по Варшаве. – О! Вы не знаете, что это за человек… Это, это, пани… О! Он скажет вам дерзость…
– А я ему отвечу, – храбро возразила хорошенькая графиня.
– О! Тише, тише, милая графиня! – прикладывала к своим пухлым губам палец пани Абрамович, бойкая варшавянка из еврейского шляхетства, ловко владевшая и языком, и пером и потому служившая секретарем красавице Валевской в ее интимной переписке с Наполеоном. «О, дорогая пани! – говорила, бывало, при этом пани Абрамович Валевской. – Вы прекрасно владеете языком, не хуже Сталь; но вы делаете орфографические ошибки от избытка чувств, а великий император не любит у других орфографических ошибок, хотя сам и делает их… Но ему позволительно все – он великий человек и законодатель: он может издать закон об орфографии, какой его величеству угодно…»
– О! Не говорите этого, дорргогая гргафиня! – хрустела своим еврейским язычком пани Абрамович, останавливая храбрую фрейлину. – Здесь стены все слышат и передают ему…
Одна панна Тизенгауз оказалась с шифром – все остальные струсили.
К панне Тизенгауз испуганно подошел граф Коссаковский, ее дядя. Он был бледен и стоял как на иголках.
– Ты очень дурно поступила, надев вот это, – шептал он дрожащим голосом. – Я отступаюсь от тебя – ты мне не племянница.
– Я знаю, что делаю, – отвечала храбрая панна. Но все-таки в душе она чувствовала страх, как после и сознавалась в этом. Она знала, что перед этим маленьким человеком дрожат даже старые, заслуженные маршалы; она знала, что для него не существуют никакие общепринятые человеческие правила; она одно чувствовала, что она, молоденькая девочка, «должна была предстать пред Наполеоном, который носил весь свет в своей голове и которому тесно было в старой Европе – он задыхался в ней». Но все-таки в девушке сидел какой-то инстинкт, который шептал ей, что все обойдется благополучно: инстинкт этот – сознание, что она хорошенькая, что она красивее всех литовских женщин. Откуда то она узнала – она сама не могла бы объяснить; но она это знала, чувствовала. Точно так же неведомо откуда, но она узнала, что красоте все прощается; что даже зверь бессилен перед красотой. Она чувствовала это и теперь по тем милым взглядам – взглядам самой тонкой, прелестной зависти, которые украдкой бросали на нее прочие литовские дамы.
– Император! – возгласил вдруг камер-лакей в косую сажень, до того времени словно статуя стоявший у дверей.
Все невольно вздрогнули. У панны Тизенгауз, как ей казалось, сердце остановилось.
В то же мгновение в залу влетел или, вернее, вкатился «как ядро», по выражению очевидицы, маленький, толстенький, коротенький человечек на широко расставленных ножках, в зеленом, с большою вырезкою на круглом брюшке и на груди, мундире, в белом жилете, с большою, гладко обстриженною, словно точеною головою, с белым, бесцветным, пожелтевшего мрамора лицом, точь-в-точь как у античного бюста. Серо-прозрачные глава его, казалось, разом видели всех, в зале находившихся, хотя, по-видимому, ни на кого не смотрели. За ним быстро, но чинно и как бы робко выступила, беззвучно шагая, целая свита старых и молодых маршалов.
Дамы стояли в каком-то нерешительном, томящем ожидании.
Серо-прозрачные глаза на мгновение остановились на госпоже Абрамович, и она выступила несколько вперед, как бы приглашая взглядом стоявшую впереди других дам графиню Коссаковскую. Та шевельнула и скрипнула лифом и зашуршала шелковым шлейфом, делая реверанс и заставляя искриться бриллианты, которыми были залиты ее грудь и шея.
– Графиня Коссаковская, – пропустила сквозь розовые губы панни Абрамович.
– Урожденная Потоцкая, – гордо добавила графиня.
– Которого из Потоцких вы дочь? Их так много, – скороговоркой спросил Наполеон, как бы щурясь от блеска бриллиантов.
– Сестра Владимира Потоцкого, ваше величество, – был ответ.
Она с умыслом не назвала имени отца, а упомянула имя брата. Владимир, брат ее, считался героем и был славой и гордостью рода Потоцких. В своих богатых родовых поместьях на Подоли он набрал целый полк из своих рослых, красивых холопов-хохлов, одел их на свой счет молодцами-уланами, выучил, вымуштровал и повел во Францию под знамена Наполеона; и пошли рослые, добродушные украинцы – Тарасы да Харьки, Петруси да Грицьки носить французских орлов и славу Наполеона в Египет; под пирамиды, в Сирию, в Италию, на Сан-Доминго, а теперь те из них, которые не полегли у подножия пирамид, не погибли от чумы в Сирии, не утучнили своею украинскою кровью плантации Сан-Доминго, – теперь эти Грицьки да Петруси были приведены под знаменем Наполеона в Вильну, чтобы идти на москаля, а вместе с тем и на своего брата Заступенка, да на старого Пилипенка, да на аккуратного курьера Кавунца.
Очередь дошла до хорошенькой панны Тизенгауз. Она совсем оправилась. Она чувствовала, что она… ну, одним словом, она не могла не чувствовать, как раза два это мраморное, сфинксовое лицо с глазами без бликов останавливалось на ней как-то вопросительно, пытливо, но не зло… она это глубоко чуяла, как собачонка чует, что не зло взглянул на нее ее хозяин.
– Графиня Тизенгауз, – почтительно процедила пани Абрамович, перенося глаза с молоденькой графини на императора и как бы кланяясь ему и глазами, и голосом.
Глаза без бликов уставились на фрейлинский шифр, потом впились в лицо, в щеки, в глаза девушки.
– Какой знак отличия надет на вас? – уронились слова с мраморного, сфинксового лица.
– Фрейлинский шифр двора их величеств государынь императриц всей России, ваше величество, – прозвучал колокольчик, и щеки этого колокольчика медленно залились слабым румянцем.
– Следовательно, вы русская? – продолжал мраморный бюст.
– Нет, ваше величество, я только имею фрейлинский знак.
– У вас брат служит в легкой кавалерии?
– У меня, государь, два брата, но они еще нигде не служат.
– Нет, один служит – я знаю.
Ему не противоречили. Он скользнул глазами от лба до шеи девушки, перенес их на другое лицо.
– Пани Огинская, – поспешила пани Абрамович.
– А! Есть у вас толстые и большие дети?
– Есть, государь.
– Хорошо. Будут маршалами.
– M-lle Гедройц, – хрустит пани Абрамович, перекликая женскую половину Литвы.
– А! Но ведь у вас также есть шифр? (Он уже заранее все знал.) Зачем же вы не надели его?
– Моя отчизна, государь… обстоятельства… я полька…
– Отчего же! Можно быть настоящей полькой и носить шифр.
И мраморный бюст, повернувшись на коротенькой шее, выразительно глянул на хорошенькую панну Тизенгауз и засмеялся, выказав ряд мелких, великолепных зубов, белых, точно у молодой собаки.
Потом далее и далее – и все «толстые и большие мальчики» – «сколько детей» – «скоро ли родите» – «давно ли родили толстого мальчика» – и все в том же роде.
– Император Александр очень любезный человек. Он вас всех очаровал.
Настоящие ли вы польки? – заключил он.
Все молчали, кто наклонив голову, кто улыбаясь, кто краснея.
В один момент он исчез из залы. Все чувствовали, что были на какой-то странной, обидной выставке… Это не прием, а какой-то акушерский экзамен.
Неловко как-то.
А делать было нечего!
4
После сожжения Зеленого моста началось то непостижимое для современников отступление русской армии, которое навело ужас и оцепенение на всю страну. Никто не знал, никто не мог понять, что делается там, куда выставлен весь цвет населения, и эта неизвестность наводила суеверный страх на всех. Даже сами войска, офицеры, генералы – и они не понимали, что делается, к чему все это идет, чем должно кончиться. Одно, что все испытывали одинаково с ужасом и стыдом, чего никто не мог заглушить в себе, это – глухое, щемящее сознание, что совершается поголовное бегство…
Более всех чувствовала это, как казалось ей самой, Дурова. Она не боялась за себя, но она боялась за все, что происходило кругом и что казалось непостижимым ей. Страх, общий страх, казалось ей, носился в воздухе помимо ее личного чувства. Чем же другим, если на страхом, думалось ей, можно было объяснить это бегство, бегство безостановочное, бегство день и ночь, по дорогам и без всяких дорог, по лесам и болотам? В этом бегстве она в первый раз поняла, что есть границы сил человеческих и человеческого терпения, – границы, дальше которых человек идти не может. Она изнемогала от какой-то и гнетущей, и режущей тоски, падала от сна и усталости, не видя конца бегству. На беду пошли дожди. Все платье ее было пробито холодным дождем до нитки. Вот уже двое суток, как ни она и никто не ел и не спал – день и ночь на марше, а если и явится остановка, то опять-таки не велят сходить с коней, – все, по-видимому, ждут чего-то страшного, а если и не ждут, то сами не знают, что делают. А дождь и холодный ветер все нижут и нижут насквозь. Вследствие бездорожья уланы шли гуськом, по три в ряд, растянувшись в нитку, словно утки на водопой: но где попадалось препятствие на пути, там шли в два коня только, а то и по одному, и в таком случае одному взводу приходилось стоять и ждать. При всякой такой остановке, продолжавшейся несколько минут, Дурова вмиг слезала с лошади, тут же падала в грязь у самых копыт умного Алкида и в ту же секунду теряла сознание – засыпала как мертвая. В ту же минуту, когда взвод трогался, товарищи кричали ей, будили ее, и она, как безумная, вскакивала, карабкалась на лошадь, проклинала себя, свою слабость, свой пол, общее бегство и того невидимого демона, перед которым все бежало. Товарищи грозили ей, что бросят ее на дороге, если она будет сходить с лошади…
– Эх, Алексаша, Алексаша! – сказал ей с участием Бурцев, спеша куда-то с поручением и видя, как она, бледная, жалкая, поднималась с земли. – Ты, дружище, делай по-нашему: вон видишь – все дремлют и спят на лошадях, рыбу удят… Делай, братуха, и ты так… Эх, черт бы побрал!..
Кого – все знали… И вот Дурова крепится на лошади: дремлет, засыпает, качается, падает до самой гривы Алкида, с ужасом просыпается, думая, что летит в пропасть, – и снова качается и спит. Ей казалось, что она начинает мешаться в рассудке. Она знала, что смотрит, что глаза ее открыты, а предметы меняются перед ней, как во сне, как в горячечном бреду: уланы кажутся ей лесом, лес – уланами… Перед глазами то здания высятся, то пропасти чернеют, то река расстилается… Голова в огне, так от нее полымем и пышет, а самой холодно, вся дрожит, и чувствуется, как мокрая, холодная рубашка то липнет к телу, то отдирается с болью, причиняя дрожь.
Третий день продолжается бегство – всей ли армии, или только некоторых ее частей – этого никто не знает. Но люди бегут куда-то день и ночь. На Дурову нападает ужас: а что, думается ей, как она окончательно изнеможет и сляжет? Ведь ее сведут в госпиталь, и там все может открыться. Надо во что бы то ни стало побороть эту слабость тела. Но как с нею бороться? Вон остальные уланы, едва остановится полк на полчаса, успевают выспаться, набраться сил, а она не может. А тут перестает неустанно ливший дождь и начинает жарить солнце. Чем дальше идут, тем зной усиливается, жажда начинает палить внутренности. Это не просто жажда, а горячечная жажда внутреннего огня. Есть вода, только дождевая, старая, зеленая, скопившаяся в придорожных канавках. Это – какая-то зеленая плесень, попробовав которую Алкид замотал головой и зафыркал. А надо пить. Дурова набирает в бутылку этой мутной зелени и везет с собой, не имея решимости бросить, ни мужества – проглотить эту ужасную жидкость. Но жажда берет свое: несчастная кончила тем, что выпила, как сама признавалась, эту теплую, «адскую влагу».
По ночам, на ходу, уланы роняют с голов каски. И солдату невмоготу! А начальство ругается – зачем люди дремлют! Но начальство и само дремлет. Даже Бурцев, попадающийся иногда на глаза во время остановок, смотрит таким хмурым. Только при виде Дуровой лицо его немножко проясняется.
– А что, братуха Алексаша, устал? – спросил он на третью ночь бегства Дурову, когда на ровном поле и гусарские, и уланские взводы могли двигаться рядом. – Шибко устал?
– Да, Бурцев, я просто падаю с седла, – отвечала девушка, которая начинала в душе проклинать войну и свое безумство.
– А Дениска еще бранит людей, что дремлют… черт чертом стал – презлой… А видишь – вон сам рыбу удит.
Впереди действительно ехал Давыдов и крепко спал, клюя носом в гриву своего привычного коня. Поводья выпали у него из рук, плечи сгорбились.
– А вот посмотри, Алексаша, – я его, подлеца, проучу, чтоб не лаялся.
И Бурцев, пришпорив свою лошадь, стремительно поскакал мимо Давыдова. Лошадь последнего шарахнулась, и надо было видеть изумление и торопливость, с какою сердитый начальник подбирал распущенные поводья, разбуженный так неожиданно.
– А! Это ты, ракалья! – процедил он сердито, догадавшись, чья это шутка.
– Не лайся, – пояснил Бурцев, – это тебе за лаянье.
К утру они настигли несколько пехотных полков, обозы, артиллерию. Тут только выяснилось Дуровой, что они не все бежали вперед, а делали какие-то обходные марши, чтобы стать на другом крыле армии, ближе к арьергарду и к неприятелю. Пехотные солдаты имели такой вид, как будто бы они шли на побывку: большего частью босиком, в рубахах и с сапогами, висящими то на штыках, то на плечах. Дела скорого, как видно, не предвиделось, и они шли вольно, вольготно, зная, что позади них еще есть свои, землячки – не выдадут. У пехоты усталости на лицах не замечалось, а все как будто говорили: «Что ж – коли велено идти, так и надо-быть идти – это ихнее дело, начальников, – не наше»…
Бурцев опять подъехал к Дуровой – улыбается, щурит добрые глаза.
– Ну вот, Алексаша, скоро и отдохнем, а то мне на тебя смотреть жалко – ишь, как сбежал с лица, – говорил он участно. – Посмотри-ка на себя в зеркало.
Дурова слабо улыбнулась и показала на голое поле с вытоптанными пашнями: какое-де тут зеркало!
– Да зеркало при тебе, братуха, – истолковал ее мысль Бурцев.
– Как? – недоумевающе спросила девушка, вспомнив в то же время, что, будь она дома, не в этих рейтузах, она давно полюбопытствовала бы видеть свое лицо в зеркале.
– А вот! – сказал Бурцев. – На – гляди.
И он вынул из ножен свою широкую, блестящую саблю и поднес светлую ее полосу к лицу Дуровой. Девушка действительно увидела там отражение своего лица. Но что это было за лицо! Черно-бледное, со впалыми, потухшими глазами, с белыми, растрескавшимися от ветра и внутреннего жара губами. О! Как боялась она в этот момент, чтобы не узнали, что это – лицо женщины, молоденькой девушки…
Этот день назначен был для отдыха. День выдался не холодный и не жаркий. Земля после дождей просохла, и обмывшаяся зелень смотрела необыкновенно ярко и весело. Местом стоянки был избран всхолмленный, возвышенный берег, внизу которого протекала, извиваясь, как брошенный на дороге чумацкий длинный батог, небольшая, голубая, поросшая у другого берега камышами и зеленым чаканом речка. За речкой шли ровные поля, кое-где перегораживаемые молодым ельником вперемежку с березами. Тут же, в стороне, вдоль речки, вытянулась небольшая деревенька с почерневшими крышами.
Полк Дуровой, а равно гусары Мариупольского полка и драгуны Новороссийского расположились по соседству. Солдаты тотчас же развели огни и копошились около них, тогда как другие их товарищи рассыпались в разные места – кто за травой и сеном для лошадей, кто – чтобы себе что-либо попромыслить.
Едва Дурова слезла с коня и осмотрелась, как Бурцев уже отыскал ее и тащил куда-то, схватив за обшлага. Он казался весел и доволен. Левый глаз по привычке комично подмигивал.
– Пойдем, пойдем, Алексаша, – торопился он, – Дениска сегодня раскошеливается: чай будем пить с архиерейскими сливками – уж он и бутылку вынул. А так как ты этих сливок не пьешь, то мы тебе достанем – ну, да уж хоть птичьего молока, а достанем… Подоим, брат, французского орла – вот у нас и сливки для тебя.
– Да постой, Бурцев, – что ты меня тянешь? Точно в плен взял, – защищалась Дурова.
Бурцев подмигнул еще хитрее.
– И яйца будут, – пояснил он, – я уж послал на деревню парламентера.
Дурова обещала прийти тотчас же, сказав, что она должна прежде всего позаботиться об Алкиде. И едва она подошла к денщику, который вываживал Алкида, как словно из земли вырос старый Пилипенко со своею неразлучною Жучкою, чуть не погибшею при сожжении Зеленого моста, и добродушно, как-то отечески улыбаясь, заговорил скороговоркой и со свистом: еще под Фридландом он сгоряча наткнулся, как сам выражался, на «веретено» – так называл он французский штык – и потерял два передних зуба; а коренные он давно потерял на службе, на гнилых, с закалом и с хрустом, то есть с землею, сухарях.
– Ваше благородие! А я вам курочку раздобыл, – говорил он ласково и вынул из-под куртки курицу со свернутою головой.
Этот старый гусар, который недолюбливал молоденьких офицеров, барчат, матушкиных сынков, в первую кампанию косился сначала и на Дурову; но потом привязался к ней как-то отечески, как привязался давно и к своей Жучушке, и хотя Дурова перестала быть гусаром и «пошла в снегири» – так называли солдаты красногрудых уланов, – однако Пилипенко продолжал любить ее.
– Жирная, гладенькая курочка, – говорил он, выщипывая и раздувая перья своей жертвы, – желтая, как воск.
– Да где ты ее взял? – спросила Дурова. – На деревне поймал? Как же тебе не стыдно! Ведь это грабеж, мародерство…
– Какое, ваше благородие, миродерство?.. – добродушно оправдывался старый гусар. – Она, эта курочка, дикая – она ничья.
– Как ничья?
– Да ничья, ваше благородие: хозяева все попрятались… Да и то сказать – завтра ее, эту курочку, все равно француз слопал бы, так уж лучше не доставайся ему.
Дурова сообразила, что Пилипенко был прав. Не одни куры попадут в руки французов!.. Все еще с угрызением совести, нерешительно, но она взяла курицу, тем больше что только теперь, на покое, она почувствовала давно сидевший в ней голод и вынула из кармана монетку, чтобы дать услужливому гусару.
– Зачем же, ваше благородие! За что обижать старика? – обиженно заговорил гусар. – Я не жид какой-нибудь – не торгую.
– Да как же, брат! А ты с чем же останешься?
Пилипенко улыбнулся и из-под другой полы вынул петушка.
– У меня кочеток, ваше благородие.
Девушка засмеялась, обняла старика и пошла разыскивать Давыдова и Бурцева.
У Давыдова уже была раскинута палатка, и к нему собралось довольно большое общество офицеров, между которыми по обыкновению особенно бурлил Бурцев. Он требовал, чтобы веселая компания непременно расположилась вне палатки, под открытым небом, на траве и на ковре – «кто любит бабиться», – вокруг «эскадронного костра», как он выражался! Костер этот усердно разжигал денщик Давыдова, Рахметка, из сызранских татар, пренеутомимое узкоглазое, чернолицее существо. Бурцев, горячась и споря разом со всеми, без фуражки, с всклоченною головою, рылся что-то в костре.
– Бурцев! А Бурцев! – смеялся дискантом массивный, хотя еще очень молодой, широкоплечий драгунский офицер, тщательно выбритый и щеголевато одетый. – Позволь, брат, припустить моего коня к твоей голове.
– А зачем тебе? – не поворачивая головы, отвечал Бурцев.
– Да у тебя столько набилось сена в волоса, что на корм моему коню хватит, – отвечал драгун.
Все засмеялись. Бурцев приподнялся, прищурил левый глаз и стал ощупывать свою голову.
– А ведь и в самом деле, черт побери, сколько тут сена – прорва!
– Да оно у тебя растет там, – добавил драгун.
Бурцев, по-видимому, ощетинился. Оба глаза его прищурились, и он стал фертом, вызывающе глядя на Усаковского – так звали драгуна.
– Господа, послушайте! – возвысил голос Бурцев. – Мы с Усаковским меняемся головами: он берет мою с сеном в волосах, чтоб моим сеном накормить своего коня, а нам дает свою во щи… Ура! Господа, мы сегодня щи едим со свежей капустой.
Снова кое-кто засмеялся, но Усаковский не обиделся, да и некогда было: все обратились к Дуровой, которая принесла курицу.
– Ай да Алексаша! – торжествовал Бурцев. – Сегодня у нас щи и жаркое из курицы… Эй, Рахметка! Скуби и потроши курицу на жаркое. – Потом он покопал в костре и вынул оттуда пару печеных яиц. – Это тебе, Алексаша… Денискины – у него скрал, – говорил он шепотом, но так, что все слышали.
Давыдов, который в это время отдавал приказания фельдфебелю, только улыбнулся на слова Бурцева. «Это за то, что он ночью лаялся», – пояснил последний.
Дурова хотела было свести разговор на то, что ее занимало в настоящем деле, то есть в каком положении находятся военные дела, что значит это отступление, когда будет дано сражение и т. п., но Бурцев остановил ее:
– Охота тебе, Алексаша, такими пустяками заниматься! Это дело штабных. А когда придет пора драться – будем драться.
– Да куда мы идем? – допытывалась Дурова.
– На богомолье, – процедил Давыдов, – к Смоленской Божией Матери.
– Верно, – пояснил Усаковский, – уж нас почти до Смоленска догнали.
Между тем поспел чай в походных чайниках. Рахметка, стоя над костром, в обеих руках держал по шомполу: на одном вздета была принесенная Дуровой курица, на другом – огромный гусь, раздобытый денщиком Бурцева. Нашлись и старые колбасы, еще виленские, «стара вудка» в плетенке, ром…
Вдруг невдалеке заревела корова… Все оглянулись и невольно расхохотались. Несколько гусар держали за рога неведомо откуда явившуюся корову – должно быть, бежала из лесу от хозяев, которые со скотом и имуществом спрятались в лесу, – а Бурцев, припав на корточки, усердно доил ее в жестяную манерку, постоянно ворча на гусар: «Да держите же, черти, дьяволы! – все проливаю…»
Через минуту он уже стоял перед Дуровой, держа манерку с парным молоком.
– Это Алексаше, сливки, – говорил он, щурясь левым глазом, – а нам Денискины сливочки, от египетской коровы.
Потом он взял стоявший на ковре ларец, достал из него самый большой стакан, положил сахару и развел сахар горячим чаем, налитым менее чем до половины стакана.
– Дружище Усаковский, передай-ка мне сливки, – обратился он с самым добродушным видом к драгуну, с которым за несколько минут перед этим повздорил было.
– Какие сливки? – спросил тот недоумевающе. – Мы без сливок пьем.
– Да вон же молошник у тебя под носом стоит – экой ты, братец!
Усаковский догадался – перед ним стояла бутылка с ромом. Он улыбнулся.
– На-на, – говорил он, подавая бутылку, – не скислись ли только.
– Эти не скисаются, потому от библейской коровы. – И Бурцев долил свой стакан ромом.
Давыдов и сегодня казался не в духе. Он, сидя на ковре, крутил правый висок, что означало у него или волнение, или внутреннюю работу. Эти дни у него почему-то не шел из головы тот вечер, который он, пять лет назад, провел в Москве у Хомутовых, когда княгиня Дашкова вспоминала свою молодость… «А нам-то и вспомнить нечем будет нашу молодость, – досадливо говорило его сердце, – так, канитель тянем… и нас после никто не вспомнит…»
– Это черт знает что такое! – сказал он наконец, выпив залпом свой стакан.
Все посмотрели на него. Бурцев, мигая левым глазом, старался не смотреть на Дурову и пил свой пунш скромно, маленькими глотками. Дурова вопросительно смотрела на Давыдова: она давно заметила, что он скучает и часто, задумываясь, говорит что-то сам с собою.
– Так жить нельзя, господа! – продолжал Давыдов, теребя висок. – Что мы за коптители неба! Нас гонят, а мы даже и оглядываться не смей; не смей заглянуть в рыло тому, кто тебя гонит. Вон Фигнер делает свое дело, и Сеславин начинает лакомиться французятинкой, и Платов со своими казачишками от почечую лечится французскими красными каплями – guttae sanguinis… А мы…
Не успел он кончить, как уже Бурцев душил его в своих объятиях.
– Денисушка! Красавец! – теребил он своего друга. – Да ты, дьяволова душа, – гений! Ты нам всем в душу залез и увидел, что мы с голоду помираем – так французятины хочется.
– Ну, полно-полно, перестань меня душить, чертов ноготь! – отбивался Давыдов.
Бурцев, отскочив от него, повернулся к Дуровой, раскрыл руки, настежь развел их, как для объятий, и засеменил ногами.
– Алексаша! Друг! Ангел! Поцелуемся! – Потом, как бы опомнившись, он смешался и отступил назад, бормоча: – Эх, свинья я! От меня винищем несет…









































