Читать книгу "Двенадцатый год"
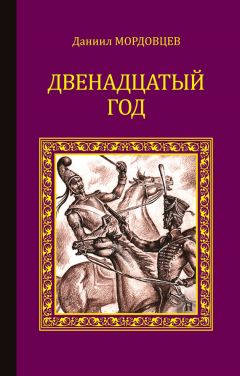
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– В Авдотьино, к Новикову.
– Это к тому старичку, что мы в прошлом году с вами ездили?
– Да, к нему.
– Ах, дядечка милый, возьмите и меня с собой!
– Нет, Ириней, нельзя… Я по делу, ненадолго – на день не больше, и сейчас же ворочусь.
– Ах, дядя! – И девушка сделала печальное лицо. Ей вспомнилось, как хорошо в прошлом году было в Авдотьине, как ей понравился старичок, его птицы, звери, рыбы, лес – все там так хорошо! Там просто рай. Мельница с шумящими колесами, с этой жемчужной водой, с ее неустанной стукотней… А этот пчельник у опушки леса, этот пчелинец с ситом на лице и с головою в мешке… эти рои пчел…
Девушка вспомнила вечер в Авдотьине. Что за вечер волшебный! Этот добрый старичок Новиков сказал ей, что назавтра пчелинец ожидает, что некоторые ульи будут роиться, что в них «молодые матки плачут». – «Как плачут? – спрашивает Ирина: – О чем?» – «А вот о чем, милая, – говорит дедушка Новиков, – каждое лето старые пчелиные ульи роятся, то есть пчелы выводят детей. Дети эти не остаются в старых ульях, у родителей, потому что в доме родителей им было бы тесно, и потому молодые пчелы, как скоро возмужают, должны покинуть дом родительский и искать себе нового жилья… В каждом улье есть своя матка, которой все остальные пчелы ее улья служат. Матка очень добра, у нее даже нет жала, как у остальных пчел, и потому она не кусается. Все пчелы ее кормят медом и берегут с детскою почтительностью, и хотя говорят, якобы она не работает, не собирает мед с цветов, но это ошибочное мнение: у матки есть свое дело, очень важное. Но не в том вопрос, милая. Я хочу тебе только рассказать и объяснить, почему перед роеньем молодого роя молодая матка плачет. Я сказал, что каждый улей имеет свою матку. Такую же матку, молодую, имеет и каждый молодой рой, долженствующий роиться, то есть оставить улей родителей своих и идти искать себе нового убежища. Эта-то молодая матка, говорят, расставаясь с домом родительским, и плачет, стонет тихо перед разлукою с родителями. Молодые матки, пчелинец подслушал, плачут и, значит, назавтра надо ожидать новых роев…» И Ирише захотелось подслушать, как плачет матка. И вот вечером дедушка Новиков повел ее на пчельник. Была уже ночь – тихая, благоуханная… В роще щелкал соловей, по временам замолкая и снова заводя свое беззаботное, мелодическое пощелкивание своим маленьким музыкальным горлышком… Подходят они к одному улью, на который указал пчелинец. Сначала прикладывает к нему ухо пчелинец, старичок в белом толстом колпаке, и слушает… «Плачет», – шепчет он. Прикладывается к тому же улью ухом и дедушка Новиков, слушает долго. «Плачет», – шепчет он. Со страхом, с замиранием сердца и Ириша прикладывает свое розовенькое ушко к дереву улья. Бьется, бьется ее сердце… за этим биением она ничего не слышит – слышит только, как ее же сердце стучит. Но в то же время она слышит и в улье какую-то глухую, но тихую-тихую возню, что-то неясное, но среди этого она еще что-то слышит… Да, она явственно слышит, как там, в дереве, что-то стонет, не то плачет… «Аа-аа-аа», – точно ребенок, да так тихо, так тихо, что становится даже страшно. И Ирине стало страшно. Там живое существо, оно стонет сознательно, в нем есть боязнь, опасение, жалость… И это – в пчеле, в насекомом… Ириша отошла от улья, вся трепетная, молчаливая, бледная. «Что?» – ласково спрашивает дедушка Новиков. «Да, стонет, что-то… плачет… я боюсь». – «Чего, барышня, бояться?» И ночью потом слышалось Ирише, когда она старалась заснуть, что словно у нее в подушке что-то тихо стонет и плачет: «Аа-аа-аа». Так она на этом и заснула.
А наутро, вспоминается ей, дедушка Новиков повел ее на пчельник, чтобы она сама видела, как роятся молодые рои и как пчелинец снимает их. И приходят они на пчельник и видят, что пчелинец ходит между ульями и поглядывает на деревья. А одет он как-то особенно: все на нем из грубого белого холста; рукава широкой рубашки обвязаны веревочкой у самой кисти; рубаха у старика уже не навыпуск, а заправлена в штаны, и штанины у самых ступней тоже перевязаны веревочками. «Это затем, – поясняет дедушка Новиков, – чтобы пчелы не забирались за рубаху и не кусали. Да они его, говорит, почти никогда и не кусают – привыкли, а только молодые иногда кусаются». В воздухе стоит невообразимый пчелиный гул, пчелы тучами кружатся над деревьями, а другие одна за другой вылетают из ульев и присоединяются к тем, что над деревьями. «Это молодые играют, – говорит дедушка Новиков, – ищут, где им привиться, к какому дереву… Вон-вон, к той липе прививается один рой…» И Ириша действительно видит, что у этой липы к одной ветке все гуще и гуще слетаются пчелы, на ветке виднеется уже темное пятно из пчел, пятно это все растет, растет, растет и превращается в огромный черный ком, это все пчелы, одна на другой – словно черная шапка висит на ветке… Как они не задохнутся? А около липы уже почти нет летающих. «Привился», – говорит дедушка Новиков… Тогда дед Зосима, пчелинец, с помощью мальчика, у которого совсем белые волосы, целая белая копна на голове, – с помощью этого белоголового «мальца», которого зовут Микитейкою, – подставляет к липе лестницу; потом берет «роевницу» – лукошко, у которого дно обтянуто ситом, а к верхнему ободку пришито нечто вроде мешка; вместе с тем он берет деревянный ковш с длинной, в аршин длиною, ручкой. «Этим ковшом он будет собирать пчел на ветке», – поясняет дедушка Новиков. Надев на себя «роевницу» через плечо при помощи привязанной к ней веревки, дед Зосима надевает на голову маленькое овальное сито, которое в виде плоской маски или вуаля из сита, вделанного в лукошко такой величины, что в него может пройти только лицо, – защищает его глаза, нос и щеки от пчел, а такой же пришитый к лукошку, как и к роевице, мешок обхватывает всю голову деда и шею и на шее же завязывается. «Это называется наличником», – поясняет дедушка Новиков. В этом костюме дед Зосима кажется не только странным, но даже страшным: лица не видать, а вместо лица и головы – лукошко с мешком. Вот он крестится на восток, подходит к лестнице и взбирается на нее своими старыми ногами. «Не упади, Зосима, – предостерегает его дедушка Новиков. – Пора бы и Микитейке снимать вместо тебя». – «Нет, барин, не упаду, Бог поддержать должон, коли я с молитвой да на святое дело. А Микитейка-то еще рылом не вышел для экого-то великого дела». – «Ну, ладно». И вот дед Зосима подбирается к самому комку пчел и, тихонько подхватывая их ложкой, ссыпает в роевницу. Пчелы словно в обмороке, – так и валятся в лукошко небольшими черненькими комьями. Все, кажется, снято… Тогда дед Зосима берет рукой ветку, на которой висел рой, и стряхивает в лукошко остальных пчел, которые еще цеплялись к ветке. Рой снят. Дед Зосима осторожно спускается с лестницы с закрытою мешком роевницею и молча передает ее в руки дедушки Новикова. «Весит хорошо», – говорит дедушка Новиков. «Поди, фунтиков десять будет – ветка так и гнулась, мало-мало не сломалась», – со смиренной гордостью говорит, в свою очередь, дед Зосима. Микитейка стремглав бежит в шалаш и выносит оттуда безмен. «Знает свое дело сопляк», – одобрительно осклабляется дед Зосима. Взвешивают на безмене роевницу с пчелами – лицо у деда светится. «Десять фунтиков с походцем», – говорит он с едва сдерживаемою радостью. «Чистой пчелы?» – спрашивает дедушка Новиков. «Чистой, батюшка барин: в роевнице три фунта с походцем. Такова роечка Микитейке и не поднять». – «Ан подниму!» – протестует белая всклоченная голова. – «Куда тебе, пащенок!»
– Ты о чем это, Ириней, так крепко задумался? – спрашивает Мерзляков, роясь в бумагах.
Ирина точно от сна прокидывается.
– Это я, дядечка, вспомнила, как в Авдотьине дедушка Новиков показывал мне, как рой пчел снимают с деревьев.
И она, глядя в окно, снова переносится мыслью в Авдотьино… Вот они сажают в новый улей молодой рой. Сначала дед Зосима обкуривает внутренность борти ладаном. «Что улей свячоный да святой водой кропленный, что дом с образами – Божья вотчина», – говорит дед и кропит улей святой водой, открыв нижнюю затворку. Потом он вставляет в эту затворку желобок, длинненький, пологий, которым пчелы должны войти в улей, в свое новоселье. Затем дает дедушке Новикову и Ирише по зажженной гнилушке – это «курушки», дым которых отгоняет пчел и предохраняет от их укушений. Затем раскрывает роевницу и ставит ее боком, чтобы по малому ковшику выкладывать из роевницы пчел на желобок. Предварительно дед Зосим положил в новый улей кусок сотового меду: «Хлеб да соль на новоселье молодым…» Пчелы, высыпанные в желобок, сами сразу догадываются, что им надо делать: они не летят, но стадом ползут по желобу в улей, стараясь перегнать одна другую… «Ишь, словно дети малые бегут, спотыкаются, – бормочет дед Зосим. – Бегите с богом, бегите, детушки, работнички Божьи…» – И он любовно крестит их, а сам зорко-зорко, уже без наличника следит за каждою пчелою, хоть их там сотни разом спешат по желобу… Наличник надет на Иришу – ах, как она должна быть смешна в наличнике, с лукошком на голове! – точь-в-точь дед Зосима… даже Микитейка ухмыляется, глядя на нее. А дед все не спускает глаз с ползущих кучами в улей пчел. «Где-то ты, матушка, застряла», – шепчет он, ища глазами матку этого молодого роя… «А! Вот она! Вот она, красавица матушка!..» Это он увидал матку, которую так комком и обленили другие пчелы. И как только он угадал ее! Ничем она от других пчел не отличается. «А, матушка! Пожалуйте в свою горенку…» И он осторожно-осторожно берет ее двумя пальцами и сажает в «маточник» – это род фонарика маленького на рукоятке, с деревянными, клетчатыми, пропускающими свет стенками. «Сиди тут – хозяйничай, а детки уж без тебя не уйдут, кормить и беречь тебя будут…» Ах, как там хорошо в Авдотьине!..
– Дядечка! Голубчик! Возьмите меня с собой! С собой! – с жаром обращается она к дяде.
– Да что ты, Ириней, с ума сошел!
– Нет, дядюленька, нет!..
– Да на кого мы бабушку оставим?
– С ней богомолка останется да Мавруша… С богомолкой она рада весь век говорить… Дядюленька! Красавчик! Возьмите… ведь всего на день…
И она по-старому, как маленькая, бросилась ему на шею. Бакалавр уступил:
– Ну, нечего с тобой делать, разбойник этакий, собирайся. Да чтоб обед был скорее готов, после обеда сейчас и в дорогу.
Ириша неудержимо бросилась целовать дядю.
– Постой! Постой, душегуб! Ты мне зубы вышибла совсем!
В одно мгновенье Ириша исчезла из комнаты как ураган, так что испугала даже Мавру, торопившуюся на кухню… «Ах, Господи! Это сущая каторга», – ворчала баба, не понимая, что сделалось с барышней.
2
– Вот мы теперича, матушка, едим карасиков в сметанке – скусная рыбка, нечего сказать, скусная. А я, мать моя, кушала в Ерусалиме-граде однобокую рыбку. И называют эту рыбку камбалой, и глазок у нея один-одинешенек, и живет она в море…
Так за обедом, при общем молчании, разглагольствовала странница Авдеевна, кушая карася в сметане. Бакалавр молчал, думая о вчерашнем вечере и о предстоящей поездке. Ириша молчала потому, что мысли ее также витали далеко – то в неведомом Фридланде, у постели раненого Истомина, то в Авдотьине… Ей чудилось даже, что она слышит, как в улье стонет молодая матка пчелиная, и теперь ей слышится не плач пчелы, а стоны раненого, его стоны…
И бабушка молчит, вся поглощенная рассказом богомолки.
А у крыльца уже стоит кибитка, обтянутая черной клееною парусиной. Тройка обывательских, кусаемая мухами, нетерпеливо бьется на месте и глухо звенит колокольцем, подтянутым к дуге для того, что в городе вольной почте колоколец не полагается, а дозволяется ему голосить только за городом.
– Ну, съели тебя окаянного! Стой! – доносится голос ямщика, успокаивающего коней. – Кнутом дьявола ленивого не проймешь, а то на вон! Муха забидела, нежный какой!
Обед кончен. Мавра укладывает в кибитку ковер и две подушки.
– Узелок вынести? – спрашивает она мрачно, ни к кому не обращаясь.
– Вынеси, Мавруша, – задумчиво отвечает барышня.
Все задумчивы, как подобает при проводах. Странница даже глубоко вздыхает. По знаку старушки все садятся, нагибают головы, как бы обдумывая, не забыто ли что, в порядке ли все… Теперь этот обычай уже вывелся, а тогда это сидение и думание было законом. Шутка ли! Человек в путь собирается. В дороге все может случиться – и хлеба недостанет, и ось сломается, и разбойники нападут. Едешь за пятьдесят верст, молебен служи напутственный…
Посидели с минуту, повздыхали. Даже Ириша смотрит серьезно, сосредоточенно – может быть, оно так и следует…
Встали. Крестятся все на образа. Шепчут что-то…
«Луке и Клеопе путешествовати хотящу»… – шепчет вслух Авдеевна.
«Лука – это дядя, – думает про себя Ириша, – а Клеопа – это я».
«И рече каженик: со вода – что возбраняет мне креститися?» – шепчет далее Авдеевна.
«Зачем вода? – думает Ириша. – А! Каженик… помню Евангелие… это кого-то провожали на войну…»
Целуются. Дядя целует бабушку, та крестит его. И Ириша целует бабушку, бабушка и Иришу крестит. А Мавра стоит у двери мрачнее ночи.
Вышли. Ямщик уже на козлах – встряхивается, подбирает вожжи, ровняет лошадей.
– Эй ты! Мухова кума! – за что-то корит он коренную, рыжую, с густою гривою кобылу.
Ириша вскочила первая. Из кибитки выглядывает ее веселое, розовое личико. Кланяется.
– Прощайте, бабуленька.
– Прощай, тарара.
И Мерзляков, облеченный в парусиное пальто, тоже влез в кибитку, тоже кланяется, прощается. Старушка крестит путников… «Лука и Клеопа, – думается Ирише, – какой у Луки смешной картуз…»
– Трогать, барин?
– Трогай.
– С богом! Эй ты! Мухова кума!
Тронулись. «Мухова кума… какой смешной!.. Мухова кума…» И Ириша засмеялась. И ямщик, и дядя невольно на нее оглянулись.
– Ты чему радуешься, дурак Ириней? – спрашивает дядя.
– Я ничего… Вон он лошадь называет муховой кумой…
И ямщик улыбается. Тройка двинулась не особенно шибко. Да и невозможна в такой зной быстрая езда, особенно когда предстоит сделать до пятидесяти верст. Московские улицы накалились. Раскаленные мостовые словно каменка в бане: плеснуть на них, так пар пойдет. Ветру нет почти совсем, и пыль, поднимаемая колесами и копытами лошадей, клубится в воздухе и почти не опускается наземь. Духота в воздухе невыносимая. Галки сидят в тени с распущенными, ослабевшими от жару крыльями и разинутыми ртами; дышать нечем ни человеку, ни зверю, ни птице. Только воробьи да куры особенно деятельно клубятся – купаются в песке и в пыли за неимением воды. Над всею Москвою стоит какая-то горячая, душная мгла; по-видимому, она бессильна подняться туда, вверх, к небу, которое смотрит словно бы закопченным, запыленным. И деревья запылены, и им дышать нечем…
Когда тройка проезжала мимо одного дома, на террасе которого, увитой плющом и другой зеленью, сидел в кресле очень ветхий старик, а босоногая девочка зеленой веткой отмахивала от него мух, – Мерзляков снял картуз и приветливо поклонился старику.
– Что это за старичок, дядя? – спросила Ириша.
– А тот, которого «Россиаду» ты почти всю знала наизусть.
– А! Херасков, дядя? Ах, бедненький, какой старенький!.. Даже мух не может от себя отгонять.
– Да, Ириней… Вот и стал «муховой кумой», а был славен… С прошлого года с мухами только воюет…
– И будет всегда… ах, бедный… «Мухова кума» – вот выдумал.
Ямщик опять обернулся и осклабился.
– Но-но! Боговы, погромыхивай! – поощрял он лошадей; но погромыхивать было совершенно невозможно, в пору бы только кое-как плестись.
Но вот и Москва осталась позади; так, кажется, и утонула, и задохлась под громадной пыльной шапкой, опрокинутой над нею. Жилье все редеет и редеет. В воздухе хотя все так же душно, но дышится легче, и легкие свободнее забирают менее пыльный и менее испорченный воздух. От огородов и садов тянет более влажным воздухом, а все еще тяготит духота.
– Но-но! Боговы, пофыркивай!
Но говорится это так лениво, по привычке… И лошади понимают это: так же лениво пофыркивают, постукивают трусцой копытцами, а то и шажком, как бы нечаянно, как бы не понимая, что им шагу прибавить велят.
– Ишь ты теплынь какая… ажио полдники бегают, – говорит ямщик, оглядываясь на седоков.
– Какие полдники? – спрашивает Мерзляков, не слыхавший этого слова.
– А вон, барин, бегают, – отвечает он, показывая кнутовищем вдоль дороги.
Мерзляков и Ириша выглядывают из кибитки, перевешиваются, смотрят и ничего не видят.
– Да где ты их видишь? – удивляется бакалавр.
– Вона, вона… махоньки, так и бегут один за другим.
– Да кто же они такие? Я ничего не вижу.
– А бог их ведает, кто они – полдники, значит, бают.
– Да люди, что ли, или звери?
– А господь их! Може, звери, а може, люди такие… Это по здешним местам редко бывает, а у нас, на Волге, как это жарынь наступит, так они, значит, и бегают.
Диву дается бакалавр, ничего не понимает и ничего не видит. А Ириша – так та все глаза проглядела, стараясь увидать эти таинственные существа, что в жарынь по полю бегают. Но ничего нет, ничего не видит живого, кроме ворона, мерно расхаживающего по черной ниве или по зеленой, щетинистой озими, или ястреба, тихо плывущего в воздухе.
– Да растолкуй ты мне, милый человек, что это за полдники такие и где ты их видишь тут?
Ямщик даже оборачивается к седокам и показывает им свое улыбающееся, недоумевающее лицо, загорелое, словно дубленый полушубок и почти без профиля.
– Да вон, барин, приглядись ты к земле-то – так на четверть, на две от земли – так, вон там кубыть что перебегает, двигаютца – дух не дух, дымок не дымок, вода не вода…
И бакалавр увидел наконец «полдники» – явление слишком хорошо известное всем, кто жил на юге, особенно в степных местах: это – движение раскаленного, разреженного воздуха, замечаемое над трубой самовара, сильно накаленной углями, не дающими дыма.
– А что, барин, – заговорил вдруг ямщик, снова обращая к седокам свое беспрофильное, добродушное лицо, – сказывают, француз замирился?
– Да, замирился.
– Так… А где же он теперь жить будет?
– В море?
– Как в море?
– Да в воде, сказать бы, в море.
– Да разве он рыба?
– Не то рыба, не то, сказать бы, человек… Фараон, сказывают.
– Какой фараон?
– Да тот, что по морю по Черному гнался за казаками за донскими, а у казаков, значит, была на корабле Иверска Богородица… Как махнут это казаки Иверской он, фараон-то, и стал потопать… А Бог и говорит: «Будь ты, грит, фараон, человек-рыба и живи ты, грить, в море»… С той поры и живет он в море… А как буре быть, так он это выскакивает из воды; выскочит да в ладоши заплещет, да закричит: «Фараон! Фараон!» – да опять в море… Ну, буря и подымется…
– Уж это тебе не странница ли рассказывала? – спрашивает, переглядываясь с Иришей, бакалавр.
– Нет, барин, не странница, а солдат оттудова с офицером, с Денис Васильичем Давыдовым, приехал – это барин наш… Так этот солдат сам сказывал, что видал ево.
– Кого видал?
– Самово фараона, что французом назвался.
– Ну где ж он его видал? Любопытно.
– А в воде… как он к царю нашему из воды выходил.
– И солдат говорит, что видал его в воде?
– В воде, точно… Это царь наш на корабле едет с енералами, выехал на середину моря, заиграл в трубу золотую, а он и вышел из моря и дал замиренье.
– Какой же он из себя?
– Махонький, говорит – не то чтобы как человек, а до пояса человек, а там рыба, сказать бы… Вот с им и воюй!
– Да, точно… трудно с таким воевать.
– Чево не трудно! Ты к ему, а он в воду – и поминай, как звали!
– Удивительно!
– Чево не удивительно!.. Но-но! Боговы!
Мерзляков взглянул на Иришу. Та сидела, вся раскрасневшаяся от жару и, видимо, сдерживавшаяся, чтобы не расхохотаться. Но при взгляде на дядю, который как-то отчаянно развел руками, она наконец покатилась со смеху. Ямщик, не зная, чему смеется барышня, только осклабился и передвинул свой гречушник справа налево, чтоб почесать в затылке.
– Вот и толкуй с ними! – разводя руками, говорил бакалавр: там француз беспятый и без тени и в зеркале его не видать, а тут фараоны в море да «мухова кума».
– Ах, дядечка! Да вот и мы верим в купидонов да в амуров…
– Да это, мой друг, другое дело – мы знаем, что это такое…
В это время в стороне от дороги, на безоблачной синеве горизонта, вырисовалось одинокое развесистое дерево. Кругом – голая, немножко возвышенная равнина.
– А вон, дядя, ваш дуб, – сказала Ириша, показывая на одинокое дерево.
– Да, да, точно он… Он мне дал мысль написать «Среди долины ровныя»…
– Ах, дядечка, какой вы умный!.. – И девушка тихо запела: «Один-один, бедняжечка, как рекрут на часах…»
– А скоро, барин, некрутов будут брать? – отозвался ямщик, услыхав слово «рекрут».
– Не знаю, брат.
– А поди, скоро… на ево, на фараонтия на проклятого… Вот я те, мухова кума!
Ириша не вытерпела и спросила:
– Да кого это ты муховой кумой называешь? А?
– Я-то?
– Да, – кого?
– Да это у меня, барышня, поговорочка такая – мухова кума да мухова кума…
Жар не спадал, хотя солнце начало уже склоняться к западу; все косвеннее и косвеннее становились его лучи, и длиннее становилась тень от кибитки, от ямщика, от лошадей, и в особенности от дуги. Лошади притомились. Ириша, глядя на тень от своей колесницы и перебегая мыслью от предмета к предмету, погрузилась в какое-то полудремотное состояние. И там, в глубине молодой памяти, одни перебегающие тени, то светлые, то менее светлые – и тут тени, бегущие рядом с ними по левую сторону дороги: вместо колес – какие-то длинные, вертящиеся фигуры, которые словно плывут по траве, по зеленой ржи, по кустам… Вместо лошадиных ног – множество длинных, неправильно движущихся палок. Тень от дуги перебегает с пригорка на пригорок… Колокольчик звякает тоже как-то странно: точно и он задумывается, забывается, а потом вскрикнет, проснувшись, и опять звякает полусонно, вяло, неровно… Бакалавр дремлет, покачиваясь то назад, то вперед… Ямщик затянул было:
«Что ты тра– что ты, тра– что ты, тра-а-вынька!
Ох, и что ты, траавынька – мура– ты мура – ты мураа…»
– Но-но, боговы!
«Ты мура – ты мура – ты мурааа-вынька…»
– А что, барин, нам пора бы покормить…
– Что?.. Что ты говоришь? – изумляется бакалавр.
– Покормить бы, говорю… Полпутины сделали. А тамотко вон и пойло есть, холодок под елками.
– Ладно.
– Ах, дядечка, как это хорошо! И по траве бегать можно, и цветов нарвать, – обрадовалась Ириша.
– Ну, и закусить бы, Ириней, не мешало: в дороге оно естся.
– Хорошо, дядечка, и закусим… И я проголодалась.
Ямщик свернул с дороги к зеленевшему у небольшой ложбины леску. Лошади прибодрились, подняли головы – и они поняли, что их ждет что-то хорошее.
Подъехали к леску, остановились. Ириша первая выскочила из кибитки и подбежала к лошадям.
– Ах, бедненькие, как вы измучились… Ну, вот теперь отдохнете, напьетесь, покушаете, – говорила она, ласково обращаясь к лошадям.
– Ну! Мухова кума! Стой – воду увидала.
А из-под корня старой ели действительно журчала вода. Ириша бросилась к роднику и припала на колени. Расстегнув рукава ситцевого серенького платья, она опустила руки в холодную, родниковую воду. Ах, как хорошо! Какая холодная, чистая вода! Потом, зачерпывая в ладони эту воду, она начала пить, похваливая:
– Ах, дядечка! Какая вкусная вода… такой и в Москве нет… – Затем начала обливать водой лицо, голову… – Ну, вот теперь совсем не жарко.
Мерзляков тоже вылез из кибитки и, разминая усталые от сидения члены, радостно осматривался. Эта картина разом перенесла его в детство, в то золотое времечко, когда он «на долгих» ездил из училища домой на вакации. Так же останавливались у ручьев, родников и речек, так же кормили лошадей, лежали на траве, купались в речках, собирали птичьи яички, ловили ящерец… О, золотое детство, окрашивающее своими чудными красками всю последующую, часто горькую, беспросветную жизнь человека!
– Да это рай, просто рай!
– Да, дядечка, в Москве ничего нет такого.
И бакалавр тоже присел на корточки перед родником – куда девалась его профессорская важность! Он тоже начал пить первобытным способом – пригоршнею… А вода точно сознательно красовалась перед ним своею прелестью: живая струя, пробиваясь между корней ели, скатывалась маленьким водопадцем в ложбину, сверкая бриллиантами… Бакалавр еще ниже припал к роднику, окачивает голову алмазными струями… «Вот бы она увидала меня здесь… Что-то она делает теперь?» – мелькнуло в голове бакалавра… «Ах, – в свою очередь, промелькнуло в уме Ириши, – если бы не противный Наполеон – фараон этот, то и он, может быть, поехал бы с нами…»
Мокрые волосы Ириши распустились и обнаружили отрезанную прядь.
– Ишь, Иринеич, откорнал сколько! – заметил бакалавр, любуясь косой племянницы.
– Опалила, дядечка, нечаянно… (И нечаянно же вспыхнула как маков цвет.)
Ямщик распряг лошадей и тихонько вываживал их, а они все тянулись к воде.
– Нет, брат, дудки, мухова кума… не дам – обопьетесь, – уговаривал их ямщик, – а ты прежь остынь да пожри маленько, тады дам испить.
Бакалавр между тем вынул из кибитки ковер и разложил его в тени под кустами неклена. На ковер положил подушки. Ириша вытащила узелок, а из узелка кулек со съестными припасами. И дядя, и племянница уселись на ковер, и последняя начала выуживать из кулька все, что там было. Сначала вынула белые булки и положила их рядышком, за булками выползли из кулька свежие огурцы. За огурцами – каленые яйца, так хорошо накаленные, что бока их даже зарумянились; после яиц – холодная говядина, завернутая в бумагу; за говядиной – кокурки, с запеченными в них яйцами; за кокурками – цыпленок, наконец – соль в бумажке.
– О! Да мы по-римски, точно Лукуллы какие[53]53
Лукулл – римский политический деятель конца II в. При императоре Сулле несколько лет пробыл в Греции, исполняя важные поручения во время Митридатской войны. Был очень состоятельным человеком.
[Закрыть], – заметил бакалавр.
– Ах, Мавра! Она завернула соль в «Кадма и Гармонию»! – воскликнула Ириша. – Это оттуда листок.
– Что ж! «Кадму и Гармонии» недоставало соли… А в чем завернута курица?
Ириша развернула и стала рассматривать бумагу, а потом засмеялась.
– Что? – спросил Мерзляков.
– Это, дядечка, «Лейнард и Термилия, или Злосчастная судьба двух любовников», что мы с вами читали.
– А! Макарова попалась Мавре под руку. Вот досталось бы нам за нее от Державина: она его ученица.
Начали трапезовать. Не забыли и ямщика, которому отделили хорошую часть своего запаса; а он, вынув из своего буфета, из-под сиденья, каравай черного хлеба, сначала съел огурцы, потом яйца, потом говядину – все с черным хлебом, а затем скушал пару кокурок и закусил белой булкой. Покушав и помолившись на восток краткою, но выразительною, им самим сочиненною молитвою – «за хлеб-за-соль Богородицу-троерушницу, за хлеб-за-соль Миколу-угодника, за хлеб-за-соль Ягорья», – он припал к роднику прямо ртом, как овца, и удовлетворил свою жажду тем простым способом, каким пили его далекие предки, не знавшие еще ни ковша, ни ложки, как подобало дреговичам.
– Господи! Как хорошо здесь! – вздохнула Ириша.
– Да, хорошо на лоне матери-природы… В городах-то мы отвыкаем от нее, черствеем… А здесь – к Богу ближе… и сам лучше становишься…
– А вот они, – указала Ириша на ямщика, – они вон какие…
– Что ж! Они лучше нас… бедны только да непросвещенны…
В это время вдали, за лесом, что-то застучало, но так глухо и неясно, как будто что-то громоздкое и тяжелое проехало по чему-то твердому и гулкому или что-то огромное где-то далеко упало и разбилось. И Мерзляков, и Ириша в недоумении взглянули друг на друга. Ямщик посмотрел по тому направлению, откуда слышался удар и гул, и глянул на небо.
– Ишь, Илья… а рано бы, – произнес он неопределенно.
– Что Илья? – спросил бакалавр.
– Колесы, сказать бы, подмазывает… рано бы говорю.
– Да какой Илья?
– Богов…
– А! Илья пророк?
– Он самый будет.
Удар повторился ближе и явственнее. Мужик снял гречушник и перекрестился. Голубое небо еще больше поголубело, а с запада, из-за лесу, на него что-то наползало с неопределенным глухим гулом: это надвигалась туча; но какая-то сплошная, бесформенная, ленивая. В ней не было ничего грозного, резкого, но это-то и было самое грозное. На сером, грязно-сизом пологе кое-где выделялись беловатые полосы, нити разорванные… Воздух словно чего испугался, дрогнул и кое-где заметался ветерком… Кони навострили уши – фыркают… То там, то здесь в воздухе заметались испуганные птицы, словно думая улететь от чего-то машущего на них, гонящегося за ними…
Опять стук, но уже не стук, а глухая, далекая стукотня и гул…
– Ну, подвигается… быть грозе, – надо прятаться…
И бакалавр, поднявшись с ковра, стал оглядываться кругом. Ириша тоже вскочила торопливо и заметалась: она, видимо, струсила; за минуту оживленное, раскрасневшееся личико потускнело, как-то застыло в испуге и стало совсем детским, с испуганными, широко раскрытыми глазами…
– А, Ириней! Струсил… заячий дух напал? – улыбается бакалавр.
– Ах, дядечка… ковер… подушки… гром…
– Ну, в кибитку их…
Ямщик перевернул кибитку задком к тому месту, откуда надвигалась туча, и крепче привязал лошадей к оглоблям.
Гулко ударились о верхушку кибитки первые крупные капли… Грянул настоящий гром; что-то как бы треснуло, обломилось, разорвалось… Ириша так и присела, а потом, дрожа и крестясь, юркнула в кибитку, словно зайчик, блеснув в глаза ямщика белыми чулочками. «Ишь ножки… и глядеть-то не на что… с огурец… по вершку поди – словно у робенка», – подумалось ему.
Бакалавр тоже взобрался в кибитку.
– Ах, Ириней… тебя тут и не найдешь… Да ты бы лучше в бутылку влезла…
Ириша не отвечала. Она шибко трусила и с ужасом шептала.
А грохот и пальба и какое-то разламывание пополам земли, воздуха и небес не умолкали. Дождь словно обухами колотил в кузов кибитки, и что-то лилось, шумело, гудело, обламывалось, и снова разом грохало, и снова грохотало, перекатывалось, сталкивалось, словно шла какая-то свалка невидимых, могучих сил, словно небо шло войной на землю, небесные океаны против земли, разрушительные силы неба против демонов-чертей, надземных и подземных.
Что-то страшно треснуло над самой кибиткой, последовал ослепительный блеск молнии, снова грохнуло еще страшнее… Ириша в ужасе вскрикнула… Да и было отчего: кибитка покатилась…
– Тпрру! Тпрру! Черти! Мухова кума!.. Стой! Стой!
Это рванулись кони, привязанные к кибитке, и увлекли ее за собой. Ямщик с трудом остановил их.
К счастью, это был последний удар, но удар почти в упор. Туча проносилась к востоку, а за ней как бы вдогонку рассвирепевшее небо посылало удар за ударом, но уже слабее – не резкие, не отрывистые, а словно бы усталые. Дождь также перестал разом, как бы по приказу, и из кибитки высунулось спокойное лицо бакалавра.
– Ну, Ириней, ты жив?
– Ах, дядя! Дядя!
– Каков Илья? – спросил бакалавр, обращаясь к ямщику, который стряхивал воду со своего гречушника и сам встряхивался, мокрый до последней нитки. – Каков Илья?









































