Читать книгу "Двенадцатый год"
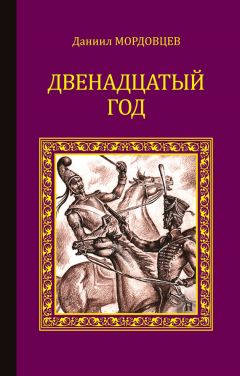
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
12
Действительно, земля задрожала и разбудила спящую у потухшего костра Дурову.
Она вскочила, не понимая, что с ней и где она. Перед ней стоял денщик и держал в поводу ее лошадь. Солнце только что выглянуло из-за лесу и тумана. Эскадрон строился рядами.
Скоро она все поняла. Страшные залпы оттуда, из-за долины, и такие же встречные залпы с редутов Багратиона и со всех ближайших батарей буквально потрясали и воздух, и землю. Казалось, само небо гремело.
Эскадрон Дуровой выстроился на возвышении, левее Семеновского. Оттуда видно было, что делалось впереди. По сторону ложбины, тянувшейся от возвышений, на которых возведены были Багратионовы флеши, до противоположных возвышений, подходивших к Шевардину, оставалось никем не занятое пространство, разделявшее русских от французов на несколько сот сажень. Обе грани этого свободного пространства – русская и французская – дымили по всей линии и сверкали брызжущим огнем: это были какие-то огненно-дымовые коймы, изрыгавши адский огонь и неумолкаемо грохотавшие. Скоро такой же грохот начался и гораздо правее, против Бородина, и против самого центра. Дым относило вдоль этих огненных окаймлений, к югу, и заволакивало лес, раскинувшийся за деревней Утицей.
Скоро огненно-дымные коймы с той стороны от французов, не переставая грохотать и застилать небо дымом, а еще усиливая эту дьявольскую грохотню, как бы разорвались на несколько частей и из-за дыма выдвинулись стройные массы, сверкая оружием. Это неприятель повел атаки на флеши Багратиона и на Бородино. Живые стены двигались по свободной от дыма долине как на парад.
Живые стены двинулись и с нашей стороны; нога в ногу шли солдаты, колыхаясь целыми колоннами.
Вдруг среди грохота пушек раздалось какое-то лопотанье, сначала залпом, а потом неумолкаемою дробью. Это задымили из ружей живые, двигавшиеся одна на другую стены. И с той, и с другой стороны поднимались кверху руки и вместе со всем телом опрокидывались назад, или падали ничком вперед, падали почти целыми колоннами, а другие, шагая через упавших, тотчас смыкались в такие же стены и шли вперед. Французы, видимо, давили наших – вот они уже, опрокидывая наши колонны, взбираются к самым редутам…
Дрогнуло сердце у Дуровой. Рука, невольно схватившаяся за саблю, дрожала… «Воронцов был прав, – колотилось у нее в сердце – на его редуты смерть идет…»
– В атаку! С места марш-марш! – грянул чей-то голос.
И Дурова пришла в себя только тогда, когда увидела, что вместе со своими уланами, с гусарами Давыдова и новороссийскими драгунами она врезалась в неприятельские ряды и саблей била по направленным на нее штыкам.
– Маршал Даву упал! – закричал кто-то у нее с боку. – Убит!
Там, со стороны французов, в толпе, которая, видимо, расстроилась, среди криков, стонов и лязга сабель, послышался какой-то стон испуга. Французы дрогнули, Багратионовы флеши были удержаны.
Почти не сознавая ничего, что вокруг делается, Дурова, так сказать, огляделась только тогда, когда эскадрон их снова занял прежнюю позицию на возвышении. Из отрывочных фраз солдат и офицеров, из слов команды и из самого положения позиции она поняла, что атака французов на флеши была отбита, хотя с огромным уроном с нашей стороны, что под маршалом Даву убита лошадь и сам он упал, должно быть, убитый, что видели, как упало еще несколько французских генералов; а что там, на правом крыле, дело плохо: французы опрокинули наших через речку и заняли Бородино… Дуровой почему-то при этом страшном известии вспомнился тот серенький котенок, который вчера терся на руках у Давыдова… Вместе с тем она как бы в тумане видела, что та свободная ложбина, которая отделяла русские войска от французских, уже несвободна: вся ложбина была чем-то застлана, чем-то черным и серым с красным; в иных местах лежали целые кучи, а меж ними беспорядочно двигались люди… То валялись убитые и раненые, люди и лошади, а меж ними двигались люди с носилками, подбирая некоторых, а остальных бросая в ложбине. Так как команда из-за ложбины и с наших редутов умолкла, то слышалось что-то еще более страшное: стоны и крики раненых не только людей, но и лошадей… Все это и виделось и слышалось тут, точно в полусне… По всем направлениям скакали офицеры – это летели вести и приказы во все концы, просились подкрепления, отыскивались разрозненные части, собирались беглые сведения об уроне.
А между тем Дурова видела, что из-за тыла их эскадрона и с боков, с задних линий, подвигались новые силы к передним линиям, и новые массы орудий втаскивались на возвышения. Иные пушки солдаты тащили на себе, падали, снова поднимались и тащили. Из зарядных ящиков образовался целый табор.
По рядам снова прошли командные крики. Снова задымились окраины ложбины; но эти окраины так сблизились одна с другой, что видны были лица французских артиллеристов, пока эти лица не заволоклись дымом. Скоро дымные окраины превратились в огненные линии. Снова из-за огня артиллерии вынеслись страшные живые стены и после убийственных залпов со штыками наперевес пошли вторично в атаку. Первые наши ряды, защищавшие багратионовские флеши, были быстро сломлены и смяты. Все смешалось и дрогнуло по сю сторону редутов; натиск нападения оказался слишком стремительным, и французы ворвались в левую флешь. Дурова, которой эскадрон стоял теперь во второй линии, видела несколько минут, как на левой флеши сверкали палаши наших гренадер, но скоро гренадеры все полегли. Несколько минут еще слышен был на правом редуте металлический голос Воронцова (она опять узнала его издали); но скоро и его, бледного, окровавленного, покрытого разорванным и окровавленным знаменем, пронесли на носилках мимо улан не свои гренадеры, а чужие: его дивизия вся полегла на месте – Багратионовы флеши были в руках французов.
Дурова оглянулась на своих улан. Лица – сосредоточенно-бледные, большею частью пепельные; казалось, у каждого зубы стиснуты, как от нестерпимой боли. И Дурова стиснула зубы, потому что чувствовала, как ходуном ходила ее нижняя челюсть – ее била лихорадка.
Со второй и третьей линий опять надвигалась пехота. Это Багратион, пораженный потерею своих редутов, послал в дело свежие войска. Пехота шла в ногу, под задорную, но строгую дробь барабанов. И лица солдат смотрели строго: казалось, они идут в церкви прикладываться ко кресту или к чудотворной иконе – вчера они так подходили к образу Смоленской Богородицы. Все ближе и ближе подходят к редутам, над которыми они же вчера мозолили руки, укрепляя их и обводя окопами: и сегодня эти редуты не их уже, а французские: вон из-за дыма поблескивают наполеоновские орлы на древках, точно собираются лететь на новую добычу.
Редуты брызнули огнем и загремели; между редутами – тот же брызжущий тонкими полосками огонь; но пехота, падая и смыкаясь снова, продолжает выбивать так на своей собственной могиле: ложатся целые ряды этих серых, строгих лиц, но колонны, уменьшаясь в числе, все двигаются вперед. И с той стороны прибывают свежие силы. Впереди конных егерей, несущихся на нашу пехоту, Дурова явственно различает картинную фигуру Мюрата, которого она видела еще в Тильзите.
Но скоро все смешалось – пехота, егеря, кирасиры, драгуны, уланы… Когда эскадрон Дуровой, заскакав с боку пехоты за правый редут, вместе с кирасирами и драгунами опрокинул Мюратовых егерей и когда они поворотили влево, Дурова увидела, что на флешах вместо французских орлов опять треплется в дымном воздухе наше тяжелое знамя и блестят знакомые кирасы: флеши были опять отбиты, но ненадолго. Наша пехота была почти вся перебита. Промежутки между редутами были завалены трупами. Хотя к Багратиону подходили новые, не бывшие в деле дивизии, хотя редуты были в наших руках, и свежие полки, словно подвижные щиты или шанцы, по выражению очевидца француза, сверкая сталью и пламенем, атакуемые конницею, опять заполняли собою утерянное их мертвыми товарищами пространство у редутов, – однако брызнувшая из сотен огненных глоток картечь уложила и эти полки почти все на месте. Уланы Дуровой понеслись по трупам навстречу французской кавалерии, топтавшей остатки нашей пехоты; но их также встретил чугунный дождь. Дурова инстинктивно закрыла глаза, как человек закрывает их при порыве ветра с пылью; только тут вместо пыли в воздухе визжала картечь. Когда она открыла глаза, многие уланы и лошади бились уже на земле. Под иным раненый конь дыбился и бился на месте; иного унесло вперед; там всадник, откинувшись на седле назад и расставив широко руки как бы для объятий, несколько мгновений мчался через трупы и сам падал на них; иной, уткнувшись лицом в гриву коня, опустив руки, как плети, видимо, умирал на седле; третий, завязнув ногой в стремени, волокся за лошадью и колотился головою о головы мертвых товарищей, о ружейные приклады, о трупы лошадей.
А канонада с обеих сторон уже превратилась в какой-то сплошной гул и рев, от которого дрожали и земля и небо. Ни команды, ни криков, ни стонов уже не слыхать. В двух-трех шагах от себя Дурова увидела проехавшего Багратиона, который отдавал ехавшему с ним рядом адъютанту приказания и, по-видимому, кричал громко, хотя хрипло; но Дурова, за ревом орудий, не могла расслышать его слова: она только видела его насупившееся и вспотевшее лицо и закушенные губы, из-за которых вылетали отрывочные, как бы бранчливые фразы…
Но вдруг он пошатнулся на седле, быстро поднял левую руку, словно боясь потерять равновесие, и упал грудью на гриву лошади. Адъютант и Коновницын, бывший тут же, бросились поддержать его. Он приподнял голову, что-то, по-видимому, сказал и опять уткнулся носом в гриву. Около него тотчас столпились, сняли его с седла, и четыре гренадера понесли его на руках, как носят убитых…
Унесли Багратиона. Он уже не видел, как его флеши, за удержание которых он заплатил жизнью, оглашаясь криками атакующих, беспрерывно дымясь и сверкая огнем, заваленные трупами, подбитыми и опрокинутыми пушками, ружьями с изломанными штыками и прикладами, переходя из рук в руки, то от нас к французам, то от французов к нам, буквально залитые кровью сверху и подтопленные снизу, – наконец, к полудню, окончательно остались за французами.
Русские были отброшены к Семеновскому, за овраг, где накануне ночью Дурова слышала копошившихся и звеневших манерками солдат, и расположились на высотах по обеим сторонам селения.
День прошел только наполовину, а часть поля была уже проиграна русскими, и не только проиграна, но укрыта трупами лучших частей армии, цветом молодежи, еще вчера так усердно молившейся чудотворной иконе и сегодня утром встречавшей солнце с тою же мольбою о спасении. Нет, ничто не спасло. Вон лежат по равнине и около редутов по всему скату до оврага распластанные тела – кто запрокинув голову и уставив остекленевшие глаза к этому солнцу, которое, словно безмолвные укоры, бросает на мертвые лица свои негреющие лучи; кто, уткнувшись носом в кровавую землю и расставив руки, как бы целует эту безжалостную мать-сыру землю; кто раскинулся поперек трупа своего врага, а кого и не распознаешь – человек ли это, или что-то ужасное…
Но французы не думали кончать дела; им было мало того, что они сделали. Им надо было отнять у нас и Семеновское, как они отняли Бородино. Они выдвинули теперь свои ужасные батареи к самому семеновскому оврагу, за которым опять густыми колоннами выстроилась наша пехота, та, которая уцелела, и та, которая подошла вновь. Опять застонала земля от орудийных залпов. Клубы дыма вместе с огнем, ядрами и картечью неслись через овраг. Чугун опять рвал свежепостроенные ряды пехоты. Жертвы валились, как трава под ветром, и вдруг среди этого ада с обеих сторон, с боков, обрушились на нас массы кавалерии Мюрата, которая обошла русскую армию и выше, и ниже Семеновского. Наполеоновские железные кирасиры – hommes de fer – обошли наши войска даже с тылу – и гибель русской армии казалась неизбежною. Сдавленные словно клещами, справа, слева, сзади, обсыпаемые картечью в лицо, уже давимые по краям копытами железных всадников, громимые ружьями с седел, рассекаемые палашами, пробиваемые копьями – русские искали последнего спасения в сомкнутых каре, среди которых, как за живыми крепостными стенами, укрылись генералы. Ощетинясь штыками, русские целыми каре сыпали в неприятеля, давившего их, градом пуль, а потом с разряженными ружьями ходили в штыки на кавалерию, пробивая грудь коней, сшибая прикладами с седел всадников, добивая их чем попало…
Но все-таки и Семеновское было потеряно нами. В то же самое время и редут Раевского пал, как пали Багратионовы флеши. Все было потеряно – и поле битвы, и укрепления, и села, и армия, бывшая в деле, – все!
Где же в это время был Кутузов? Что делал маститый главнокомандующий, когда у нас все погибало?
А вон он. Ровно за четыре версты от главного поля битвы, у сельца Татаринова, на выезде, старик сидит на солнышке и, пригретый его плохо греющими старую кровь лучами, кушает, обгладывая легонько куриное крылышко. Высокий лоб его с лысиной светится над тучным, нагнувшимся над тарелкой лицом, покрасневшим от усилия – чище обглодать беззубым ртом жесткое крылышко. Жирный, пухлый, как у ребенка, подбородок свесился на салфетку, обвязанную, тоже как у ребенка, вокруг его жирной шеи и прикрывающую его белый жилет и тучный живот.
В таком виде увидела его Дурова, когда, вся дрожащая, с перекосившимся от ужаса, отчаяния и боли лицом, она вместе с Каховским, в качестве его ординарца, прискакала к главнокомандующему, чтобы доложить ему об отчаянном положении дел на обоих крылах армии и в центре, и просить последних, оставшихся в резерве подкреплений. Едва дыша, она осадила шатающуюся лошадь и, шатаясь сама, чуть не падая, стала на землю, которая и здесь, казалось, все еще дрожала. Она увидела около Кутузова много других генералов и адъютантов, тоже прискакавших с поля и докладывавших о своем поражении. Тут же, по обеим сторонам главнокомандующего, сидевшего на деревянной скамье у деревянного, покрытого скатертцою столика, и позади его толпились целые кучи штабной знати – все в новеньких, с иголочки, мундирах, с блестящими украшениями, не тронутыми ни пылью, ни кровью, все эти маменькины и батенькины сынки, срывавшие, не шевеля ни мозгами, ни пальцем, ордена и розы жизни, когда другие срывали ее шипы, раны, увечья и смерть, – все это беззаботно между собою шушукалось, переглядывалось, иногда над чем-то и над кем-то подсмеивалось. Стыд и злоба шевельнулись в сердце Дуровой, когда она сразу, сгоряча, вся охваченная острым ужасом только что ею пережитого вместе с прочими, увидала все это…
А Кутузов продолжал обсасывать крылышко, как бы стараясь не слушать того, о чем ему надоедали. Ведь тысячи раз он уже слышал это, и думал об этом, и давно видел все это – и в Турции, за Дунаем, и в Крыму, у Алушты, где ему глаз выстрелили, и под Аустерлицем – все это он давно знает и все это давно ему надоело, и думать ему обо всем этом противно…
Не вынимая изо рта куриной косточки, он поднял от тарелки насупившееся, досадливое как-то и лоснящееся лицо. Но лицо оказалось добрым, и единственный здоровый глаз старика светился не то теплотой и лаской, не то слезой. Вынув изо рта крылышко, он пожевал сальными губами, обвел взором стоявших вокруг него, как бы с недоумением остановился на Дуровой, на ее бледном, запыленном, с засохшими на щеках грязными каплями пота лице, остановился как-то добро, участливо, с сожалением, моргнул, словно смахнул с ресницы слезу, и обратился к хмуро стоявшему в стороне молодому генералу. Дурова узнала Ермолова.
– Голубчик! Посмотри – нельзя ли там что сделать, чтоб ободрить войско, – сказал старик ласково, обращаясь к Ермолову, словно к ребенку.
У Дуровой от сердца отлегло. Если он, этот дедушка всей России, говорит так спокойно, значит – не все потеряно. В этот момент Дурова готова была бы броситься на шею старику и расцеловать его лоснящиеся щеки, лысину, руки.
Ермолов, не говоря ни слова, тотчас же сел на лошадь и поскакал, щуря глаза и окидывая с возвышения взором двигавшиеся в отдалении, по-видимому в полном беспорядке, полки, колонны, эскадроны, батареи, обозные ящики, больничные фургоны. Над всем полем стояли клубы пыли и целые облака дыма. Каховский и Дурова поскакали за Ермоловым.
Подъехав на недалекое расстояние к кургану, на котором был редут Раевского, он увидел там необыкновенное смятение – все бежало, падало и катилось вниз, поражаемое картечью французов, которые уже кишели по всему редуту и по кургану. Все казалось потерянным. Барклай-де-Толли, командир всей этой половины несчастной или первой армии, спешенный, покрытый пылью и кровью, с саблею в одной руке и какою-то тряпкою – обрывком знамени – в другой, сам карабкался на курган навстречу своим падающим и умирающим солдатам и сам, по-видимому, искал смерти. Он что-то бессвязно кричал и махал саблей. Тут же через курган и трупы упавших бешено неслась лошадь Кутайсова, вся в крови и с кровавым седлом, а самого Кутайсова уже не было.
Ермолов спокойным, но резким и твердым криком заворотил две уходившие куда-то конные роты и, приказав ближайшей, еще не подбитой, батарее открыть огонь по редуту, повел эти роты прямо на курган. К нему примкнули другие, третьи – и целою «толпою, в образе колонны», ринулись на неприятельские батареи и на самый редут. Началась буквальная резня – колка людей как баранов. И кололи же рассвирепевшие и немного оправившиеся драгуны и пехотинцы!.. «Коли и перекалывай проклятых!.. Так их! Так их!» – «Oh! Oh! pardon!» – «А! Пардону просишь! – Вот тебе!»
– Je suis roi de Naples![75]75
Я король Неаполя! (франц.).
[Закрыть] – кричит отчаянный голос. – Oh!
– Стой, братцы, не коли! Это король политанский! Мюрат это ихний! – слышит Дурова знакомый голос – это голос старого Пилипенка, который рядом с Грицком-сыном, недавним французом, уже поправившимся от раны, колол французов, как бывало они калывали когда-то в Малороссии кабанов на сало.
– О! Згода! Згода, Панове москали!..
– А! Згода, проклятый полячишка! Так вот же тебе – н-на!
Дурова, повернув коня, с ужасом ускакала из этого ада кромешного. Но и там были ужасы. Она наткнулась на полки принца Евгения Вюртенбергского[76]76
Евгений Вюртенбергский (1788–1857) – герцог, племянник императрицы Марии Федоровны, жены Павла I, генерал от инфантерии. В 1812 г. командовал дивизией, затем корпусом. Являлся автором «Записки» о Наполеоне и образе ведения войны против него.
[Закрыть], шедшего на подкрепление Ермолова. Полки невольно разомкнули строй, чтобы пропустить раненого или убитого – Дурова не разобрала; она одно разобрала, что на ружьях, через которые был перекинут плащ в виде носилок, солдаты несли – Ермолова!.. «Голубчик! – заныли в душе ее ласковые слова. – Голубчик – посмотри…» Она не в силах была смотреть на эту сцену и отвернулась. Но и там не лучше. К принцу Евгению подскакал красивый юноша с черными, блестящими глазами и осадил лошадь. «Ваше высочество требует к себе генерал Милорадович», – торопливо сказал юноша. «Где генерал?» – спросил принц, невольно останавливаясь. Юноша указал рукою, но не успел: рука улетела вместе с оторвавшим ее ядром. Кровь застыла в жилах Дуровой. Но юноша, у которого унесло руку, удержался на седле. Мало того – он поднял другую руку и показал куда ехать: «Туда! Спешите!» Но и принцу Евгению не на чем было спешить: под ним тотчас пала лошадь, пораженная ядром, и сам он упал навзничь.
В тот же момент Дурова почувствовала всем своим существом, как что-то невидимое ожгло ей ногу и срезало словно клубком несколько солдат в ближайшей колонне. Огонь прошел по телу, в глазах потемнело и все кругом как бы зашаталось… «Убита… ранена», – промелькнуло в мозгу. Картина боя стала еще смутнее. Она видела только, и долго, казалось, видела, как с тыла, из-за возвышений нахлынула конница, целые волны конницы, как они сшибались с другою конницею и пехотою, как падали кони и лошади, как гремели орудия со всех сторон. Казалось ей, что и она принимала участие в этой бешеной скачке, слышала крики, и особенно один крик поразил ее: «Пропало все!» Что пропало – она не понимала… Она видела только, что солнце было низко – не то оно всходило из-за дымных облаков, не то садилось… Утро это или вечер?..
Она окончательно опомнилась, когда ехала уже по дороге, чувствуя невыносимую боль в правой ноге, к которой, казалось, привешена была тяжелая гиря. Жажда палила внутренности. Кровавое солнце спускалось к дымящемуся взгорью. Рядом с ней ехал Пуд Пудыч, придерживая за повод ее лошадь. Дорога запружена была телегами, в которых стонали люди, пушками, зарядными ящиками, на которых тоже виднелись искаженные лица. Попадали носилки не то с мертвыми, не то с ранеными. Сзади все еще гудели орудия, а впереди виднелась деревенька. Навстречу ехали какие-то всадники и остановились у мостика, чтобы пропустить зарядный ящик и носилки, с брошенным на них, по-видимому, мертвым офицером, голова которого закинулась острым подбородком кверху и виднелись подошвы сапог, колотившиеся одна о другую. Переднего всадника узнала Дурова – это был Кутузов. За ним – его штаб. Какой-то всадник, держа руку под козырек, что-то говорил ему. Дурова расслышала только: «Неприятель овладел всеми важнейшими пунктами позиции… войска наши совершенно расстроены…»
– Как вы смеете, милостивый государь, говорить мне такие вещи! – вспылил на него Кутузов. – Ход сражения мне известен как нельзя лучше… Неприятель отражен на всех пунктах… Завтра погоним его из священной русской земли!
Старик говорил громко – он просто кричал, весь покраснев. Но Дурова уже не верила ему: она верила тому, что видела сама.
Скоро она очутилась у берега небольшой речки, в стороне от селения. Весь берег укрыт был палатками и просто навесами из парусины. Виднелись окровавленные столы, валялась на земле кровавая одежда, сновали люди. Весь берег и пространство у навесов были заняты ранеными и мертвыми, которых не успели еще убрать. Это был перевязочный пункт. В некоторых местах слышны были отчаянные крики или слабые стоны. К Дуровой подошел солдат в окровавленном фартуке и помог ей сойти с коня. Она чувствовала ужасную боль в ноге, но ступать на нее могла слегка: нога не была перебита.
Солдат в фартуке повел ее к ближайшему навесу, где на невысоком деревянном столе она увидела чьи-то голые белые ноги, а над ними нагнувшуюся седую голову…
Но что она увидела рядом с этим столом, на земле! На разостланной бурке лежал казак – она узнала это по красным лампасам, но лица, которое было слишком запрокинуто назад, она сначала не узнала. Что-то, казалось, ножом резануло ее по сердцу. Она рванулась вперед, к этому запрокинувшемуся лицу казака. Другой казак, стоя около него на коленях, отводил ото лба лежавшего пряди черных волос и старался закрыть его мертвые глаза непослушными веками…
В бледном, застывшем, калмыковатом лице Дурова узнала Грекова…









































