Читать книгу "Двенадцатый год"
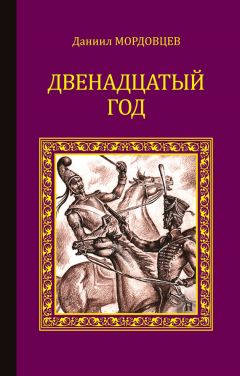
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
9
Хотя Карамзину в это время было с небольшим сорок лет, но он казался много старше своего возраста. Усиленные литературные занятия в течение более двадцати лет, беспокойное, утомительное и трудное дело по изданию «Вестника Европы», в то время когда журнальное дело у нас было еще так мало налажено и когда, кроме литературного, исключительно художественного и ученого элемента, Карамзину приходилось вводить в литературу элемент политический; наконец, лихорадочная работа над «Историей российского государства», работа, поглотавшая всего его, все силы его духа, мысли и фантазии, работа трижды египетская, когда не существовало еще никаких изданий старинных памятников, которых после смерти Карамзина изданы по наше время и правительственными, и частными усилиями буквально целые горы, и когда эти горы приходилось раскапывать в архивах, в пыли веков и среди могильной затхлости, и из целых гор выкапывать две-три исторических жемчужины – факта, когда не существовало ни описей библиотек, ни каталогов и когда, чтобы добыть и проверить то или другое историческое свидетельство, нужно было буквально открывать новый мир архивный и слепнуть и задыхаться в архивных склепах, все это не могло не отразиться на всем его существе, не могло не лечь преждевременными складками и тонкими, но неизгладимыми морщинками на его молодом, открытом и ясном лице, не могло не унести в архивный мрак и часть огня его глаз, и некоторую долю его живости, веселости, общительности. Чаще и чаще воображение автора «Писем русского путешественника» и «Бедной Лизы» отрешалось от действительности, от живой жизни, от светлого солнца, от живой зелени, от живых людей и уходило в могильную тишину исторического прошлого, к мертвым бумагам, к мертвым, давно забытым интересам, к мертвым, истлевшим, всеми забытым людям с их, как и они сами, истлевшими интересами, желаниями, горями и радостями. Вместо Наполеона в его душу стучался какой-нибудь неразгаданный «Якун слепой», вместо «Бедной Лизы» – гордая Рогнеда или истлевший череп с неистлевшею золотою косою Верхуславы, вместо Державина пел его слуху «Бонн вещий»… В концертах, на музыке он слышал, как чьи-то мертвые, костлявые персты из-за могилы на «живых струнах рокотаху»… В блестящих кавалергардах он видел «курян, конец копия вскормленных»… Устали глаза, устала память, устало воображение, а впереди еще так много работы – целые пирамиды бумаги, архивных дел, свитков… Можно высохнуть от этого, зачерстветь, душу превратить в пергамент…
– Вы совсем отреклись от мира, почтеннейший Николай Михайлович, с тех пор как «постриглись в историки», и вас нигде не видать, – сказал Сперанский после первых приветствий, когда пришедшие уже уселись на скамейку.
Карамзин улыбнулся, но ничего не отвечал.
– Да что от мира, ваше превосходительство! Наш почтенный историограф скоро, сдается мне, и от пищи совсем откажется, – весело сказал его спутник. – Сегодня, в этакую-то дивную погоду, я нашел его в академическом архиве, где, кроме него и архивного кота, ни души не было… Да он, кажется, только с котом и может теперь объясняться, совсем разучился говорить с людьми… Прихожу сегодня я в этот склеп могильный, в архив, и вижу – Николай Михайлович ползает по полу и распускает какой-то ужасный свиток, на котором написаны разные неизобразимые каракули, и вижу – человек совсем помешался: глаза горят от восторга, а сам-то что-то бормочет… А на другом конце сидит маститый академик Васька, кот архивный, и тоже лицо его сияет восторгом: он тоже, кажется, сделал ученое открытие в подполье – целую семью молодых мышат…
Все рассмеялись, не исключая старика Державина и девочек. Соня даже в ладоши захлопала.
– Ах, Лиза, молодые мышата!
Этот веселый собеседник был Тургенев, Александр Иванович[19]19
Тургенев Александр Иванович (1785–1846) – служил в министерстве юстиции, принимал участие в комиссии по составлению законов. Сопровождал Александра I за границу. Помощник статс-секретаря в Государственном совете.
[Закрыть], еще довольно молодой человек, но уже выдвигавшийся из толпы петербургской знати благодаря своим блестящим способностям и познаниям. Обращение его было мягкое, разговор легкий и игривый, а изящные манеры и костюм изобличали, что он не был скучен и в обществе хорошеньких женщин, и как находчив был по службе, в деле, в ученом разговоре, так не менее находчив и в салонной болтовне.
– А! говорю, здравствуйте, Николай Михайлович! Здравствуйте, Василий Васильевич!
– Кто ж этот Василий Васильевич? – спросил Державин.
– Да Миофагов, выше высокопревосходительство.
– Какой Миофагов? Я не знаю такого.
– Да новейший подпольный историограф и академик, архивный кот Василий Васильевич Миофагов… Под этой фамилией ему ж суточные рационы отпускают по службе в академическом архиве.
Девочкам это очень понравилось.
– Слышишь, Лиза, в академии есть академик Васька-кот… Назовем и мы своего Ваську академиком Миофаговым.
– Нет, Соня, нашему Васе надо дать другую фамилию. Ведь наш Вася еще не академик…
– Так будет, он умный.
– Как же вам удалось вытащить из архива добрейшего Николая Михайловича? – спросил Сперанский.
– Да совершенно неожиданно… Знаете, говорю, какое тяжелое впечатление произвело на всех известие о поражении наших войск под Фридландом? А он мне на это: «Да, это, – говорит, – печально, только меня, признаюсь, больше печалит, что нет другого списка „Слова о полку Игореве“».
– Ну, уж вы сочиняете, – кротко возразил Карамзин, – я совсем не так выразился…
– Помилуйте! А не вы ли, когда я заговорил о свидании государя с Наполеоном в Тильзите, не вы ли сказали: «Меня, – говорит, – теперь больше занимает свидание Святослава с Цимисхием…» А?
Опять все засмеялись.
– Видите? Совсем от миру отведенным человеком стал… Вижу, что чем-то он доволен, весело гладит Ваську, и говорю: чему это вы радуетесь? Что открыли в этой могиле? «Якуна слепого» какого-то, говорит, нашел, да еще и с «златотканной лудой», и не понимаю, что это за «златотканная луда», да и того не могу, говорит, понять, как это «слепой Якун» мог предводительствовать войском… А я и говорю: «Пойдемте, – говорю, – к адмиралу Шишкову, он насчет этого старья собаку съел… Может, он, – говорю, – сам жил при „Якуне“ и видывал его… ну, и вытащил из архива».
– В самом деле, – серьезно сказал Карамзин, ни к кому не обращаясь, – меня смущает это место летописей наших: как «слепой Якун» мог начальствовать войском, а главное – лично участвовать в битве?
– А как же у чешских таборитов был предводителем слепой Жижка[20]20
Жижка Ян (1360–1424) – вождь чешских повстанцев-таборитов, участник битвы при Грюнвальде.
[Закрыть]? – возразил Державин. – Он тоже лично участвовал в битвах.
– Так-то так, да все это меня не успокаивает, – спокойно говорил Карамзин. – Может быть, впоследствии историки и откроют, что Якун был не слепой, – заметил Сперанский.
– Да, может быть.
– Область знания бесконечна… Бесконечно пространство и время, это так… но и пытливость духа человеческого также бесконечна… Теперь вы в недоумении от «слепоты Якуна», а может быть, лет через пятьдесят найдут наши дети и внуки, что он был вовсе не слепой, – найдут, быть может, и то, кто такие были эти варяги… Вон теперь мы долго ждали сведений о свидании государя с Наполеоном, а через пятьдесят лет, через сто, может быть, за тысячи верст можно будет слушать, что говорят отсутствующие… Могущество мысли человеческой безгранично, – задумчиво говорил Сперанский, гладя головку Лизы, которая стояла тихо, прижавшись к его коленям.
Старик Державин заснул, пригретый солнышком. Седая голова его как-то беспомощно опустилась на грудь, и ветерок играл его седыми волосами. И это – «певец Фелицы»! Грустно… так могуществен ум человеческий и так бессильно его тело… Грустно, грустно!
– Это дочка ваша? – спросил Карамзин после общего раздумчивого молчания.
– Да, моя Лиза, названная так в память вашей «Бедной Лизы».
Карамзин грустно улыбнулся, любуясь обеими девочками. Он вспомнил, когда писалась эта «Бедная Лиза». Как давно это было!
– А сегодня моя Лиза совсем «Бедная Лиза», – шутя заметил Сперанский.
– Почему же? – спросил Карамзин.
– Огорчил ее один мальчик-озорник… попрекнул происхождением.
– Тем, что она произошла от Адама и Евы?
– Да, только от семинариста.
– А тот мальчик разве не от этой пары прародителей производит себя?
– Должно быть.
– У него папа был негр, – удачно пояснила Соня.
Всем это очень понравилось, но Сперанский погрозил ей пальцем.
– А как ваша работа подвигается? – обратился он к Карамзину.
– Медленно, Михайло Михайлович, – кропотливая эта работа… Каждое пустое известие надо подкрепить, цитатой подковать.
– Да, этих гвоздей у вас много, так и пестрят страницы цитатами.
– Да чуть ли эти гвозди не больше весят, чем самые сапоги, – иронически заметил Тургенев.
– Что ж, и правда, – отвечал Карамзин скромно.
– Но какой язык у вас богатый! – говорил Сперанский. – Вы положительно творец нашего литературного стиля.
Карамзин предостерегательно показал на спящего Державина.
– Ничего, – успокаивал его Сперанский. – Ведь он не прозаик – поэт.
– А какие вести из армии и от государя? – спросил Карамзин, видимо, желая переменить разговор.
– Да вести не совсем утешительные… Уже одно то ново, что русских бьют, чуть ли не первый раз с начала нашей истории… так кажется?
– Нет, бивали не раз и прежде, – заметил Карамзин.
– В древнее время, может быть?
– Нет, и в последние два века: и поляки бивали, и шведы.
– Да… Но теперь, говорят, что не так бьет Наполеон, как свои же…
– Неужели? Кто ж это?
– Казнокрады, интенданты да подрядчики… Ну и бездарные вожди.
– Да, с таким чадушком, как Наполеон, нелегко бороться.
– Пигмеям, – пояснил Сперанский.
– А государь что?
– Он, кажется, очарован новым цезарем после личного свиданья… Да и неудивительно – великий гений.
– Ох, сдается мне – плачущий крокодил, – заметил Карамзин.
– Да, но в слезах этих блестят перлы западной цивилизации, а не булыжник обскурантизма.
– Оно так, но цивилизация-то у него стоит на запятках, а не заместо кучера, – возражает Карамзин.
– Лучше, Николай Михайлович, если цивилизация даже на запятках, чем вместо кучера – капитан-исправник… Верьте мне, вы хорошо, лучше меня знаете русскую историю: когда-нибудь нам придется поплатиться за этого капитана-исправника перед всей Европой… Только тогда Россия будет безопасна от нового крестового на нее похода Европы, когда примет и усвоит себе формы жизни, которые рекомендует всему миру наука… Я скажу вам: не noblesse oblige, a civilisation oblige[21]21
Не положение обязывает, а цивилизация обязывает (франц.).
[Закрыть]…
Сперанский говорил горячо, хотя тихо и ровно. Спокойное лицо его оживилось, глаза сделались добрее и красивее. Он много думал над тем, что говорил.
– России многого недостает, – продолжал он, – да, по правде сказать, она еще и не начинала идти этой обязательной для всего человечества дорогой… Даже и Петр на этом пути ничего не сделал, он больше думал о себе.
– Какой же это путь? – спросил Карамзин.
– Кажется, на этом пути с помощью Лагарпа[22]22
Лагарп Фредерик Цезарь (1754–1838) – швейцарский генерал, государственный деятель. В 1783 г. был приглашен Екатериной II в Петербург в качество воспитателя и наставника вел. князей Александра и Константина. Он сумел привить будущему царю свободолюбивые взгляды, что сказалось на либеральных проектах Александра I, особенно в начальный период его правления.
[Закрыть] и Сперанского Александр – хотел попробовать сделать первый шаг, – сказал как бы про себя Тургенев, глядя на взморье.
– Нет, – возразил спокойно Сперанский, – я только мечтаю об этом со своею подушкою… с Иеремию Бентамом[23]23
Бентам Иеремия (1748–1832) – английский публицист и философ, идеи которого получили распространение во Франции и России. В России они нашли почитателей среди наиболее влиятельных людей того времени, таки, как Кочубей, Сперанский, Чарторыйский.
[Закрыть]…
– Это тот, что вы издали?
– Да. Бентам ищет такую форму человеческих отношений, которые дала бы «величайшее возможное счастье для величайшего возможного числа людей». А я мечтаю о немножко большем, чем это…
– Ах, папочка! Ты точно стихи говоришь! – наивно воскликнула Лиза.
– Да, стихи, моя дурочка! Это – поэзия директора департамента.
– Какие стихи? Кто стихи сочинил? – очнулся старик Державин. – Директор департамента?
Одно слово «стихи» будило старого поэта, как труба боевого коня.
– Да вы же сегодня декламировали мне вашу новую оду, – спокойно отвечал Сперанский.
– Да, но я вам конец не сказал… А конец этот пророческий…
– Что ж пророчит ваша ода, ваше высокопревосходительство? – любезно, но с открытой иронией спросил Тургенев, придвигаясь к старику. – Надеюсь, мой вопрос не нескромен.
– О нет! – отвечал старик, довольный, что его сажали на его коня. – Я думал так окончить свою оду:
Падет Европа на колени
Пред тем, борьбу кто прекратит
И ток прольет в ней дней блаженных.
Се уж его орел парит!
– Прекрасно! Великолепно! Сейчас чуешь орлиный полет «Певца Фелицы», – заговорил Тургенев опять-таки не без скрытой иронии. – Но вот что скверно, ваше высокопревосходительство: галльский-то петух шибко поклевал, сказывают, нашего орла…
– А орел после совсем заклюет петуха! – горячился старик.
– Ну, это конечно… А что касается Европы, то сначала, когда наш орел заклюет петуха, это точно, она падет перед орлом на колени, а как оклемает маленько, то и закричит на него: «кш-кш!»
– Как это, государь мой?
– Да коленкой нас.
– Нет, государь мой, этому не бывать.
Старик волновался. Частое повторение «государь мой» – явный признак этого волнения.
– Не спорю, не спорю, ваше высокопревосходительство, – оправдывался Тургенев, очень хорошо знавший упрямство самолюбивого старика. – Что касается наших воинов, то они готовы в супе съесть галльского петуха. Я получил сегодня из Тильзита письмо… знаете от кого? – обратился он к Карамзину.
– Не знаю. От кого?
– От вашего… то бишь, от нашего земляка – симбирца. Ведь знаете, милостивые государи мои, кому Россия обязана Карамзиным? Изволите знать, государи мои?
– Что это вы нас сегодня все экзаменуете, Александр Иванович? – спросил Карамзин.
– Да, точно, экзаменую. Когда впоследствии на экзаменах будут вопрошать российское юношество: «Кому Россия обязана тем, что у нее оказался свой тацит – Карамзин?» – российское юношество должно будет ответствовать: «Россия сим обязана родителю Александра Ивановича Тургенева, бригадиру Ивану Петровичу Тургеневу, который в Симбирске открыл Карамзина, как Колумб открыл Америку, и вытащил его из захолустья в Москву, где юный симбирский дворянин, будущий творец „Бедной Лизы“ и будущий, а ныне налицо сущий историограф и проявил свой гений». Правда это? – обратился он к Карамзину.
– Правда, – отвечал тот. – Вашему батюшке я обязан тем, что я не заглох в провинции в качестве степняка и любителя псовой охоты.
– Помните это, дети, – комично обратился Тургенев к девочкам.
– Я не забуду, что дядю Карамзина открыл в Симбирске ваш папа, – серьезно сказала Лиза.
– И я не забуду, – повторила за ней Соня, – Америку открыл Колумб, а дядю Карамзина ваш папа… А дедушка Державина кто открыл? – наивно спросила она.
Все засмеялись, но Державин торжественно прибавил:
– Меня открыла великая Екатерина!
– Да, это счастливое открытие действительно принадлежит гению Екатерины, – сказал Карамзин.
– А тебя, папа, кто открыл? – неожиданно спросила Лиза отца.
Это было выше всякого ожидания. Даже старик Державин не выдержал:
– Ах, умница! Ах, крошечка! – говорил он, кашляя. – Иди, я тебя расцелую… Твоего папу открыл сам император Александр Павлович… Он нашел сие жемчужное зерно…
– В куче навоза… в семинарии, – пояснил Сперанский.
– Так кто же этот наш земляк и что он вам пишет из Тильзита? – обратился Карамзин к Тургеневу.
– Это Давыдов Денис Васильевич, адъютант Багратиона, сызранец… Между прочим, он пишет (и Тургенев достал из кармана письмо): «Если Наполеону и удалось обворожить государя, то офицерам французским обворожить нас не удастся, как они ни стараются делать нам глазки, точно барышням: мы остаемся медведями. По тайному наказу Наполеона они хотят нас, видимо, влюбить в себя всякими приветливостями и вежливостями, и мы им отвечаем тем же: но дальше этого – ни-ни! Подобно деревенским девкам: „языком болтай, а рукам волю не давай“. И мы, и они, все мы чувствуем, что меж нами уже встал дорогой труп, который говорит: „Я жду венка на мой гроб: а венок сей: штык в крови по дуло, нож в крови по локоть“».
– О! это ужасно! – невольно вырвалось у Сперанского.
– А вот тут он приписывает: «Общее возбуждение таково, что нам даже от детей нет отбою – все просятся в войско: своим примером Наполеон заразил весь мир. Ходит даже слух, что во всех наших последних кровавых битвах принимала участие – кто бы вы думали? Кто бросался в огненные свечи? – девочка!..»
– Девочка! – с восторгом воскликнули в один голос Лиза и Соня.
– Да, мадам, девочка – вот такая, как вы, с такими же глазами, и стреляла этими глазками, и убивала наповал…
– Ах, Лиза, пойдем и мы.
– Пойдем, только с папой и мамой.
– Вот это умно! – засмеялся Тургенев.
– Имени этой девушки не называют? – спросил заинтересованный Карамзин.
– Нет, хотя догадываются.
– Вот находка для будущего историка – российская Иоанна д’Арк, – сказал Карамзин.
– Какое Иоанна! Просто Анюта или Лиза, – засмеялся Тургенев.
– А может быть, Соня, – вступилась эта последняя за свое имя.
– Ну, будь по-вашему! Она – Лиза-Соня, как Петры-Павлы. Только Давыдов пишет немало интересного и насчет наших солдатиков – это настоящие герои! «При осмотре наших войск, – пишет он вот тут дальше, – Наполеон пожелал видеть храбрейшего из наших богатырей. Вызывают первого по ранжиру – Лазарева: детина ражий, рослый, плечи в косую сажень, на груди хоть горох молоти, а рыло доброе, младенческое, и в глазах детская доброта и ясность. Наполеон даже отступил в удивлении: „О! C’est un Mars!“[24]24
Это Марс! (франц.).
[Закрыть] – невольно воскликнул он, не веря, что с такими детски добрыми глазами этот великан пронизывал ветеранов его старой гвардии штыком по дуло. А Лазарев стоит, руки по швам, и то на Наполеона посмотрит с удивлением, сверху, словно с горы на ребенка – Наполеон ему чуть не по пояс, – то с любовью и благоговением покосится на государя, у которого на лице все время играла ангельская, радостная улыбка. Наполеон снимает с себя крест Почетного легиона и собственноручно (увы! Привстав на цыпочки…) вешает его на грудь великану, который при этом нагибается к великому Бонапарту, словно девочка к кукле…»
И Лиза и Соня при этом даже в ладоши захлопали от радости.
– Но слушайте! Слушайте! – продолжал Тургенев: «А великан и говорит: „А Заступенке, ваше превосходительство?“ (Наполеона он не хочет, как видно, признавать императором – не говорит: „ваше величество“, а просто – „ваше превосходительство“). „Заступенок, – говорит, – ваше превосходительство, что ж? Он храбрее меня“. – Наполеон не понимает. – „Какому Заступенке?“ – с удивлением спрашивает государь. – „Однокашнику моему, ваше императорское величество, – Охремий Заступенко; локоть в локоть стоим завсегда и деремся локоть в локоть: коли я не заколол француза, он заколет; коли он не доколол, я доколю…“ Император милостиво смеется невинности этого наивного младенца и говорит, чтоб он не беспокоился о своем друге, что и его не обойдет царская награда…»
– Да, это истинное геройство, – задумчиво говорит Карамзин.
– Больше, чем геройство, Николай Михайлович: это – высочайшая человечность, – замечает Сперанский. – Она только и живет в младенце-народе.
– Давыдов еще выше это понимает. Он пишет, что, узнав русского солдата, он находит, что на него «молиться надо»: «Это боги, говорит, а не люди», – прибавил Тургенев.
– И этих богов мы истребляем безжалостно! – с горечью заметил Сперанский, которому вспомнилось при этом свое собственное детство, беганье босиком среди того самого народа, из которого вышли эти боги… И все они остаются бедными, жалкими, беспомощными, – а вот он, попович, звонарское семя, отбившийся от народа, он, поросль от племени Левита, стоит уже на миллионах этих божественных голов… высоко, высоко стоит, так что и не видать ему этого народа, не видать серой массы с серыми лицами… Ах, если б эти младенческие головы, эта брызги серого моря народного не пропадали… А они пропадают на чужих полях, далеко от родной сохи…
А под чтение письма и тихий разговор старик Державин мирно всхрапывает.
– «Потом, – продолжает читать Тургенев, – дан был общий обед батальону старой французской армии и батальону наших преображенцев. И вообразите: сидят сии дети-великаны за столами вперемежку с французскими усачами-гренадерами, кушают с серебряной посуды, дружески чокаются стаканами, не понимая друг дружку, меняются своими шапками – то наш богатырь наденет на французского усача свой кивер, то француз-усач наденет на нашего великана свою меховую шайку. А дале уж и обнимаются, и целуются – друзья закадычные стали. А дальше… и под стол валились, обнявшись, да так друг на дружке и засыпали, словно на поле битвы, мертвые, в объятиях друг у друга…»
– Это ужасно, ужасно! – шепчет Сперанский. – И этакие люди погибают!
А Державин продолжает тихо похрапывать… Грезятся старику его молодые годы, его ясные оченьки, русые кудерюшки, резвы ноженьки… А теперь эти ноженьки едва бродят и все зябнут… Вон и теперь, на летнем солнышке, он дремлет в теплых бархатных сапогах, словно старая солопница… И грезится ему широкое поле, а на этом поле движутся массы народа, несут кресты, церковные хоругви, венки, перевитые цветами и лентами… И гробовую крышку несут, а на крышке огромный лавровый венок с надписью… Что это? «Певцу Фелицы!..» На подушках ордена несут, звезды… И поют так величественно, внушительно: «Воду прошед яко суше и египетского зла избежав…» Кто же в гробу лежит?.. Да это он сам, только с мертвым ликом – это Державин-поэт… А над полем неумолчно звучит какой-то неведомый голос, покрывающий погребальную канту хора:
О ты, пространством бесконечный
Живый в движеньи вещества…
А другой голос еще громче, громче трубы архистратига, кто ее слышал, возглашает:
Ты бог, ты царь, ты раб, ты червь!
Старик вздрогнул и проснулся.









































