Читать книгу "Двенадцатый год"
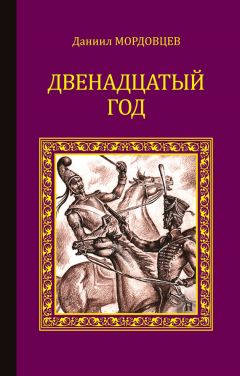
Автор книги: Даниил Мордовцев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Уу-уу! Сердит, больно сердит.
Скоро показалось и солнышко, словно омытое дождем. Вечер близился. В воздухе стояла живительная свежесть, дышалось так легко, широко, привольно.
Ямщик налаживал колесницу в путь, мазал оси, запрягал. Лошади весело фыркали, накормленные и освеженные.
– Ах, как хорошо теперь, – радостно вздохнула Ириша.
– Да, хорошо, потому что было худо, – философски отвечал бакалавр.
Двинулись. Лошади бежали ровно, бодро. Наступил совсем вечер, но летний, светлый, теплый.
Бакалавр, покачиваясь из стороны в сторону, подремывал. Ириша, высунувшись из кибитки, глядела на запад, где, по ее мнению, был Фридланд, а в Фридланде французский гошпиталь, а в гошпитале…
Ямщик затянул было:
Волга-матушка бурлива, говорят,
Под Самарою разбойнички шалят,
А в Саратове девицы хороши,
Хоро-шиши-шиши-шиши-шиши-ши…
Что в Саратове, слышь, девки хороши…
А потом снова перешел на свою любимую:
Ох, и что ты тра-что ты, тра-что ты, трааа-вынька…
Ты мура– ты мура– ты мура– ты мурааа-вынька…
Ох, и что-ох, и что-ох, и чтоооо… это за тра…
И Мерзляков, и Ириша крепко спали. Спал и ямщик, изредка во сне повторяя машинально: «Но-но! Боговы»… Спали и «боговы», только по привычке передвигая ногами…
3
Мерзляков проснулся первый. Он немало удивился тому, что проспал напролет целую ночь и очутился уже в виду Авдотьина. Утро было роскошное. Солнце, поднявшись из-за всхолмленного горизонта, лило свой красновато-золотистый свет на ярчайшую, какую он когда-либо видал, зелень; но еще не пекло, а только ласкало и согревало. Над небольшой извилистой речонкой, перепруженной плотиной, и над небольшим же лесным, поросшим с одной стороны лопухами и водяными лилиями озерцом подымался, точно сизый дымок, прозрачный туман, который тут же, на высоте аршина над поверхностью воды, и съедали солнечные лучи. По иловатому берегу озерца сновали и пищали маленькие длинноногие и длинноносые кулики. В воздухе было столько ласки, неги и обаяния, что бакалавр, которого когда-то пеленала и убаюкивала сама природа и который после втянулся в омут городской, бесприродной жизни, чувствовал, что его охватывает умиление, граничащее с желанием глупо, против всякой логики, но сладко и искренне захныкать. Он не мог допустить, чтобы и Ириша проспала такое чарующее утро. А она спала, сладко спала, скукожившись, свернувшись клубочком и уткнув нос в подушку, точь-в-точь как спал Наполеон в Тильзите.
– Ириней! Мухова кума тебя спрашивает, – говорил он, трогая девушку за плечо.
Ямщик, который тоже всю ночь прокунял на козлах, повернул к бакалавру свое беспрофильное лицо и добродушно ухмыльнулся шутливому барину.
– Но-но, боговы!
– Мухова кума спрашивает…
Ириша открыла глаза и сразу не могла понять, где она и что с ней…
– А, мухова кума… Ах, дядечка! Уж и утро…
– А вон и Авдотьино, – пояснил ямщик.
К озерцу от стоявшей на отшибе от села помещичьей усадьбы шли две человеческие фигуры, присматривавшиеся к нашим путникам. То были – старик, опиравшийся на палку, и совершенно белоголовый мальчик, несший корзинку.
– Знаете, дядя, кто это? – радостно сказала Ириша. – Это сам дедушка Новиков и Микитейка.
– Да, пожалуй что они; у тебя глаза лучше моих.
– Они, они, дядечка.
Дорога, по которой ехали путники, поворачивала с плотины к озерцу, и потому кибитка должна была встретиться с Новиковым и Микитейкой, шедшими к озеру особою тропинкою. Остановив кибитку, Мерзляков и Ириша вышли навстречу тому, к кому ехали в гости.
– Здравствуйте, дорогой учитель! – приветливо и почтительно сказал Мерзляков, снимая картуз.
– Здравствуйте, дедушка! – почти в один голос приветствовала Ириша.
– Здравствуйте, здравствуйте, други мои милые! – крепко обнимая бакалавра и Иришу, отвечал старик, к которому относились приветствия первых. – Спасибо, большое спасибо вам, что навестили анахорета, старого отшельника.
– «Авдотьинского отшельника», дедушка, – поправила Ириша, – у французов был «фернейский отшельник», а вы, дедушка, наш российский – «авдотьинский».
– Ах ты, козочка моя, ах ты, сладкая, – ты всегда сумеешь сказать старику нечто похвальное, лестное… Да только куда нам в российские лезть! – нас Россия не знает… Ну, авдотьинские мы – авдотьинскими и останемся, – улыбаясь, сказал старик.
– Не говорите этого, дорогой наставник, – ваше имя живет в сердцах россиян, и слава оного перейдет к отдаленнейшему потомству, – серьезно заметил Мерзляков.
Старик грустно махнул рукой…
Старик этот был – Новиков, одна из крупных личностей в новейшей истории русской земли, громадная деятельность которого в пользу поднятия русской мысли не имеет себе равной. Новиков действительно сделал для России почти столько же, сколько Вольтер для Европы, и его по справедливости Ириша могла назвать «авдотьинским отшельником» в сопоставлении «фернейскому». Ириша знала историю жизни «дедушки Новикова» отчасти из рассказов дяди, частью же из признаний самого старика, насколько он мог познакомить со своей жизнью шестнадцати-семнадцатилетнюю девочку.
Поздоровавшись с приезжими, Новиков велел ямщику ехать прямо к усадьбе, которая находилась недалеко от того места, где он встретил приезжих.
– А мы пойдем пешочком, – обратился он к гостям.
– Но мы вам, кажется, помешали, добрейший Николай Иванович, – сказал Мерзляков. – Вы куда-то шли.
– О, это я к своим нахлебникам и ученикам, – отвечал он с какою-то добродушной иронией в голосе.
При этом белоголовый мальчик, что нес за ним корзинку, улыбнулся во весь рот, наполненный белыми, словно из фарфора, зубами. Это был Микитейка, двенадцатилетний внук и помощник деда Зосима, пчелинца, и «правая рука Новикова», как выражался сам старик.
– К каким ученикам, дедушка? – спросила Ириша.
– Да вот, сладкая моя, они в этом озере живут, – с ласковой улыбкой отвечал старик.
– В воде?
– Да, мой друг, в воде.
– Что ж это, дедушка, рыбы?
– Рыбки, мой друг… Прежде, говорят, я был учителем и наставником людей, а теперь стал учителем зверей, птиц и рыб. Велика премудрость Божия!
Прежде я находил ум и честность в людях, теперь ищу того же и бессловесных тварях…
– И находите, дедушка?
– Нахожу, мой друг.
Во время этого разговора Мерзляков молчал, изредка взглядывая на старика. За внешней иронией речи он видел серьезную мысль.
Подойдя к берегу озера, Новиков и Микитейка с корзинкой взошли на маленький плот, сделанный из нескольких досок, как бы для полосканья белья.
Взглянув в воду, Микитейка засмеялся.
– Ты что? – спросил старик.
– Да уж он, Микалай Иваныч, здеся, – отвечал мальчик.
– Кто он?
– Да енарал.
– А! Здесь уже?
– Вот он – глыбко, у самова дна.
– Ну, твои глаза молоденькие – лучше видят, а я его не вижу.
Ириша, любопытство которой возбуждено было странным разговором до крайней степени, взглянула с плота в воду и в прозрачной глубине ее увидела большую, тонкую, с острою головой рыбу.
– Это щука?
– Щука, – пояснил Микитейка.
Мерзляков, видимо, ждал объяснения всему тому, что он видел.
– Вон и ученики, Микалай Иваныч, стали приходить… всда-вон, – радостно говорил Микитейка.
И Ириша, и Мерзляков ясно уже видели, что к плоту стала собираться рыба и выигрывать на поверхность озера: плотва, красноперы, окуни, гольцы – все это поблескивало на солнце своими серебристыми чешуйками и, видимо, теснилось к плоту.
– Вот мои ученички, – сказал добродушный старик, указывая на воду. – С прошлого года я их учу и уже кой-чему научил. Каждое утро я хожу сюда с кормом и бросаю его в воду. Рыба скоро поняла мои лекции и аккуратно в назначенный час является в мою аудиторию. Но что удивительно, так это то, что эти окуни да гольцы узнают меня в лицо, когда я прихожу в неурочный час на плот, они тоже выплывают и заглядывают на меня…
– А к деду, Микалай Иваныч, они нейдут, – неожиданно пояснил Микитейка.
– Нейдут, нейдут, а ко мне идут… Вот вы и посудите: у окуня ум, у гольца соображение, у плотвы, видите ли, тоже ум – она сильна в физиогномике…
– Ах, дедушка!.. (Ириша весело смеялась.)
Рыбы между тем показывали нетерпение, плескались как угорелые.
– А! Не терпится? Проголодались?
И старик, взяв из рук Микитейки корзинку, стал бросать в воду крошки хлеба, кашу, мух, тараканов. Рыбки наперехват ловили бросаемое, иногда старались отбить одна у другой лакомый кусок, перегнать друг дружку…
– А! Вот и ссорятся из-за куска… значит, голодны… а как сыты – не ссорятся, – говорил старик, стараясь равномерно оделить своих питомцев.
В это время рыбы шарахнулись в разные стороны, а иные даже выскочили со страху на плот: у плота показалась щука.
– А! Это он! Старик! Ах он, варвар! – говорил старик, покачивая головой… – А я заметил, что и рыбки стали у меня умней, осторожнее – не всегда даются разбойнику.
– Однако соловья баснями не кормят, – спохватился старик. – Рыб-то я накормил, а дорогих гостей морю с голоду… Вот что значит старость-то… Идемте же ко мне в палаты – добро пожаловать… А ты, Микитейка, мигом лети к деду и вели вырезать лучший соток медку из того улья, что сама барышня воспринимала от купели…
– Это, дедушка, у которого матка ночью плакала? – спросила Ириша.
– Да, сладкая моя.
Микитейка полетел стрелой на пчельник, расположенный по ту сторону озера, а Новиков и его гости направились к усадьбе.
4
Усадьба Новикова стояла при въезде в село Авдотьино, несколько на отшибе и в стороне от проезжей дороги. Это был обыкновенный средней руки помещичий дом – деревянный, одноэтажный с высокою сосновою, почерневшею от времени крышею и с широким крыльцом-балконом, обращенным к северу. Некоторые окна дома были закрыты ставнями, большая половина обширного двора поросла травой, через которую были протоптаны дорожки к кухне, к скотному и птичьему двору, к конюшне и леднику, находившимся под одною крышею. Двор представлял некоторую запустелость, запущенность, а когда-то, во времена детства Новикова, в половине XVIII столетия, на этом дворе и в этом обветшалом теперь доме бойким ключом била жизнь среднепоместного дворянина. Барство сказывалось когда-то здесь и в псарне, и в псарях, и в доезжачих, и в сворах собак. Дворовые девки кружева плели, Акульки да Малашки иногда наряжаемы были Венерами да Психеями.
А с тех пор как вырос молодой барин, Николинька, да поступил в гвардию, а потом, скинув с себя гвардейский мундир, зарылся там где-то в Петербурге или в Москве в грудах книг да старых бумаг – опустела как-то барская усадьба Новиковых и двор ее травою зарос… А там еще хуже пошло: приехал сам барин и обратил усадьбу в какой-то монастырь… Бумаги да книги, бумаги да книги – только и было всего добра… За то до мужиков, до своих – у-у! – как добер был барин Микалай Иваныч – пальцем никого не трогал… И жаль было мужичкам своего барина; все он смутный такой да невеселый, ни пиров у него, ни забав – все по-монастырскому.
Когда Новиков и его спутники пришли на двор, ямщик уже давно отпряг лошадей, поставил их в конюшню, засыпал им корму, а сам, усевшись с кучером Новикова на крылечке людской, рассказывал ему о французе-фараоне, о том, как француз-фараон из воды вышел, из самова Черного моря, и замиренье дал…
Так как Ириша пожелала остаться на балконе, то хозяин приказал кухарке полнотелой, с толстейшими руками бабе Сиклитинье, матери Микитейки, собрать самовар тут же, на воздухе, и на завтрак приготовить яичницу глазастую, которую очень любила Ириша, да зажарить грибков в сметане, до которых Мерзляков был большой охотник.
– А Микитейка каких грибков набрал – и-и Заступница! – пояснила словоохотливая Сиклитинья.
Новиков сел у стола, стоявшего на балконе-галерее, снял с себя картуз, расправил руками волосы и бороду в о чем-то как будто задумался.
– Какой вы хорошенький, дедушка, – сказала Ириша, подходя к нему, – точно апостол.
Старик с любовью взглянул на нее.
– Ах, ты, яичница глазастая!.. А глаза-то все больше у тебя делаются… А! Какова! Всегда дедушке какой-нибудь комплимент скажет, – говорил старик, любуясь девушкой.
– Да это не комплимент, дедушка, а правда.
– А вот и я тебе скажу правду, глазастая: ты очень похорошела и возмужала… И уж думаю, что этими буркалами ты, наверное, прострелила сердце какому-нибудь герою… А? Признайся – прободила еси?
Ириша вспыхнула. А старику почему-то вспомнился тот вечер, когда он, летом 1767 года, накануне отъезда из Петербурга в Москву, в качестве делопроизводителя в комиссии депутатов, прощался тоже с Иришей – только не с этой… а такие же глаза при черных волосах… Что за ночь то была в Царском, в саду!.. «Не забывай меня, милый-милый! Не забывай ни на момент!» – шепчут жаркие от поцелуев губы, а холодеющие руки так и замирают, обнимая и лаская… «Не забуду, жизнь моя! Рай мой! Не забуду и на краю могилы»… Да, правда, и край могилы уже виднеется, и вспомнилась та Ириша, вспомнилась при виде этой… Первое всегда остается первым и не вытравляется никакими вторыми и последними…
Но старик тотчас опять овладел собой.
– А вот я заболтался с вами, да и не спрошу досель: что нового у вас в Москве? Что новенького у вас в России? – сказал он, обращаясь к Мерзлякову.
– Да что новенького, почтеннейший Николай Иванович!.. О мире с Бонапартом вы, конечно, слышали уже?
– Слыхал – и радуюсь этому… Все же меньше крови будет пролито.
– Так и многие думают, но Москва недовольна.
– Ростопчин, конечно, – Сила Богатырев?
– Он первый, да он же и с голосом, а за ним и все «русские», не галломаны… А есть новость, лично вас касающаяся, Николай Иванович: вас подозревают в сношениях с французами.
– Я с разбойниками никогда не вступал в сношения, – брезгливо сказал старик. – А кто это считает меня способным надеть на себя дурацкий колпак?
Тут Новиков пустился в оценку «лиц и событий» и незаметно перешел к изложению своих философских взглядов на природу и человека.
– Но ведь согласитесь сами, Николай Иванович, что хищничество – общее явление в природе, – говорил Мерзляков.
– И воробей, дедушка, вор, – добавила Ириша.
– И всякое животное – вор и хищник, – пояснил Мерзляков.
– Нет, други мои, – задумчиво отвечал старик, – по вашему толкованию и сия лилия – вор: она ворует влагу из земли, она ворует тепло у солнца.
– Да, все это воровство, говоря в строгом смысле слова.
– А ваше дыхание, дети мои, воровство? – неожиданно спросил старик.
И Мерзляков, и Ириша сразу не могли ответить на последний вопрос.
– По вашему толкованию, – продолжал Новиков, – весь процесс жизни природы – повальное воровство, вся природа только и делает, что ворует: человек ворует зерно у земли, шерсть у овцы, шелк у червя, воздух у природы, воду у реки; овца ворует траву; трава – тоже воровка: она ворует влагу у земли. А сама земля – так уж всесветная воровка: она и людей ворует, и зверей, и растения, и свет, и тепло – все! Все! Нет, други мои, – в этом воровском мешке следует разобраться!..
В это время Сиклитинья поставила на стол шипящую сковороду с яичницей.
– У кого ты, Сиклитиньюшка, эти яйца украла? – с улыбкой спросил Новиков.
– Ах, батюшка барин! Что вы! Господь с вами! Это яйца наши – сама и курочек щупала, сама и яйца собирала из-под них! – затараторила Сиклитинья.
– А куры тебе позволили их яйца брать? – снова спросил старик.
– Ах, Заступница! Да что ж это такое! Куры – знамо куры: на то они и куры…
– Вот это – умный ответ! – заметил Мерзляков.
– Вестимо – на то оне куры, барин, чтоб яйца господам нести…
Новиков махнул рукой. Ириша хохотала. Сиклитинья с недоумением разводила руками.
– Вот всегда он такой, барин-от наш, – объясняла она барышне, – скажет такое, что и-и, Заступница!
– Точно и-и! – сам повторял старик, улыбаясь.
– А как же, барин? Всегда, бывало, говорите: «Поди, Сиклитиньюшка, украдь у коровы молочка, али-бо украдь у мужиков хлебца»… Наш-от, барский хлеб, а ты украдь! Что выдумают…
И Сиклитинья, махнув рукой – что не стоит-де на его чудные речи обращать внимания, что он-де завсегда чудит, а барин все-таки добрый, – побежала к кухне, как бы подзадоривая себя: «А уж каки грибки в сметане выдуть… и-и, Заступница!»
Яичница оказалась отличная. Ириша кушала прямо со сковороды, а бакалавр наложил себе полну тарелку.
– А ну, Ириней, украдь мне сольцы немножко, – сказал он, пробуя яичницу.
– Воруйте, дядечка, – отвечала Ириша, подвигая к нему солоницу.
– Смейтесь-смейтесь, други мои, – продолжал Новиков, накладывая и себе глазастой. – А я вам скажу, – нам история и сама жизнь так сплюснули мозги, что многое нам кажется смешным, когда оно прискорбно, и над хорошим мы скорбим, не понимая, что оно хорошее… Человечество изолгалось дальше пределов возможного, запуталось в своем неведении – и не может распутаться. Везде ложь и воровство, когда эти слова не должны существовать. Посмотрите – что может быть естественнее и законнее чувства любви? А мы и из нее сделали ложь. Чистая девочка, никогда, положительно никогда ни одним словом не солгавшая и не умевшая лгать, как невинный младенец, как только полюбила – начинает лгать… Она лжет, скрывает свое святое чувство, потому что или стыдится, или боится его обнаружить, потому – в свою очередь, что ей не позволяют любить или велят любить другого…
Ириша чувствовала, как краска стыда заливала ее щеки. И она лгала уже, мало того, что скрывала, – лгала дяде. Она низко нагнулась над яичницей.
– Какая ты красная, Ириней, – заметил дядя.
– Это от яичницы… (От яичницы! Да – во всем виновата яичница. Девушка чувствовала, что она скоро заплачет. Она жестоко лжет!)
– История сделала из человека… просто фальшивую монету, подделку под человека, – продолжал старик. – Я помню, раз, еще в Москве, вздумал проследить за собой и за всем, с чем я сталкивался в продолжении целого дня, и к вечеру пришел в ужас и отчаяние от мысли, что как могло до такой степени испортить себя человечество – так испортило, что на заказ, кажется, так испортить нельзя… Едва я вышел из дому, как сразу почувствовал, что я очутился между волками и что я сам волк…
– Homo homini lupus[54]54
Человек человеку волк (лат.).
[Закрыть], – процедил сквозь зубы бакалавр, смакуя яичницу.
– Точно lupus, – ответил Новиков.
– Что это значит, дедушка? – спросила Ириша, несколько оправившаяся.
– А то, что каждый человек для другого человека – волк, мой дружок.
– И я для вас волк и для дяди волк?
– Волк, овечка моя невинная.
– Как же это, дедушка?
– А вот как, друг мой. Лишь только я вышел на улицу – передо мною нищий. По его глазам я тотчас видел, что я для него – добыча, что он ждет от меня чего-то… Я дал ему… Иду дальше – лавка с товаром: из нее выглядывают волки, заманивают меня для добычи… Прохожу; мастерская гробовщика – и сам гробовщик у двери – волк, волк! Он, видимо, считает мои годы, взвешивает мое здоровье – скоро ли-де для меня закажут у него гроб… Дальше – лавка свечная и восковая: и там волки глядят на меня, ждут, не куплю ли венчальных свеч или кому на погребение… Еще дальше сапожник… волк! – смотрит мне на ноги, скоро-де ли износит сапоги этот барин… Дальше – моя прачка… Смотрит лисой и волком: «Какой-де скупой барин, ходит в поношенном белье, редко отдает мыть…» Прохожу мимо портного – крыльцо, я цепляюсь плащом за что-то… оказывается, гвоздик неприбитый… ну, плащ с дырой, а портной волком смотрит: «Скоро-де новый плащ понадобится…» И видел я вокруг себя стаи волков, а пока дошел до типографии – и счет им потерял.
А Сиклитинья еще издали, торопясь со сковородой в руках, громко заявляла: «Ну, уж и грибки! Уж и грибки! И-и, Заступница!»
– Да и яичница у тебя, Сиклитиньюшка, просто прелесть, объеденье, – похваляла барышня.
– На здоровье, матушка, на здоровье.
– А грибки молоденькие? – спросил Новиков.
– Молодехоньки, барин, молодехоньки, вот как сами барышенька.
– Так и ты, Ириней, в грибы попал? – заметил дядя.
– Да, други мои, так-то люди себе жизнь устроили, – продолжал Новиков, глядя куда-то в пространство. – Птицы и звери одинаковых пород живут между собою дружнее, чем люди. А все потому, что миром правит неведение. Греки, хотя тоже по неведению, но создали самое гениальное представление о том, кто правит миром.
– Вы кого, Николай Иванович, разумеете? – спросил Мерзляков, наслаждаясь грибами в сметане.
– Слепых.
– Кого же именно?
– А правосудие! Разве Фемида[55]55
Фемида – богиня правосудия.
[Закрыть] не слепая?
– Но это для того, чтобы она не была пристрастна к внешности.
– А Мойра[56]56
Мойра – богиня судьбы.
[Закрыть]? А Фортуна[57]57
Фортуна – богиня счастья, случая и удачи.
[Закрыть]? Разве они не слепые?
– Да – счастье слепое.
– Но оно не должно быть слепым. Оно и не было бы слепым, если б на земле господствовала справедливость: счастье являлось бы тогда, как награда добродетели. А теперь счастье раздается людям каким-то слепым и безумным существом. Это слепое существо – самодур, идиот: оно и есть само человечество.
В это время неожиданно у крыльца показалась белая голова Микитейки. Мальчик смело подошел к перилам и остановился.
– Микалай Иваныч! А Микалай Иваныч! – сказал как-то таинственно маленький друг философа.
– Ты что, Микитейка? – спросил старик.
– Она выползла и спит, – тихо, почти шепотом сказал мальчик.
– Где? – оживился старик.
– Тамотка, на плотине…
– И ты ее не спугнул, не разбудил?
– Нету… как можно!
– Молодец, Микитейка! Молодец, моя правая рука… Ну, так я сейчас иду, – извините, други мои.
И старик заторопился, взял свою палку, надел картуз.
– Куда вы, дедушка? – заинтересовалась Ириша, бросая грибы. – Мне можно с вами?
– Можно, мой друг, можно, только ни гу-гу – не шуметь…
Ириша вскочила и накинула на голову платочек, потому что летнее солнце начинало уже печь порядочно. Мерзляков тоже оставил недоеденную тарелку с грибами и желал присоединиться к неведомой для него экспедиции.
– Так и мне можно с вами? – спросил он. – Ваш адъюнкт Микитейка заинтересовал меня таинственностью, с которою он докладывал вам, что она спит?.. Кто она?
– А вот увидите, – с улыбкой сказал старик, торопясь через двор к выходу. – Вы помните то место в летописи Нестора, где он говорит о смерти Олега?
– Это когда кудесник говорит ему, что он умрет от своего любимого коня?
– Да.
– И я это знаю, дедушка, – заговорила Ириша. – Олег, боясь исполнения предвещания кудесника, – начала она по-школьному, словно отвечала урок, – приказал взять от себя любимого коня, дабы его не видеть. По прошествии же нескольких лет князь вспомнил о нем и спросил приближенных: «Что мой конь любимый и жив ли он?» Ему отвечали, что конь умер. «Так покажите мне хоть кости его», – говорит князь. Когда привели его на место, где валялись кости коня, князю стало жаль его, и он, приблизясь к голове его, лежавшей на земле, тронул ногою кости и сказал: «Бедный конь мой! Если б я не поверил кудеснику, то, может быть, досель ездил бы на тебе… Не буду же я верить кудесникам». Но в эту минуту из черепа коня выползла змея и укусила его за ногу. От той раны и скончался Олег.
– Ай да сладкая! Как она хорошо рассказала… Так вот в этом-то укусила и весь вопрос, – говорил Новиков, продолжая следовать за Микитейкой. – Когда Август Шлёцер[58]58
Шлёцер Август Людовик (1735–1809) – немецкий историк и филолог. Работая в Петербургской Академии наук, занимался историей России. Автор трудов по всеобщей истории, источниковедению, истории русского летописания. Свою работу под названием «Нестор», написанную в 1802–1809 гг., Шлёцер посвятил императору Александру I.
[Закрыть] издавал своего «Нестора», он, как потом признавался мне, долго мучился над этим местом. Он говорит, что во всех списках летописи явственно написано, что змея «уклюну», просто уклюнула князя в ногу. А Шишков оспаривал, говорил, что это описка, что змея не «клюет», а «кусает», что «клюет» только птица…
– А рыба, Микалай Иваныч? – неожиданно поразил всех Микитейка, оглядываясь на господ.
– Каков! – засмеялся Мерзляков. – Да он у вас и натуралист, и филолог.
– Да, да… Он у меня на все руки, – сказал Новиков. – Именно, Микитейка, ты прав, и рыба «клюет», как птица. Теперь нам надо узнать, «клюет» ли змея.
– Так мы к змее идем, дедушка? – испуганно спросила Ириша.
– Да, к змее, мой друг.
Девушка остановилась как вкопанная. Испуг сковал ее язык.
– А, Ириней! Струсила? – улыбнулся дядя.
– Да… она укусит…
– Да она не кусается, а клюется…
– Ах, дядя! Господи!
– Не бойся, дружок, мы тебя не дадим, – сказал Новиков, улыбаясь.
– Она вас укусит…
– И себя не дадим.
Микитейка обернулся и сделал знак, чтоб замолчали. Они подходили к плотине, переброшенной через небольшую, в виде ручья, речку, на которой, вниз по течению, поставлена была небольшая наливная мукомольная мельница, однообразно шумевшая своим рабочим колесом. Солнце, стоявшее уже высоко, обдавало плотину жаркими лучами. Этот-то магнит и выманил змею из ее логовища – понежиться на солнышке.
Микитейка молча указал на одно место плотины. Там, растянувшись во всю длину на пересохшей и утоптанной соломе, лежала серая, более аршина длиною змея. Чешуйчатая кожа ее блестела на солнце, словно бы она покрыта была множеством миниатюрных рефлекторов.
Новиков, взяв тихонько две длинные, тонкие, как хворост, слеги, лежавшие на плотине, одну оставил у себя, а другую дал Микитейке и шепнул:
– Не бей ее, а только не давай уйти.
Только тогда, когда они уже, так сказать, отрезали отступление змее под плотину, она увидала их и бросилась было уходить. Но Новиков искусно преградил ей путь слегою, а Микитейка угрожал с другой стороны. Пресмыкающееся, видя опасность, свернулось кольцом и выставило немного вверх свою тонкую, плоскую и продолговатую головку. Оно наблюдало и выжидало. Едва Новиков приблизил к ней слегу, змея спрятала головку.
– Да, по-библейски – блюдет главу свою, – улыбаясь и не спуская с нее глаз, сказал старик.
Потом он начал приближать слегу, как бы дразня пресмыкающееся. Змея не шевелилась, а только высовывала черный, в виде стрелочки язычок, который словно дрожал. Новиков еще приблизил слегу, еще, еще… Вдруг головка змеи отделилась от кольца и щелкнула палку… раз… два… три…
– Клюет, действительно клюет, – радостно сказал старик. – Шлёцер прав, в рукописи не было описки. Теперь я напишу об этом и ему, и Шишкову.
Я долго искал случая проверить летописца, но в этой местности редко показываются змеи. Вот только теперь, благодаря моему адъютанту Микитейке, опыт сделан и вполне удачно… Ну, уходи же, прячься, – сказал он, тронув змею и отступая в сторону.
– Ах, Микалай Иваныч, она уйдет! – спохватился Микитейка.
– Пускай уходит – она нам больше не нужна.
В это время вдали, по московской дороге, послышалось что-то похожее на звяканье колокольчика. Все стали прислушиваться. Звуки колокольчика становились явственнее. Можно было даже различить, что приближалось две тройки.









































