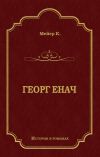Текст книги "Идиотизм наизнанку"

Автор книги: Давид Фонкинос
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
VII
– Мама что, больна?
Вот о чем я, естественно, спросил, поскольку к телефону подошел мой отец. (Маленькое отступление, чтобы объяснить материнский «миф о телефоне»; рассматривая этот Аппарат как вестник дурных новостей, почти напрямую связанный с причинами для сетований и причитаний, она поставила перед Аппаратом небольшую скамеечку, поскольку, как известно, в сидячем положении слуховая информация передается лучше. И наоборот, она не могла пережить, если кто-то снимал трубку раньше нее, по той простой причине, что неподготовленное ухо способно исказить новость, даже просто пожертвовать ею, будучи не в состоянии вдохнуть в нее драматизм.) Поэтому я спросил у отца, по какой причине он впервые в жизни снял трубку. Он даже не стал изображать, что взволнован. Во всяком случае, он помнит, что уже отвечал отрицательно на этот вопрос, правда, не может сказать точно, в каком году, поэтому я выгляжу нелепо, спрашивая об этом снова, и вообще, зачем я звоню, если мы не условливались.
Да, это так. Почему нельзя заранее условиться, что будут такие моменты в жизни, когда все идет плохо, если женщина, с которой вы прожили восемь лет и которая все еще незаконно занимает вашу квартиру, решила украсть у вас пустячок, которым вы действительно пытались вначале манипулировать, но не очень долго, ровно столько, сколько понадобилось времени, чтобы в вас вспыхнула сильная любовь, редкая и необыкновенная, так вот, когда эта женщина, которую вы собираетесь выгнать из дому, кладет в чемодан, который вы выбрали, чтобы выгнать ее, записку, где объясняет вам, что она ни за что не уйдет, и к тому же в тот самый момент, когда вы это читаете, вы не можете отделаться от мысли, что она ужинает с малышом, тогда, разумеется, все это – стечение обстоятельств, как говорится, поэтому выходит, что нет, нельзя условиться о том, в какую минуту в жизни все пойдет наперекосяк, в конце концов это та непредвиденная ситуация, когда женщины, с которыми вы прожили восемь лет, продолжают незаконно занимать вашу квартиру…
– Это Виктор!
(Можно простить моего отца, абсолютного неофита в области телефонной связи, он крикнул, призывая мать, при этом не пытаясь прикрыть рукой мембрану, откуда его голос шел прямо мне в ухо. Разумеется, сила оглушающей звуковой волны имеет то преимущество, что немедленно прерывает патетический пересказ перипетий моей жизни.) Я слышал, как подбежала мать, тревога – это уже счастье, это понятно и объяснимо, раз я звонил в неусловленное время, значит, что-то не так. И в этом, в неожиданном, и состоит прелесть драмы.
Мне было о чем пожалеть после этого звонка. Я прибавил к своим неурядицам новое переживание. Чувствуя, что мне плохо, вспоминая мой рассказ о том, что мне недостает любви, отец сказал, что может заглянуть ко мне. Нужно отметить два обстоятельства: он раньше никогда не бывал у меня и не имел привычки брать на себя инициативу и решать, куда ему идти. Если я уже не мог правильно рассчитать поступки своих родителей, спокойно занести их в тот раздел каталога, к которому я их причислил, о чем тогда можно вообще говорить? Моя прежде столь милая Тереза превратилась в стерву, мой добрый Эдуар стал безответственным, а теперь еще мой отец играет в эмансипацию. Он заглянет ко мне, как будто хочет заглянуть на какой-то прием. А у меня даже не было сил ущипнуть себя, чтобы хотя бы на мгновение поверить в случайность снов.
Сразу же после появления отца можно было прийти к заключению, что произошло нечто невероятное. И выражение его лица, едва он переступил порог, почти предопределило невероятное развитие событий в этот вечер. Это был уже не тот вечно тщедушный субъект, к которому я привык. Я не мог не вспомнить тот день, который мы провели с ним вдвоем в начале моей драмы. Тот день, когда я обнаружил его сходство с Йодой, таящиеся в нем темные силы, тот день, когда он рассказал мне о женщине, которую когда-то любил. Я вспомнил это потому, что, несомненно, именно тогда и произошли в нем эти изменения. Как это объяснить? Прежде всего становится очень не по себе, когда меняется близкий тебе человек. К тому же еще твой отец. Он никогда не был для меня примером для подражания, и именно потому, что он таковым не являлся, я смог легче сориентироваться в ситуации. Как это бывает, когда глаза привыкают к темноте. Он всегда был какой-то недоделанный, даже внешне. Его авторитет был скорее сродни исчезнувшему племени, проклятой ветви рода. И вдруг он появляется, выставив напоказ усы. Не помню, говорил ли я, до какой степени моя матушка ненавидела усы? Я всегда думал, что отцу будет легче выцарапать ей глаза, чем уговорить позволить ему отпустить усы.
– Папа, а как мамины глаза?
Я не видел никакой иной причины для этого бунта. Вместо ответа он пожал плечами, но в довольно развязной манере, вовсе не агрессивно. От отца веяло спокойной силой, он превращался в почти харизматического лидера. И если я вначале был выбит из колеи, то теперь в глубине души у меня возникло лишь одно желание: положить голову на его по-новому надежное плечо. Он почувствовал это, потому что похлопал по своему плечу, жестом показывая, что я могу склониться туда без зазрения совести. Я подошел к нему, слегка униженный, свесив руки, застенчиво привлеченный обещанием отеческой ласки. Чистое волшебство: отец, о котором вы всегда тайно мечтали, появляется в самый тяжелый для вас момент. В тот самый момент, когда своей жизнью вы обязаны только тому, что под рукой не оказалось веревки. Голова моя начала склоняться, вобрав в себя тяжесть не только моего тела, но и всей моей жизни, всю мою потребность в любви и защите. Я услышал тогда свой длинный и спокойный вздох.
Но…
Но именно в тот момент, когда я собирался склонить голову на отцовское плечо, отец недостойно отпрянул. Естественно я грохнулся на пол, заработав, таким образом, здоровую шишку вместо ожидаемой ласки. По быстроте, с которой вскакиваешь на ноги, можно определить, насколько ты смешон; я вскочил молниеносно, словно на меня глазели миллиарды китайцев. Отец кинулся в гостиную, и на этот раз мне в самом деле пришлось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что то, что я там вижу, не сон. Он обжимал служанку. Я медленно приблизился к этому проявлению чувств, задевающих фэн шуй моей гостиной. Проявление чувств, которые можно было, впрочем, квалифицировать как внезапно нахлынувшие. Разве существует, в конце концов, проявление чувств более внезапное, чем то, когда два тела сплетаются в объятии, несмотря на присутствие третьего, валяющеюся на полу и лелеющего дурацкую мечту опереться на отцовское плечо… Странное уравнение. Во всяком случае, я вскочил так быстро, что забыл на полу свою привычку неспешно размышлять. Итак, с раскрытым ртом и упавшим сердцем, я подошел ближе к этой безумной мизансцене любви с первого взгляда между Эглантиной и Андрэээ. Честно говоря, мне стало ужасно противно. Эти две особи преклонного возраста просто изощрялись в проявлении нежностей и эмоций. В конце концов, для меня важнее было не то, что они немолоды, а то, что их двое. Меня возмущало, что они испытывают физическое удовольствие; мне хотелось кричать о праве первой ночи или о чем-то в таком духе. Разве у хозяина нет прав на тело его подчиненных? А что говорить о верности! Господи, боже мой, о верности! Мой отец изменял матери прямо у меня на глазах; априори, мы отклонялись от пути, ведущего к стабильности моего состояния. Так! Теперь она ухватила его за черепушку, пытаясь затолкать ее себе между грудями, а он крутит шеей, производя интимные движения. Она также наглаживает его усы… Боже, не нужно далеко ходить. Я всегда знал, женщины обожают усатых. Иначе, почему?
(…)
Мой отец заглянул ко мне, чтобы выказать свою любовь, а теперь облизывает мою служанку. В этой истории много несправедливого.
Часть третья
I
Тереза проявила себя никчемной хозяйкой. Она превратила дом в дикий свинарник, не считаясь с тем, что нам с Конрадом приходится жить в такой грязи. К тому же я лелеял тщетную надежду, что в отсутствие Эглантины и в ожидании, пока мы все успокоимся и приступим к кастингу новой служанки, Тереза сможет достойно проявить себя. Но, увы, она не тянула на временно исполняющего обязанности, мне пришлось вычеркнуть еще одно качество из списка ее достоинств, которые, если честно признаться, таяли одно за другим. Я любил никчемную хозяйку. Я уж не говорю о самом главном ее свойстве: таланте разбивать пары – сначала нашу собственную, а потом ту, что образовалась у меня с Конрадом.
Меня волновало другое, я все оттягивал момент, когда мне придется позвонить матери – узнать, как идут у нее дела, чтобы продемонстрировать, что меня это интересует. Прошла уже неделя с тех пор, как отец сбежал со служанкой, даже не подумав о том, что будет с Конрадом без его любимых щей. Настоящая подлость! Не говоря уже о тридцати годах, прожитых с матерью, которые он тем самым перечеркнул. Я расценивал этот безумный поступок как проявление постыдной безответственности, но, честно говоря, какое значение имеет мое мнение о поступках Других? Разумеется, я чувствовал себя счастливым оттого, что счастлив отец; он зашел поцеловать меня, перед тем как удариться в бега, поразглагольствовал о любви, которой нельзя пожертвовать.
– А-а-а как же та история о женщине, которую ты любил до того, как познакомился с мамой…
– Так ты не понял! Это же она и есть, Эглантина! Мы нашли друг друга благодаря тебе…
Так вот оно что, выходит я к этому причастен! А почему бы и нет? Получалось, что мой слегка престарелый папаша как бы действовал по доверенности. Как бы то ни было, счастье – понятие относительное в той среде, где никто не умеет пользоваться пылесосом.
– Аллоооо.
Мать внезапно состарилась (просто мгновенно, так сильно изменился у нее голос). Я тут же выложил ей сочувствие и любовь возмущенного сына. Бедная мамочка, ты должна знать, что я всей душой с тобой в этот скорбный момент, что сейчас, как никогда прежде, я ощущаю себя твоим сыном… Боже, какое красноречие, на самом деле совсем несложно напирать на сантименты, особенно если не хочется выходить из дому; сочувствие по телефону должно быть слегка наигранным, и замечу без ложной скромности, что я обнаружил в себе некие скрытые способности к этому виду искусства, который прежде недооценивал. Наши способности раскрывает именно драма. Я имею в виду драму собственной матери.
Вопрос «А кто это говорит?» испортил мне праздник.
Мать меня уже не узнает. Я молниеносно осознал всю степень нанесенной ей травмы и счел себя приговоренным к принудительным посещениям типа «я загляну». По воскресеньям, если удобно. Внезапно я возненавидел отца и его бегство, в результате которого я остался с матерью на руках. Я даже начал подозревать, что мое рождение было спланировано с единственной целью: по достижении мною совершеннолетия взвалить на меня всю ответственность за нее. Да, в моем зачатии прослеживалась определенная стратегия, стратегия подготовки заместителя.
– Кто говорит?
– Это я, мама… твой сын.
– Я удивилась бы, если бы мой сын заговорил. Он ведь у меня немой от рождения!
Тогда, раздосадованный, я перехожу к рассуждениям на высоких тонах и после многочисленных квипрокво[16]16
Квипрокво – путаница, принятие одного за другое, подмена.
[Закрыть] с удивлением обнаруживаю, что говорю не с матерью, а с зашедшей к ней соседкой. Какой идиот, мне это даже в голову не пришло. У брошенной женщины просто нет сил подойти к телефону, теперь в игру вступило ее обычное «а что скажут люди?». Старуха, у которой немой сын, передала трубку кому-то другому, с кем мне не о чем было говорить, а тот, явно разочарованный моей неразговорчивостью, в свою очередь передал трубку еще кому-то. И так далее, наконец я прочистил горло:
– Хм, могу я поговорить со своей матерью?
Затем.
– А кто у телефона?
Затем.
– Да сколько вас там?
Наконец мне удалось уловить материнский голос, слабый, как дуновение ветерка.
– Да, Виктор… у меня много посетителей… Все пришли, чтобы поддержать меня, это потрясающе!
Слово за слово. И вот что она мне поведала. Послушать ее, так всю свою жизнь она только и ждала того дня, когда он ее бросит. Это была кульминация всей ее жизни – она превратилась в старый, никому не нужный носок (очевидно, я унаследовал от нее эту ее экстравагантную склонность к неестественному, и моя ситуация с ее вывернутой наизнанку логикой не только напомнила мне кучу грязного белья, но и навела на мысль, что удовольствие – понятие чисто субъективное). Я с облегчением повесил трубку, теперь моя роль страшно упростилась. Я не должен был ни звонить, ни заглядывать. Я с блеском провел свою партию (я большой мастер по части неучастия). Таким образом, теперь я не получал никаких вестей от матери. И об отце тоже в конечном итоге.
II
Наша ситуация упростилась. Действительно упростилась, доложу вам. Стала почти элементарной. Понятной и ребенку. Настолько простой, что даже смешно. Говоря еще проще, я убедил Конрада бросить работу в книжном магазине. Если честно, я объяснил ему, что это пустая трата времени, что многие гибли в поисках утраченного времени, что главное – ни о чем не сожалеть, ведь жизнь дана не для того, чтобы мешать пустое с порожним. Короче, я настолько запутал его, что он принял мое предложение. И я лично отправился к мелкому начальнику, чтобы вручить заявление малыша об уходе, тот сначала поблагодарил меня, но потом через несколько дней увидел, что показатели сбыта товара снизились. Тогда он сделал Конраду очень заманчивое предложение, которое тот по моему совету проигнорировал. Не в деньгах счастье, сказал я ему.
Тереза тоже поблагодарила меня за мой поступок, но после истории с запиской в чемодане она перестала быть моим другом. Она пребывала в квартире, сославшись на Устав жильцов, который приберегала на всякий пожарный случай, и тут я ничего не мог поделать. Она также заставила меня отвести ей время на общение с Конрадом; поскольку Тереза ему нравилась, я не мог помешать ему видеться с ней, хотя тем самым и обрекал себя на страдания. Я просто старался отпускать исподтишка разные колкости в ее адрес, но, поскольку она действовала таким же образом, они взаимоуничтожались. Но как бы то ни было, одурачить Конрада не удалось; несмотря на то что мы всегда находили какие-то оправдания, объясняя ему, почему мы не бываем втроем одновременно в гостиной, однажды он все-таки постарался помирить нас, зловредно подстроив очную ставку. Чтобы не обидеть его, а главное, чтобы не подорвать его любовь к нам, мы сделали вид, что ничего не происходит, притушив на время взаимную ненависть. Этот игровой эпизод можно отнести к разряду шедевров искусства кривых улыбок, перекошенных физиономий. Мы с трудом смогли избежать традиционных шаблонов, нашему счастью чуть было не пришел конец.
Именно тогда я впервые заметил тень сомнения, промелькнувшую во взгляде Конрада. Только тень, но я заметил. Его глаза, обычно кроткие и круглые, на долю секунды стали плоскими, как миндальное желе, и внезапно отсутствие их обычного выражения вызвало у меня подозрение. А может, не так-то он прост, как кажется? Уже несколько раз он изрекал вполне разумные, почти глубокомысленные суждения. Я ни на минуту не допускал, что он верит в спектакль, который мы перед ним разыгрывали. Тогда я решил признаться во всем, выложить карты на стол.
– Послушай, Конрад… ты наш самый близкий друг, этот обман не может дольше продолжаться… Мы с Терезой больше не любим друг друга… я знаю, как тяжело тебе это слышать, но ты должен привыкнуть к этой мысли.
– Да, это так…
На лице у Конрада выразилось неудовольствие. Он растянулся во всю длину своего тела на диване (бесформенная масса, современное искусство). Я был сбит с толку, подметив это выражение его глаз; часто молчунам приписывают умение правильно оценивать ситуацию. Он и догадаться не мог о нашей взаимной ненависти, а теперь я добивал его своим признанием. Мы не любим друг друга. Ну и что с того? Необходимо было когда-нибудь сообщить ему, что родители больше не любят друг друга. Он еще маленький, раны скоро затянутся, ведь так?
Конрад встал. Конрад направился в свою комнату.
Я хотел удержать его взглядом, но чтобы удержать кого-то взглядом, нужно по меньшей мере, чтобы в этом участвовало два взгляда. А его взглядом уже завладел взгляд Терезы, которая пошла следом за ним в его комнату. Оказавшись один– на один с собственной дурацкой откровенностью, я мог только созерцать все разраставшуюся пустоту. Пустоту, которая не убивает, а разъедает.
Верный поведенческим стереотипам в кризисные периоды, я не мог побороть желания делать все назло. Поскольку возвращение к родителям было исключено, я клюнул на зов усов и, лихорадочно возбужденный, спустился к Мартинесу. Оказанный мне прием согрел душу сверх всяких моих ожиданий. Все-таки Мартинес, в общем-то, был другом, и я испытывал сожаление, что в последнее время безжалостно прогонял его. Я быстро ввел его в курс дела и, по мере того как он усваивал информацию, ощущал заметное облегчение. Он делал пометки, он взял все на себя, даже подмигнул мне. Я забыл все свои подозрения по поводу его усов, я только видел, как он суетится. Он без устали бормотал: «У малыша плохое настроение». Он открыл все свои сундуки, рылся в своем инвентаре, пытаясь найти там хоть что-то, чем можно было бы улучшить настроение Конрада. Я старался держаться, как можно незаметнее, главным образом не желая нарушать сосредоточенность мэтра. Взгляд мой привлекла какая-то бесформенная волосатая штуковина. Я не понял, что это.
– Неужели ЛеннонМакКартни вернулся? Это он?
– Да, видите, в каком состоянии его вернули… напичкали музыкой «Роллинг Стоунз». Лучше не будем об этом…
Мне тоже не хотелось об этом говорить, внезапно я испытал сильное разочарование в швейцарской медицине. Придется полностью переделать перспективный план моей старости.
Мы поднялись, испытывая страх, как перед выходом на сцену. Я открыл дверь, Мартинес отпрянул. Он изображал робость, хотя сейчас это было неуместно, так я полагал, – правда, подлинная робость проявляется в самый неподходящий момент. Его странная манера жестикулировать застала меня врасплох. Можно подумать – празднично одетый ловец мух, его ухоженное тело карманного размера двигалось быстро и суетливо. Все движения концентрировались вокруг носовой полости. Робость Мартинеса выражалась в мимике, свойственной людям, которых раздражает зловоние, – странное поведение, наверняка какой-то таинственный трюк. Он спустился к себе, быстро закруглившись (ну что ж, вычеркиваем его из списка друзей), но тут же вернулся назад с бельевой прищепкой на носу. Странно, очень все это странно. Мы двинулись в комнату Конрада, малыш выглядел уже намного лучше. Терезе удалось утешить нашего лапочку, вот стерва. Мне было плохо, но у меня хватило сил объявить номер Мартинеса… я распахнул объятия… Ведь есть же фильм, где действует такой же довольно жалкий на вид тандем. Конрад, самый благодарный из зрителей, аплодировал тому, что я затрудняюсь назвать спектаклем. Когда я вновь увидел улыбку Конрада, у меня на глаза навернулись слезы. Я даже позволил себе пофантазировать, представив подобие качелей: от его чувств – к моим, возможность быть настолько близкими и находиться при этом на диаметрально противоположных эмоциональных полюсах. Я был недалек от истины, употребив слово «качели»: любовь – это вращение в зоне притяжения двух тел, которые поочередно взлетают ввысь на самое седьмое небо.
Полный лихорадочного возбуждения, я не мог достойным образом отметить свое достижение – я сумел скрыть от остальных, как трудно манипулировать цыганом, когда в доме вновь воцарилась приятная атмосфера. Ведь цыган, который почувствовал себя вполне естественно в сцене искупления вины (окончательной, как он считал), теперь лелеял новые надежды. У него на коленях сидел Конрад. Нужно было действовать мгновенно. Мы с Терезой воспользовались тем, что Конрад отлучился в туалет, поймали организатора киднепинга нашего малыша, каждый из нас подхватил его под руку, и таким образом мы успешно выдворили его прочь. Даже не запыхались. Мы еще были способны действовать сообща. Я улыбнулся ей, она ответила:
– Если ты еще раз приведешь его в дом, я потребую оформить опеку над малышом.
Если она будет говорить таким тоном, я отказываюсь что-либо организовывать.
Вечером, поскольку я так и не мог оправиться от дневных переживаний или же сказались последствия замороженных и повторно разогретых блюд, я решил позвонить Эдуару. Подошла Жозефина в слезах. Мне не удалось повесить трубку прежде, чем она задала первый вопрос (да, это признаки деградации, было время, когда я умел сразу же отделаться от любого депрессивного типа, едва заслышав его «алло», было время, когда я умел свернуть разговор до того, как собеседник начинал занудствовать).
– Ты не смотрел новости?
Нет, не смотрел, я не знал, что Эдуар объявлен в розыск, после того как он совершил какие-то банковские махинации, да, мсье действительно что-то смухлевал в банке. И мсье задержали на швейцарской границе. Я снова вспомнил Эдгара Янсена, увы, не всем хватает масштаба, чтобы сбежать достойно. На минуту мне стало смешно, когда я вспомнил эту дурь – мое с ним соревнование; ведь мое примирение с Терезой побило все рекорды мерзости… Эдуар! Господи, до чего же я бессердечен! Нельзя отвлекаться, когда твой друг детства сбрендил, причем до такой степени, что запросто может угодить за решетку.
В моем воображении, полном клише, возник образ апельсинов; это у меня-то, ненавидевшего таскаться по магазинам. Мне было ужасно неприятно, что его посадят в тюрьму, я обязательно должен буду отправиться на рынок; голоса в рекламе перешли на крик, перечисляя скидки, почти как политики в предвыборную кампанию.
Чем больше Жозефина говорила, тем больше я размышлял о логистике покупки апельсинов. Наверное, существуют специальные склады, вопрос не в деньгах, я был готов купить оптовую партию, чтобы меня не застали врасплох. Пойти навестить друга в тюрьму с пустыми руками – все равно, что намекнуть ему, что он ни в чем не нуждается. Апельсины – вежливость свободного человека, не какого-нибудь фанфарона, а человека рафинированного, нельзя ведь сказать позже, поедая их, что жизнь на воле – сплошной восторг. Вот какой я оказался предусмотрительный… сколько у меня забот, друг в тюрьме… Это правда, когда все идет своим чередом, не так уж мы и наслаждаемся общением на свободе, но за дружбу приходится дорого платить, если друзья попадают за решетку. Я уже предчувствовал полный упадок сил, по правде сказать, у меня не оставалось на это места; несчастья Эдуара не шли ни в какое сравнение с плохим настроением Конрада, а теперь еще проблема покупки апельсинов; я чувствовал, что история с тюрьмой отнимет у меня время, отведенное на любовь к Конраду. Теперь наша старая дружба мне была совсем ни к чему. Тогда я поступил черство (никогда не следует прибегать к уловкам, если принимаешь нелицеприятное решение), я повесил трубку в самый разгар стенаний Жозефины относительно будущего их детей, которое, безусловно, вызывало опасения. Я не мог не проявить черствости, на весы была положена моя любовь к Конраду. В этом также состоит проблема великого счастья, оно нейтрализует несчастья других. И вовсе это не проявление первобытного эгоизма, а просто недостаток свободного времени.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.