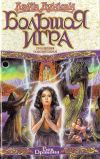Текст книги "«Нагим пришел я...»"
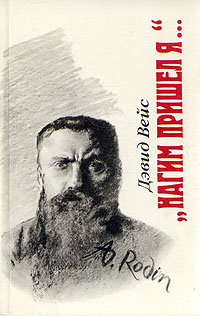
Автор книги: Дэвид Вейс
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 47 страниц)
Камилла проснулась в просторной спальне старой провинциальной гостиницы на окраине Тура. В приподнятом настроении покинув Париж и мечтая о том, чтобы эта комната стала их супружеской спальней, Камилла пришла в уныние от убогой обстановки, выцветших занавесок на окне, железной кровати, которая скрипела при каждом движении. Но Огюста не трогали такие мелочи: широкая кровать и большое окно, пропускавшее много света, – чего же еще? «Комната удобна, нечего огорчаться», – сказал он. И Камилла, не желая портить праздничное настроение, постаралась скрыть свое раздражение.
Они записались в книге для приезжих как мосъе и мадам Нерак из Парижа.
– Для соблюдения приличий, – пояснил Огюст. – Все равно поймут, что я из Парижа, по моему акценту. – И при этом заверил Камиллу: «Нас никто здесь не узнает».
Не успела Камилла снять новую модную шляпку с цветами, купленную специально для поездки, и успокоиться в его объятиях, как Огюст сказал, что им нужно немедленно посетить дом, где родился Бальзак.
Она спустилась вслед за ним по узкой винтовой лестнице во двор, от которого веяло средневековьем. Во дворе Огюст задержался, чтобы осмотреть гостиницу снаружи. Ему нравились готические башенки, каменные балконы и изящные женские статуэтки в нишах над входом.
– Как тут спокойно, – сказал он.
Камилла терзалась одной мыслью: «Неужели он так и не полюбит меня по-настоящему? Что мне до архитектуры этой гостиницы, если мы не поженимся?» Но вслух воскликнула:
– Огюст, тут чудесно!
– Я знал, что тебе понравится. Гостиницу рекомендовал мне Моне. Он приезжает сюда время от времени, чтобы писать.
– Ты сказал ему о нас?
– Я не обсуждаю ни с кем свою личную жизнь. – Дорогой, я вовсе не осуждаю тебя. Где же дом Бальзака?
Он повел ее узкими переулочками и улицами, сохранившимися со времен средневековья, к мосту; на другой стороне реки стоял маленький домик, где родился Бальзак. Они были разочарованы: ничем не примечательное сооружение. Не стали входить внутрь, а поспешили на городскую площадь, где стояли мраморные памятники жившим в Туре Рабле и Декарту, но не было памятника Бальзаку. Огюсту эти памятники не понравились, и он с негодованием сказал:
– Рабле умер бы со смеху, увидев, каким важным и надутым его изобразили, а Декарт наверняка сказал бы: «Как нелогично и смешно!»
Прохожие не обращали внимания на памятники. А когда Огюст спрашивал местных жителей, есть ли в Туре памятник Бальзаку, никто не понимал, о ком речь, здесь и не слыхали о Бальзаке. Наконец старый священник, услышав расспросы Огюста, сказал: «Оноре Бальзака вы найдете в музее» – и пояснил, как туда пройти.
Музей производил мрачное, гнетущее впечатление. Бюст был установлен высоко, и его трудно было рассмотреть. Огюсту он сразу не понравился.
– Он явно посредственный и даже не передает, сходства, – сказал Огюст.
Камилла кивнула. Музей напоминал склеп, и она хотела поскорее уйти отсюда.
Но Тур с окрестностями пленил их. Весь остаток дня они бродили по городу. День был веселый, теплый, солнце яркое, но не палящее. Вокруг – просторы тщательно обработанной земли, изобилие садов и виноградников, ослепительные краски распустившихся цветов и ярко-зеленые поля, расчищенные леса и ухоженные луга. Камилла радостно предложила: «Давай прогуляем весь день», и Огюст улыбнулся в знак согласия.
Упиваясь ласковым солнцем и прозрачным воздухом, они долго стояли перед настоящим замком. Огюст любил эти старинные замки с красивыми средневековыми арками, устремляющимися ввысь башнями, карнизами и фасадами, украшенными тонким искусным скульптурным рельефом. Огюст был очарован мастерством и изяществом неизвестных готических творцов. Ему стало легко и весело.
«Я люблю его, – думала Камилла, – когда он вот такой, как сейчас. Я всегда буду его любить, если он таким останется». Они вернулись в гостиницу в прекрасном, приподнятом настроении.
В этот вечер, ложась в постель, Камилла надела красивую шелковую ночную рубашку, которую берегла для такого случая.
Огюст бросил взгляд на Камиллу, когда она стояла обнаженная в углу комнаты, и вдруг заново увидел красоту ее обнаженной груди и прекрасных длинных ног. Он сидел на краю железной кровати, оголенный по пояс, – чувственный восторг при виде ее тела прервал его раздевание.
– Ты великолепная ню. В особенности вот в таком настроении, как сейчас.
Камилла было рассердилась, но он сказал:
– Когда ты обнаженная, движения твои так грациозны.
И она рассмеялась.
– Неужели ты ни на минуту не можешь перестать быть скульптором?
Но она сделала, как он просил, сбросила рубашку. А затем, вместо того чтобы пройтись по комнате, стремительно подошла и уселась к нему на колени в такой позе, о которой он мечтал для незаконченной группы «Поцелуя». Теперь ему было не до рисунков, тело охватил огонь. Она прижалась к Огюсту и целовала нежно и страстно, и он сдался.
Эта ночь была самой пламенной за всю их совместную жизнь. На рассвете они уснули, не разжимая объятий, словно боясь расстаться даже во сне.
Камилла была счастлива и боялась упоминать о женитьбе, а Огюсту все в Туре казалось прекрасным, потому что Камилла была рядом. Они бродили по окрестностям, с новым интересом разглядывая все вокруг. Ели, пили, смотрели на деревья, скалы, цветы, скульптуру глазами Бальзака, Рабле, Декарта; радость бытия переполняла их.
Все дрязги остались где-то далеко позади. Париж словно отошел в прошлое. Здесь, в этом благоухающем садами уголке Франции, волнения, связанные с государственными заказами, страх перед новыми заботами исчезли, растворились, уступив место всепоглощающему ощущению счастья.
Огюст, который в Париже чувствовал себя стариком, словно обрел здесь вторую молодость. И это радовало Камиллу.
Любовь их будто родилась заново. Никогда еще им не было так хорошо, и Камилла молила, чтобы эти блаженные дни длились вечно.
Огюст был уверен, что такой подъем принесет свои плоды. Он начал думать о Бальзаке, так как Бальзак думал о «Человеческой комедии», перед тем как начал ее писать. Надо было возвращаться в Париж, и Огюсту не терпелось взяться за «Бальзака». Он теперь лучше понимал писателя. Пора снова приниматься за дело.
Камилла надеялась, что теперь он увезет Розу из Парижа и в конце концов оставит ее. Ее представления о любви куда более практичны, чем его, но ему незачем об этом знать. Он должен заниматься своей работой. Как прекрасно, думала она, что мы так сильно любим друг друга! Я здесь, с ним рядом, и могу ему помочь. Без меня он был бы беспомощным.
Они вернулись в Париж через месяц. Огюст пробыл в Туре вдвое дольше, чем собирался, но не напрасно. И как можно было сомневаться в любви Камиллы! Он оставил ее в мастерской на площади Италии, пообещав вернуться в тот же вечер.
Глава XXXV
1Но Огюст позабыл о Розе. Роза была дома, на улице Августинцев, и Огюст, зайдя сначала в главную мастерскую на Университетской, узнал, что она побывала там и, возмущенная, в праведном гневе, потребовала, чтобы ей сказали, где он. По дороге домой Огюст весь кипел от злости. Но когда он стал на нее кричать, она не уступила, и ссора разрослась до невиданных размеров. Роза объявила, что уходит, ведь он обещал вернуться через неделю-две, а отсутствовал целый месяц.
Его нервы были напряжены до предела. Первым побуждением было не удерживать, покончить с ней навсегда. Он отошел в другой конец кухни. Нет, не теперь, когда-нибудь он ее отпустит, но не теперь; одна, без него она просто погибнет.
– Зачем ты вернулся, Огюст? – спросила Роза. – Ты не любишь меня. Я тебе безразлична, ты больше не бываешь со мной по-настоящему нежен.
– Неправда, ты мне не безразлична. Но ты просишь слишком многого.
– Вечно ты ищешь чего-то нового. Только нового. Он не знал точно, что именно нужно ему, но что он нужен Розе, был уверен.
– Мы переедем в деревню. Тебе будет хорошо.
– Чтобы никогда тебя там не видеть? Ни за что! Он повернулся к ней спиной, собираясь уйти, а она сердито метнулась вслед и крикнула, позабыв обиду:
– Куда ты?
– Как – куда? Ты же меня прогоняешь, дорогая. У него был такой обиженный вид, что она в недоумении остановилась.
– Ты все ворчишь и ворчишь; неудивительно, что мне не хочется приходить домой.
– Послушай, Огюст… – Роза была в растерянности.
– Я не собираюсь этого больше терпеть. – Он был уже у дверей.
Она знала, его не удержишь, но куда же ей деваться одной? Она представила себя в черном платье, удрученной горем, одинокой и расплакалась.
Огюст подошел к ней, стараясь утешить, обнял. Волна огромной нежности захлестнула Розу, она не могла ему противиться. Одно его прикосновение покоряло, от его силы слабела воля, проходило раздражение.
Огюст уложил ее в постель, приговаривая:
– Роза, ты утомилась, разнервничалась. Тебе нужен покой и свежий воздух.
Она не спорила, наслаждаясь его заботливостью. Он поправил одеяло, убедился, что ей тепло и удобно, и не оставил одну в эту ночь, так как она боялась.
Как можно покинуть ее, такую беспомощную. Камилла поймет и оценит его благородство.
Но та не оценила. Огюст не пришел к вечеру, как обещал, и у нее разболелась голова. Она презирала себя за то, что позволила так обойтись с собой, и успокоилась лишь на следующий день, когда он обещал немедленно перевезти Розу в деревню. Но это уже в последний раз, так она и сказала.
Огюст сдержал слово. Вскоре он нашел дом для Розы в Белльвю, пригороде Парижа, неподалеку от Севра, где когда-то работал на фарфоровом заводе. Был 1893 год, он с удивлением отметил, что прошел почти год, как он пообещал Камилле увезти из Парижа Розу. Но теперь он уверил Камиллу, что будет принадлежать ей безраздельно.
Наступил день переезда. Огюст стоял перед старинным особняком на улице Августинцев с таким чувством, словно кончался какой-то важный этап его жизни. Все годы он прожил в этой части старого Парижа, а теперь чувствовал, как его тянет в разные стороны: любовь к природе – в одну, любовь к Парижу – в другую.
Каррьер, который стал его близким другом, руководил рабочими, нанятыми для переезда; в памяти Огюста всплыл тот день, когда его друзья-художники вот так же помогали ему переезжать: он вспомнил Фантена, его задор, жизнерадостность, желание помочь, Фантена, воображавшего себя новым Вийоном с примесью Делакруа; беспечного Ренуара с его лукавой насмешливостью, серьезно относящегося только к своему искусству; задумчивого Далу с его уже тогда заострившимися чертами лица и стремлением стать официально признанным скульптором Франции; гордого, мрачного, немногословного Легро, на которого всегда можно было положиться; здоровяка Моне, еще менее разговорчивого, чем Легро, но тоже благородного и надежного, и Дега, который, как всегда, помогал меньше всех, но больше всех критиковал, а когда разбилась «Вакханка», несмотря на показной цинизм, был очень расстроен.
Воспоминания эти опечалили Огюста. Как много переменилось с тех пор! Фантен разочаровался в жизни, стал отшельником, заперся в своей мастерской и перестал общаться с людьми; Дега, страдая от все ухудшающегося зрения, сделался еще большим мизантропом и заявил, что никогда больше не будет выставляться. Моне все меньше удовлетворяли его работы, хотя он мог теперь запрашивать любые цены за свои картины; Ренуар оставался таким же добродушным и сохранил насмешливость, хотя временами эта насмешливость переходила в горечь. В Париже он появлялся только на выставках своих картин, – из-за хронического ревматизма жил на юге Франции. А Легро горевал, что не добился того признания, о котором мечтал, хотя и считался одним из самых лучших граверов, и не только во Франции; Далу же, печально думал Огюст, стал его самым жестоким соперником; они больше не разговаривали.
Неудивительно, что Каррьер для него такое утешение, размышлял Огюст. В этом бессердечном мире Каррьер оставался сердечным, а ведь он очень беден, больная жена, пятеро маленьких детей. Когда Каррьер находил покупателя, он знакомил его и с другими художниками, устраивал у себя в мастерской выставки своих друзей, приводил всех покупателей смотреть скульптуры Родена. Это был человек редкой доброты; у него было квадратное лицо, вьющиеся темно-русые волосы, густые усы и ласковые карие глаза. Над своими картинами он работал с завидным упорством и в живописи всегда придерживался собственных взглядов. Никому – ни Верлену, ни Доде, ни Золя, которые позировали Каррьеру, – не удалось на него повлиять.
И вот теперь, зная, что Огюст слишком непрактичен, чтобы следить за переездом, Каррьер спокойно, без суеты, но твердо давал указания.
Сборы были почти закончены, когда Огюст вдруг заметил Розу. Она стояла в дверях, нежно держа в руках статуэтку, сделанную им много лет назад, боясь доверить ее посторонним. Она улыбалась, заботливость Огюста радовала ее, она верила, что переезд в деревню будет для них обоих обновлением. Роза никогда не любила этот дом, слишком жаркий и душный летом, сырой и неуютный зимой, куда почти не проникало солнце.
Увидев Каррьера, она застыла на месте, словно перед лицом опасности, но Огюст представил ее:
– Мадам Роза.
Каррьер взглянул на статуэтку и мягко сказал:
– Прекрасная работа, мадам Роза. Я люблю рисовать детей. Я всегда рисую своих.
Роза покраснела, она уже давно не выглядела такой молодой, и сказала:
– Ты слышишь, Огюст? Я всегда говорила, что тебе надо лепить детей.
Огюст промолчал. Наступила неловкая пауза. Роза затаила дыхание, неужели он при всех решится сделать ей выговор? И тут Каррьер добавил:
– Огюст отлично умеет лепить детей.
И Огюст улыбнулся, а Роза облегченно вздохнула.
– Уже поздно, дорогая, – сказал Огюст.
– Я готова.
– Тебе понравится Белльвю.
– Я в том не сомневаюсь.
– Чудесное место, мадам Роза, – сказал Каррьер. – Дом стоит на холме, оттуда прекрасный вид на Париж. Прежде чем покупать, Огюст пригласил меня взглянуть на дом. Вам будет там хорошо.
– Спасибо. – Ей уже сейчас лучше. Наконец-то Огюст представил ее своему другу художнику. – Мосье Каррьер, я уверена, что полюблю Белльвю.
2Огюст сказал Розе, что дом в Белльвю «прямо в стиле Людовика XIII и в то же время обыкновенная пригородная вилла». В таком большом доме они еще никогда не жили – трехэтажный, много комнат, обилие света. Она согласилась, что дом прекрасно расположен, с видом на Париж и Сену, и вокруг луга и сады. Роза любила деревню, ее простоту, свежий воздух, цветы, и Огюст сам так восторгался их новым приобретением, что она верила – теперь он будет чаще бывать дома.
Ее радость была для него лучшим вознаграждением. Кажется, найден идеальный выход из положения.
Но жизнь его только еще больше усложнилась, и Огюст понял, что идеального выхода из создавшегося положения ему не найти. В Париже он целиком принадлежал Камилле, Роза больше не мешала им, а в Белльвю старался не думать о Камилле, брал Розу на прогулки и пытался отвлечься. Но ни та, ни другая не чувствовали себя спокойно. Он гордился тем, что, перебравшись в Белльвю, ублажил обеих, а кончилось тем, что каждая думала: он отдает предпочтение ей, а не мне. Он разрывался между двумя, а они ни в какую не желали считаться с этим. Они не хотели делить Огюста.
Его наградили вторым орденом Почетного легиона – теперь рыцарский крест заменили розеткой, – и хотя Огюст заподозрил, что его просто задабривают, – Гийом стал членом Французской Академии, а он нет, – тем не менее принял эту награду. Но Роза и Камилла проявили к этому событию полное равнодушие.
Когда он сказал Розе, что награжден вторично, она заметила:
– Ты никогда не называешь меня любимой. Так трудно, Огюст?
– Тогда не нашивай розетку.
– Уж не хочешь ли ты сказать, что она умеет держать в руках иголку? Конечно, я пришью. Ты ведь хочешь, чтобы это было сделано как следует. – Он не ответил, а она взглянула на картину, которую он держал в руках, и спросила: «Кого это должно изображать?»
– Мой портрет, написанный Каррьером. Я хотел подарить его тебе, думал, понравится, и ты его здесь повесишь.
– Ты очень похож. Но лицо добрее, чем у тебя. А тот, для которого ты позировал этому американцу, Сардженту?[105]105
Сарджент, Джон-Сингер (1856—1925) – американский художник, живший и работавший в Англии. Прославился своими блестящими, виртуозно написанными портретами.
[Закрыть]
– Я его повешу в мастерской.
– Для нее?
– Берешь портрет? Я не стану тебя упрашивать.
– Мы прожили тридцать лет, и я должна вымаливать ласковое слово.
– Двадцать девять. И кажется, больше, чем следовало. – Он размахнулся, словно хотел хватить картиной о стену.
Роза, напуганная его неистовством, выхватила портрет, но сказала: пусть вешает сам, а то на него не угодишь.
Когда портрет был водворен в столовой, Роза возненавидела себя за уступку. Она понимала, что ей следует возненавидеть Огюста – делить его с другой такое унижение, – но ведь ее ненависть лишь оттолкнет его. Пришивая орденскую ленточку на сюртук, она несколько раз укололась.
Камилла за последние месяцы много наслышалась о портрете работы Сарджента и, когда он сказал, что портрет предназначен для их мастерской, обрадовалась, хотя решила, пока он совсем не покинет Розу, делать все ему назло. Вешая портрет, она сказала:
– Сарджент схватил главное. – Тон ее был слегка язвительным. – Ты у него похож на Мефистофеля. Эгоистичный. Жестокий.
– Тогда отдай. – Лицо Огюста стало краснее бороды.
– Нет. Мне нравится его правдивость. Хорошо, хоть не все лгут.
– Я увез Розу. Устроил тебе выставку.
– Мне это принесло больше вреда, чем пользы. Скульптуры были очень плохо размещены.
– Это вина Далу. Он ведал организацией, я ничего не мог сказать, меня бы обвинили в пристрастном отношении.
– А завтра ты мне заявишь, что я мало работаю.
– Не заявлю. Некоторые твои работы понравились, кое-какие были проданы, но…
Она прервала его:
– Пока я работаю с Роденом, меня всегда будут сравнивать с Роденом.
– Не обязательно. У Майоля свой стиль, и у Бурделя тоже. Я никогда не указываю, что делать. Только– как делать, У тебя выдающийся талант, дорогая, ты первая женщина-скульптор, чьи работы мае нравятся, но ты растрачиваешь энергию по пустякам.
– А ты нет?
– Я не позволяю, чтобы это отрывало меня от работы. – И в доказательство тут же занялся эскизами к «Бальзаку» – он сделал их несколько сотен и сказал: – Мне нужны модели. Поможешь найти?
Она понимала, что должна гордиться доверием, но ей не понравилось то, что он подсовывает ей «Бальзака», явно отвлекая ее от разговора.
Помогая разбирать наброски, она была захвачена его замыслами. Он рассматривал их с необычным возбуждением и подъемом и говорил:
– Лучше всего описал его Ламартин[106]106
Ламартин, Альфонс де (1790—1869)-французский поэт, историк и политический деятель. Представитель романтической школы.
[Закрыть]. Послушай! – И Огюст процитировал: «У Бальзака было лицо, как сама стихия; огромная голова, волосы, разметавшиеся по воротнику и щекам, как у человека, который никогда не был знаком с ножницами; глаза, полные огня, огромных размеров тело, соединенное с головой массивной шеей, Короткие ноги и короткие руки. Он был широкий в бедрах и плечах, но не тяжелый, в нем было столько энергии, что он не чувствовал своего веса; этот вес, казалось, придавал, а не лишал его силы, он с легкостью жестикулировал своими короткими руками».
Камилла восторженно сказала: – Замечательное описание! Ты сможешь передать все это?
– Я должен, – сказал он, не поднимая головы от набросков. – Постараюсь найти это в натурщиках. Нужны мужчины средних лет. Не красота, а внушительность.
Глава XXXVI
1И вот разнесся слух, что мэтр Роден ищет модель для «Бальзака». Его первые помощники, включая Камиллу, по всему Парижу искали тучных, приземистых, коротконогих мужчин. Ни один из натурщиков, работавших у Огюста, не подходил. Пеппино был слишком изящен, Жубер высок, а другие либо слишком молоды и красивы, либо слишком мужественны и хорошо сложены.
Ни один из натурщиков, найденных помощниками, не удовлетворял Огюста, но приходилось мириться с тем, что есть, – пора было приступать к работе. Он сделал пробные слепки для «Бальзака» во множестве поз, но постоянно возвращался к одной основной идее: массивная голова, асимметричная и чересчур большая для тела; толстый выпуклый живот, слишком тяжелый для коротких ног, а все вместе – сочетание непропорциональных деталей. Помощники обрыскали весь Париж и не могли найти человека, отвечавшего всем этим требованиям, и тогда Огюст взял у одного натурщика руку, у другого – ногу, у третьего – торс, у четвертого– живот. «Придется, видно, идти вот такими сложными путями», – думал он. После того как он сделал семнадцать глиняных заготовок «Бальзака» – обнаженный, во весь рост, – он пригласил помощников посмотреть.
Они входили медленно, один за другим, почти робко, во главе с энергичным низкорослым Антуаном Бурделем, романтичным юношей из провинциального Монтобана, который любил лепить монументальные фигуры; сладкоречивый, с каталонским акцентом Аристид Майоль, недавно перешедший с живописи на скульптуру и поступивший к мэтру потому, что тот преклонялся перед нагой женской натурой; и Камилла – она бы предпочла, чтобы мэтр ее не приглашал. Помощники осматривали фигуры неторопливо и внимательно. Одного непродуманного слова было достаточно, чтобы привести мэтра в ярость, но откровенно высказанная критика, как бы она ни была сурова, могла вызвать у него быстрый одобрительный кивок головы и даже легкую улыбку.
Семнадцать «Бальзаков» на временных подставках, каждый в двадцать футов высотой. Вопреки своему правилу, Огюст не делал предварительных слепков в треть или половину окончательного размера. Стремясь проверить все до мельчайших подробностей, он сделал их в полную величину памятника, хотя это потребовало от него огромных усилий, и мастерская была так забита фигурами, что нечем было дышать.
Он сказал, словно извиняясь:
– Я только начинаю. Это первые пробы.
Наступила тишина. Затем Бурдель, обычно высказывавшийся первым, указал на один из слепков – фигура стояла на громадном толстом стволе дерева, словно вырастая из него, руки в бока, живот выступает, толстые, короткие сильные ноги широко расставлены – и сказал:
– Это, пожалуй, самый зрелый вариант, мэтр. Недовольный молчанием остальных, Огюст спросил:
– Ну, а что скажут другие?
Майоль, предпочитавший словам работу, неохотно проговорил:
– Мне нравится сатир. Очень хороша поза. На мой взгляд, в Бальзаке было нечто от сатира.
Огюст повернулся к Камилле.
– А вы, мадемуазель?
– Каждый из них обладает своими достоинствами, – сказала она.
– Все семнадцать? – недоверчиво посмотрел он на нее.
Она кивнула, уверенная, что это замечание его рассердит. Если Огюст равнодушен-значит, мнение ему безразлично, если сердится – значит, дорожит им.
И вдруг он понял, что его не удовлетворяет ни одна из фигур. И помощников – тоже, что бы они там ни говорили. Он же видел, как они переминались с ноги на ногу, смущенно кашляли, прежде чем заговорить, и с каким трудом приходилось вытягивать из них слова. Их вежливость действовала охлаждающе. Он сказал:
– В искусстве нет места любезности, искусство признает только правду. – Но помощники по-прежнему хранили молчание.
Он вдруг отпустил их, бросив короткое:
– Спасибо. До свидания.
Но на этом не кончилось, все только начиналось. Он не мог лгать себе. Борьба с самим собой была еще впереди.
Всю ночь напролет Огюст изучал пробы, и рассвет застал его за работой над семью из них. Но он знал, что решение пока не найдено.
Он призвал Камиллу помочь ему разобраться, на какой из фигур сосредоточить внимание, и был разочарован, что она предпочитает Бальзака одетого. Теперь он понял, почему она уклонялась от ответа.
– Одетого? – повторил он. – Возможно. – Все семь фигур, которые он отобрал, были обнаженные. – Но сначала нужно было сделать его обнаженным, чтобы правильно вылепить тело. Нельзя приниматься за одежду, не создав тело.
– Зачем тогда спрашивать? – сказала Камилла. – Ты все равно ничего не слушаешь.
– А кто слушает других? Разве кто когда внемлет разуму?
– Но у тебя хватает и своего разума, – язвительно заметила она.
– У меня-то? Да я сумасшедший. Хочу сочетать уродство с величием – вещь почти что невозможная.
– Однако ты пытаешься. Почему, Огюст?
– Плохая ты утешительница. – Все отобранные фигуры теперь казались ему надуманными. Он хотел разрушить их, но Камилла удержала. Она спросила:
– Какая тебе нравится?
– Никакая, я сейчас слишком устал.
– А когда ты не устал?
Он указал на обнаженного Бальзака, отмеченного Бурделем, как бы вырастающего из ствола дерева, словно Геркулес.
– Тогда работай над ним. Ты всегда твердишь, чтобы я следовала только внутреннему голосу.
Огюст так и поступил, но трудности не кончились. Он сосредоточился на фигуре Бальзака, вырастающей из ствола дерева, и стал делать множество вариантов, не останавливаясь ни на одном. Эти фигуры передавали плодовитость Бальзака и живость его натуры, но не величине. Прошло много месяцев в изучении бесчисленных моделей, но все было не то. И поскольку он забросил все дела, заработков не было. Аванс в десять тысяч франков постепенно таял, а Огюст был занят только Бальзаком. Он читал его и перечитывал. Он сам был отцом Горио и Растиньяком и бесчисленным множеством других созданных писателем героев, а их было две тысячи. Он искал Бальзака, как сам Бальзак искал своих героев. Он всегда любил этого писателя; теперь полюбил в нем человека и его ненасытную любознательность. Нужно суметь передать титанизм творческой энергии Бальзака, даже если на это уйдет весь остаток его жизни. Вот в чем секрет-творческая энергия Бальзака! Как только он найдет это в модели и переведет в глину, дело будет сделано[107]107
Позже, вспоминая работу над «Бальзаком», Роден говорил: «…ни одна статуя не доставляла мне так много забот и труда, не была таким испытанием моего терпения. Сколько раз путешествовал я в Турень, чтобы понять великого романиста! С каким рвением добивался я текстов, рисунков и других нужных мне материалов! В Азей ле Ридо я, желая приблизиться к своей модели, дошел до того, что сделал бюст извозчика – он напомнил мне молодого Бальзака таким, каким я представлял его себе по рисункам и литографиям…».
[Закрыть].
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.