Текст книги "Солнечный ход"
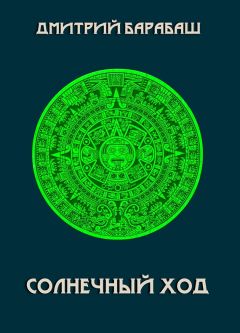
Автор книги: Дмитрий Барабаш
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Будда
Девять муз исполняли танец
в храме любви.
И какой-то бутуз толстопузый
сидел в середине.
Ему нежные шорохи женщин
казались милы.
Он сидел, вспоминая свое
бесконечное имя.
Были четки в руках у него…
Сквозь отверстие в храме
солнце падало в круг.
Музы землю вращали ногами.
Пирамиды в руках, а не четки.
Не четки, а куб.
Как его ни крути —
появляется новое слово.
Этот мальчик был так же понятен,
как глуп.
Он творил этот мир.
И какой только верой
И какой только верой они ни пытались понять,
и каким только зреньем узнать
сквозь приборные доски…
Безучастной была всех морей леденящая гладь,
и недвижно лежали луны золотые полоски.
Так мала становилась земля, что небесных теней
было видеть нельзя из-за их всеобъемлющей выси.
Из-под черной воды паруса отражали коней,
колесницы богов и оскал дрессированной рыси.
Лимонад
Развязка брезжила.
В лучах ослабевал
непрочный узел
на глазной повязке,
и мир вокруг привычно прозревал,
не оставляя места нашей сказке.
Всходило солнце
в миллиардный раз,
и утро пузырилось лимонадной
народной радостью,
как веселящий газ,
как лучик
в каждой клеточке тетрадной.
Бонус от Хроноса
Мне игру страстей порочных
за окошком не унять.
Муравьи в часах песочных
повернули время вспять,
поднимая по песчинке в верхний конус день за днем.
Словно Хронос дал мне бонус,
чтобы нам побыть вдвоем.
Другие берега
Не отклоняйся от маршрута,
по звездам следуй в те века,
где жизнью воплотится чудо
и станут зримы берега.
Они, лежащие в тумане
еще не писаных страниц,
уже очерчены томами
великих книг, и вещих птиц
к нам протянулись голосами,
и указали ясный путь.
Вы только не сбивайтесь сами,
от плевел очищая суть.
Странник
Запах верблюда и зноя
сливался с землей.
Я ниоткуда ведомый
двугорбой спиной,
ноги, как корни,
пускавший в пески
предсказаний,
лица скрывавший
обрывками шелковой ткани —
странник, стремящийся к тайнам
немых пирамид,
мыслью узор наносил
на горячий гранит
и шлифовал его словом
на всех языках,
пальцем рисуя круги
на зыбучих песках.
Случай на Сухаревке
Глебу Кузьмину
В студенческие годы я некоторое время вместе с Глебом работал дворником на Колхозной (бывшей-нынешней Сухаревской) площади. Нам на двоих дали трехкомнатную служебную квартиру в доме конца XVII века. Состояние квартиры соответствовало ее возрасту. Мы потрудились, чтобы приспособить ее для жизни. В результате одна из стен превратилась в коллаж из рваных страниц «Шпигеля» и еще нескольких буржуйских журналов, изобиловавших обнаженной натурой. В центре композиции находилась батарея теплосети, на которую мы поместили ренуаровскую репродукцию: голую бабу с огромным задом, а за батарею воткнули банный веник. Стена получилась не только антисоветская, но и противозаконная. Тогда за такую порнографию могли и выгнать из университета, и припечатать по УК.
Однажды ко мне приехали западные немцы (точнее немки), учившиеся в Пушкинском (ГИРЯ).
Мы набили трубочку анашой и беседовали о вечном, как вдруг в квартиру ввалился крепко выпивший товарищ (ныне очень известный журналист) и, не сумев найти общий язык со мной и моими подругами, сильно осерчал. Так сильно, что побежал на Садовое за ментами. Последовавшие за этим события и легли в основу этой зарисовки.
Ты был всегда немого строг,
когда сдувал с ладони осень.
Ты был, как памятник, серьезен
и безупречно одинок.
Ты, помнится, лепил бумажки,
чтоб скрыть с настенного панно
девчонок озорные ляжки
и нос сеньора Сирано.
Как будто вздумал извиниться
перед ментами Ренуар —
с трудом газетная страница
прикрыла офигенный шар
земной, невыдуманной жопы,
в натуре солнца в тыщу стрел
(Амура).
Ах, если бы узнали копы,
какой ты прятал беспредел!
Мы мирно покурили шмали
с врагами красного труда,
а ты решил, что нас поймали
и нам не избежать суда.
Ты был так мил в своем наитьи,
счищая полчища улик:
«Творите, ангелы, парите!
Я к вашим каверзам привык».
Ты выметал страну до кости,
до звона тротуарных плит.
Но не было ни капли злости,
ни осуждений, ни обид.
Я так скучаю по Колхозной,
по Сухаревке, по тебе,
и, как и прежде, о серьезной
любви и ласковой судьбе.
Чем больше близких оставляет нас
Чем больше близких оставляет нас,
тем мир иной становится нам ближе,
и выставляет, словно напоказ,
все то, что не проистекает свыше.
Разговор о рае
Как ты там поживаешь,
где уже не живут?
Что ты там пожинаешь
с облетевших минут?
Жизнь прошла, как приснилась,
и в холодном поту
ты проснулся на милость,
ты родился по ту…
Я пока что хромаю,
и, творя чудеса,
понимаю, что раю
не нужны голоса.
Там достаточно песен,
до отрыжки – любви.
В плюше зрительских кресел
сладко спят соловьи.
Отрезвевшие лица,
обескрыленный мир.
Ты хотел мне присниться,
выбиваясь из сил.
Рассказать, перечислить,
помочь, остеречь.
Но мне хочется мыслить
и попробовать речь
на зеркальность, изломы,
на вещественность слов.
Подстели мне соломы,
чтобы в стойле ослов,
чтобы в зрительном зале,
чтобы в облаке снов,
мы, смеясь, изучали
те основы основ.
После сорока
После сорока
первый уходит в секту,
второй – в запой,
третий – вообще.
Шестой – остается собой.
Что лучше?
Я так и не могу разобраться,
кости мешают взобраться
и посмотреть оттуда:
Так ли скользит минута?
Так ли стучат года?
Так ли течет вода?
Кто поменялся с нами
за тысячи лет местами,
или мы стали сами,
сплетаясь шестью хвостами,
раскручивать синий шар?
Или на этом пике
все люди равновелики?
Лики слепят, как блики
от промелькнувших фар.
Или на этом месте
лучше забыть о чести
и полететь в пустую
солнечную трубу.
Кто-то играет в черви,
кто-то меняет крести,
кто-то дудит на саксе,
вывернувшем губу.
Уроки рисования
Нарисуй, дружок,
не кружок, а дверь.
На засов запри
и навесь замок.
А под ней казенный
лежит портфель…
На него больной головой прилег
нашептавший нас на досуге Бог.
И не сед он даже по тем местам,
где, к стыду сказать,
не бывать устам,
потому что нет подходящих слов
у бредущих снизу земных послов,
потому что шаг
башмаков бескрыл
нестерпимым скрипом
сырых перил,
от которых лестничный
тот пролет
воспарил над сонмом
кирпичных сот.
До него дойти, как взлететь во сне
и проснуться бабочкой на стене,
под подъездной лампочкой
в потолке
на кристально
выветренном плевке.
Синица в руке
Наверное, я придумал себе богов,
как жаждущий славы —
венки, ордена, чины,
памятники, дураков,
печаль, скользящую
по долине твоей щеки
рекой,
которую можно поймать,
словно ящерицу, рукой…
Играться потом с хвостом,
поститься, жениться,
пускаться в карьерный рост.
И хвост тот в руке будет биться,
как та синица
в памятник,
украшающий тот погост.
Отражения
Проведи рукой по окончаниям.
Чувствуешь за ними продолжение?
Нежных пальцев легкие касания
возвращают к жизни отражения,
и они, срываясь с амальгамы,
мотыльками вьются в лунном свете,
бабочками солнечной поляны.
В колпачках сачков хохочут дети.
Творчество
Опять привет!
Я вышел на пустыню.
Здесь нет земли, и неба тоже нет.
Есть только сны
про бога и богиню,
лишивших мир любви и новизны.
Куда грести?
Ни весел, ни веселья.
С кем говорить?
Пойди – найди жука.
И время здесь упало от бессилья,
и в нем завязла левая нога.
– Привет!
– Привет.
– Куда мне, как, откуда?
Ни камня нет, ни черта, ни Иуды.
Желтушная песочная свобода —
нет ни земли, ни солнца, небосвода…
Присесть куда, прилечь,
куда взглянуть?
Начну творить.
И тут же ниоткуда
проглянет лес.
И скудная минута
тебя поднимет снова до небес.
вангельская песенка
Герману Виноградову
Злоба твоя, как бездонная бочка.
Смотришь – по пояс,
а прыгнешь – по грудь.
Так вот и прыгаю
с кочки на кочку,
чтобы проснуться
еще где-нибудь.
Ласки твои,
словно сонные глазки,
в них немота всех земных паутин.
Был бы я Зевсом —
в небесной коляске
я прокатился бы мимо скотин.
Только гитара меня не выносит
из-под безумного стука колес.
Сколько же скрючено
в знаке вопроса
слез, откровений,
проклятий, угроз?
Я бы давал вам на это ответов —
только за то получил бы в ответ
сто миллионов
счастливых билетов
тех, от которых спасения нет.
Если б на небо
я с ними явился
и предъявил в свой
назначенный час,
Ангел встречающий
так удивился б,
что посмотрел бы
с укором на вас.
Пили б мы горькую
с ним на поминках
наших истлевших
и радостных тел:
– Я из Ростова.
– А я умер в Химках.
– Как же из Химок
взлететь ты сумел?!
Вот и сидим мы
с тобою, дружище,
смотрим на землю
теперь свысока.
– Мне приглянулся
смеющийся нищий.
– А мне —
протянувшая небу рука.
Божий дух в человечьей шкуре
Я не знаю, чем питается скорпион в Сахаре,
задирая хвостик свой ядовитый к сини.
Он влюблен с рождения, но он не знает,
что найдет в загадочной половине.
Словно в сахар снов, он в песок играет
и ползет по дюнам, не видя солнца,
к той заветной лунке, где поджидает
та, в которой кончится и начнется
еще два десятка смешных хвостатых.
Скушав папу, и с лютой тоской по папе
разбегутся лучиками по свету.
Так и люди гуляли с пером на шляпе,
и, как буквы летели с колес в газету.
Никогда Христос не лишался жизни,
не сдавался в плен, не слезил словами,
не носил венков, не боялся мыслей,
не кормил собой, не игрался с вами.
Всякой жертве начертан короткий путь.
Путь – пылинки мысли в песчаной буре.
Позволяя съесть себя, не забудь,
что ты – Божий дух в человечьей шкуре.
Шахматы
Не нужно расширять свой кругозор,
плетясь в сомненьях, путаясь в тоске.
Великих истин мало. Их набор
поместится на шахматной доске.
От короля до пешки – всё про то,
и Гамлет, и да Винчи, и Гораций.
Как мало чистых истин, но зато
как много черно-белых вариаций.
Где же ты,
страна моя свободная?
Деньги бля, природа человечества.
Деньги блядь, свободы не видать.
Феньки для любимого отечества
я устал бесплатно вытворять.
Где вы там, тусня моя фарцовая,
кормите бифштексами мужей,
им в усы и бороды засовывая
Мандельштамом сваренных ершей?
Лучше бы женился я на Андрэе,
и уехал вместе с кегебе,
чем зациклить голову на Адлере
и поставить крестик на судьбе.
Где ж ты, шлюшка, слава подноготная,
милая, издерганная дрянь?
Где же ты, страна моя свободная,
золотая ситцевая рань?
Искусство перевода
Переложить бы Тору на стихи —
ей вторили бы даже мусульмане,
ей вторили бы даже дураки,
и даже те,
кто враждовал с Богами.
МАСИС Окро Окрояна
(авторизованные переводы)
Золотая книга
Моя душа хранила свет
в скалистой тишине.
Он чистым был, как первый снег,
кружащийся извне
в молитвенник моих стихов,
где нет пустых страниц,
где всюду предков скорбный зов
и тени вещих птиц,
несущих Господу хвалу
за каждую строку,
которой с ним поговорить
и погрустить могу.
Он приоткрыл мне неба дверь
вселенскою рукой.
И стала жизнь моя светлей
страницы золотой.
Река моего сердца
Любовь моя,
я нахожусь в плену
прекрасных черт
и чистоты душевной,
высоких слез,
текущих, словно реки,
из самых светлых
в этом мире глаз
к цветам земным,
к траве, что исцеляет
моей печали тягостную боль.
Твоя любовь природой окружает
меня, когда от потаенных троп
в горах, от повседневных страхов,
туманами ползущих по земле,
из-под ноги танцующие птицы
взмывают ввысь.
Я стал, наверно, стар,
и кроткий птичий нрав,
их лиц веселых искры
несутся прочь
от каждой мудрой мысли.
Но счастлив,
несмотря на их испуг.
Ты роза нежная
в ладонях моих рук.
И мы с тобой,
мой милый друг, не будем
злых мыслей допускать
к своей любви
и, все-таки,
дойдем до самой сути.
Как птица – день,
как птичьи стаи – годы
от нас уносят только суету.
Судьба сурова к тем,
кто хочет счастья,
им не делясь.
Мы пересилим страсти.
Мы обретем такую чистоту,
в которой Джани
будет постоянна,
как памятник и слово Окрояна,
как вечное величие вселенной,
воссозданной без фальши
и обмана.
К огням желаний
буду слеп и стоек,
как Джани не хотела бы страстей,
как не был бы
до приторности горек
любовный пир
искусственных сластей.
Я слова не скажу в угоду стилю
и прошлое сегодняшним осилю.
Я толпам выспренних
тупиц, лжецов, скупцов
открою их бессмысленные войны
величьем Масиса,
всесилием любви
и неприступным
холодом вершины.
Меня корить?!
Я лишь певец горы.
Сонеты, оды, будут погрешимы
перед ее алмазной чистотой,
дробящей небо в пыль.
Так выпрямите спины
и восхититесь строгой красотой.
И Бог мой, Джани,
мысль любви высокой
тот час же хлынет на твои поля,
в твои долины,
утверждая Бога.
Переселение
Переселение застыло
в моих глазах,
в ранах моей молитвы…
Мир был когда-то прекрасен
под золотым крестом.
А потом были горькие травы —
козобород и резак —
люди ели отраву.
Спали мало, как птицы,
как волки в предчувствии битвы,
мы клыками цеплялись за стебли,
за жизнь, за молитвы.
Но поля полыхали
огнями тюремных оград,
за которыми мертвые,
как и живые, молчат.
Мир оставил их вопли.
Лишь мечетей унылый аккорд…
Даже желтые степи
от горя и боли оглохли.
Слышал Ты наверху,
как мой гордый,
мой твердый народ
прошептал одиноко молитву
в зловещей ночи?
Когда дьявол из мрака поднялся,
его палачи
без огня пожирали
сырыми младенца и мать.
Кто-нибудь попытался
исчадия ада унять?
Мир молчал,
только я надрывался,
под тяжестью зла,
и держал, сколько мог,
моей Родины колокола.
Их давили о землю
безмолвную,
мой Армянин
был растерзан врагами
и продан коварством немым.
Как же долго все это продлится?
Как зла тишина,
когда в желтых пожарах
дымится родная страна
и сгорают деревни.
Как долго опять и опять
нашим душам с тюремных полей
в небеса воспарять…
Небесная гора
За какие грехи,
за какие заслуги
вручены моим людям
распятые руки
и проклятые дни,
как святые дары?
Почему ты смеешься
над искрами жизни —
светлячками на склоне
библейской горы,
величавой и мудрой?
Там лазоревым утром
в седину моих дедов
праматерь земля,
свой узорчатый свод,
как вершину Масиса,
наши скорбные дни
до небес подняла…
Знаешь ли, сколько боли
теперь в глубине моих склонов,
сколько горьких стенаний
в небесных истоках души?
По дорогам чужим их скитается
пять миллионов.
Еще пять миллионов
по братским могилам лежит.
О, Господь мой,
когда же народ
в Твоем солнечном круге,
в Твоем образе светлом
воспрянет,
и, с неба взглянув,
свои чистые склоны
гора нам протянет, как руки,
всем нечаянным беженцам
счастье и веру вернув.
ПРИКОЛЫ МИРОЗДАНИЯ
Река Ипостась
Река Ипостась протекала под круглым холмом.
Он круглым был сбоку и сверху, но снизу подрезан.
Она заострялась, как лезвие синим железом,
к закату кровея, к восходу – лучом серебрясь.
Там лес подрастал и лианы качались на соснах,
кидаясь тенями и воплями злых какаду,
а берег блистал, словно меч, в отражении звездном,
и снова краснел, растворяясь в небесном стыду.
А речка текла, огибая холма волосатость,
ершистость, как ноздри разинутых ввысь тополей,
всех пенных напитков
и бликов шипучих игристость
вливал в ее воды сбежавший с вершины ручей.
Все вроде бы есть для начала любой растомани:
черешен и яблонь, шиповников, тины, крапив,
полыни, малины, и пахнущей сахаром дряни,
туманом ползущей по воле непаханых нив.
Все вроде готово. Иголки снесли в муравейник.
Проухала ночь. Прохрустел в скорлупе соловей.
Луна проступила, и волк потащил свой репейник
в незримую тьму, обнажая ее до теней.
2014
Подзорная труба
Однажды с ним заговорив,
не сможешь мыслить по-другому.
Пытался возвратиться к дому,
но зренье спутало шаги.
Земля коварней океана —
и надо ль каждого барана
спасать от смерти и тоски?
Так начинаются грехи,
со слов о совести, со сказок.
И никаких тебе подсказок
и направляющей руки.
Идешь, бредешь самим собой,
зато с подзорною трубой.
Земля не тверже,
чем вода
Земля не тверже, чем вода.
Пройди по ней – и сделай чудо.
Все остальное – суета.
Кто оказался прав?
Отсюда
и начинается беда,
и все проклятые вопросы.
Но гусь-хрустальные морозы
скользят, ступив на гладь пруда
своей веселой красной лапкой.
И каждый волосок под шапкой
земного требует суда.
Корреспондент
Корреспондент многотиражной газеты —
птица подопытная, мышь летучая —
курит дешевые сигареты
и ждет подходящего случая,
чтобы, летая по темной комнате
между тысячами перекрещенных струн,
вспомнить о юности, о совести
и устроить шум,
броситься в запретные сети,
затронуть струны чужой души,
но вдруг понимает,
что на этом свете
для жизни все способы
одинаково хороши.
Тепло нездешнего начала
NL
Я памятник тебе воздвиг…
А ты слиняла.
И даже не звонишь мне на работу.
Не то чтобы залезть под одеяло
и проявить приятную заботу.
Ты, говорят, рожаешь и колдуешь
над очагом в своей многоэтажке.
И строгий муж показывает кукиш
моим воспоминаньям о Наташке.
А помнишь, как-то мы лежали рядом,
и я сказал: «Запомни – это счастье».
Так хорошо, что даже слова матом
не вымолвить, не внять
от сладострастья.
Теперь у нас с тобой не наши дети.
Мужья и жены – в общем-то чужие.
Но правду мы храним
в большом секрете.
Схлопочешь в лоб —
лишь только расскажи им.
Я размордел, ты высохла и сжалась.
Стареем, мать, не становясь добрее.
А счастье – прах,
пророческая жалость
к самим себе зимой у батареи.
Но есть тепло нездешнего начала.
Я это знал.
Ты это замечала.
Время тайных убийств
Время тайных убийств
без судов и следствий.
Просто пуля в затылок —
и все дела.
Просто у самолета —
перелом крыла.
Просто нашествие
стихийных бедствий.
Мы еще вспомним Сталина
с его шарашками.
Неприкрытую подлость
глаза в глаза.
Мы еще вспомним Брежнева
с Чебурашками,
взлетающими
в олимпийские небеса.
Человек в России звучит страшно,
как окончательный приговор.
Все остальное уже не важно.
Мы чувствуем правду в упор.
Таких времен не бывало прежде.
Цинизм вывалился, как кишки.
О какой же, милые, вы, надежде?
Про какие ж, милые, вы, стишки?
Сверкает лезвие брадобрея,
скользит по аорте
то вверх, то вбок.
И все-таки, чем человек добрее,
тем уязвленнее будет Бог.
2000
На паранойе
Я сижу на паранойе,
как червяк на перегное.
Рядом ходят воробьи
и вороны каркают.
А я сижу-гляжу на паранойе.
Это жуткая отрава.
Как хиляют слева двое,
как подходят двое справа.
А я сижу-гляжу на паранойе,
как будто все творится не со мной.
Возвышенные лица у конвоя
и на Кремле знакомый часовой.
Тысячелетья долбанулись лбами,
скрестили бивни в предрассветной мгле.
Я позвоню своей любимой маме,
чтобы теплее стало на земле.
Стихи о ленине
Немую смесь тоски и страха
я называю тундрой на душе.
И вместо рая в шалаше
я сразу вижу ленина в разливе.
Не горше и не слаще, не красивей;
а мерин-то – все сивей, сивей, сивей,
и только тундра – тундрой на душе,
и вечный ленин в вечном шалаше
сечет бумагу желтую крапивой.
Дымит костер. Свеча щекочет тень
башки подпертой кулачком на локте.
Он ни при чем. Он кукольник на когте
орла сиамского, парящего туда,
где испокон ни рыбы, ни труда,
а только тундра на тоске и страхе,
и вечный жид в смирительной рубахе
дрожит и дышит паром в шалаше.
Такая вот параша на душе.
Дилемма
Моя жена разумна и красива.
Ей до стихов, как мне до пулемета.
И в правоте ее такая сила,
что мне порой повеситься охота.
Послать бы слов скрещения за рамки
тревожных дат рожденья и кончины.
Но вдруг душа выходит все же в дамки
и достигает солнечной вершины?
А здесь стоят квартирные вопросы,
долги, машины, дачи и дубленки.
Здесь правят миром злые пылесосы,
а лицами – фарфорные коронки.
Такая вот забавная дилемма
на лбу моем пульсирует, как вена.
Семинария
Какой печальный семинар:
забор, небритые дебилы —
на шконке лежа…
Встанешь с нар,
а там – два шага до могилы.
Наук духовных ремесло
не учит правилам писанья
своей судьбы…
И смотришь зло
на все приколы мирозданья.
О деньгах и славе
А мне так хочется в больничку
или в глухую одиночку,
чтоб каждый день
писать страничку,
вдоль стен выхаживая строчку.
Мне хватит жизненных припасов
на сотню лет высоких фраз,
написанных без прибамбасов
и риторических прикрас.
Ни деньги, ни чины, ни слава
не стоят больше, чем покой,
в котором обретаешь право
касаться истины рукой.
Свобода слова
Нас спасет свобода слова,
у которой в ободах
я увидел вдруг иного
слова соловьиный страх.
Можно трактор в поле выйти.
Можно съесть омлет с лапшой.
Говорят, товарищ Витте
головою был большой.
Можно вырядиться в тройку:
сам – машина, сам – ездец.
И закончить перестройку
обрезанием сердец.
Правила игры
Я знаю правила игры
в другие, лучшие миры,
не изменившие реальность,
но изменяющие ей.
Как хороши, как свежи золотые
шары на дальнем фронте дней —
рождения, взросления, кончины.
Шары, которым нет причины,
и от которых нет теней.
Как были яблоки съедобны
и сны детей правдоподобны,
отражены в текучке лет,
освящены пустым терпеньем.
Как желт и пышен был омлет,
как он казался объеденьем.
Тут нож с шипучей сковородки
срывает сказочный покров.
И комбижир на подбородке,
и привкус соды, и коров
навозно-кислая закваска.
Как хороша бывает сказка.
Во сне нет никаких основ,
которые свергать не надо.
Но пробуждение – награда.
Ты жив еще. Без дураков.
Речь
Рафу
Кто-то кого-то зачем-то водил по пустыне.
Сорок лет, тысячу, две с лишним тысячи лет.
Если сказать то же самое только простыми
словами, без выпендрежа,
то смысла в написанном нет.
Выжил народ, обреченный на то, чтобы выжить
и выживать еще сотни кровавых веков.
Как там у Чехова? Каплю бессмертия выжать
может лишь тот, кто уже не боится оков.
Что за ошибка – засунуть в ожившее мясо
весь этот мир, эти реки и эти леса.
Есть только речь, и поэтому точная фраза —
больше, чем время, возвышенней, чем небеса.
Из руин
Руины в прошлом, но не велика
беда, плодившая высокие печали.
Я знаю точно, что одна строка
вернет нам всех, кого мы потеряли.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































