Текст книги "Наполеон"
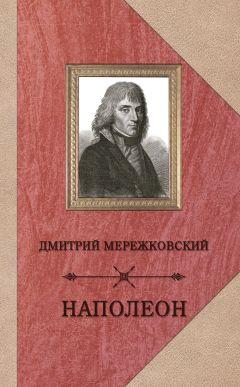
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
Но Эйлау – только туча на солнце: пронеслась, и солнце опять сияет, лучезарное. Четырнадцатого июня 1807 года – в годовщину Маренго – Фридланд. Все то же: «магнетическое предвидение» победы – уже она сама; ослепительно белый свет полдня. «Около полудня, когда Наполеон диктовал план сражения, лицо его было так радостно, как будто он уже победил».
Тут же завтракает, в виду неприятеля, под свистящими пулями, и, когда его остерегают, говорит с улыбкой: «Сколько бы русские ни мешали нам завтракать, мы еще больше помешаем им ужинать!» Делая смотр войскам, все повторяет в ответ на приветственные клики солдат: «Счастливый день, счастливый день, годовщина Маренго!» – и лицо его как солнце.
В начале боя у французов только 26 тысяч штыков против 75. Генералы предлагают Наполеону отложить бой на завтра. «Нет, нет, дважды на такую ошибку врага нельзя надеяться!» – отвечает он, заметив, что генерал Беннигсен, главнокомандующий русской армией, может быть обойден в тыл, окружен и раздавлен. К «ужину», как предсказал Наполеон, русские отступают, и Беннигсен уходит за Неман.
Неман – таинственный рубеж Востока и Запада. Наполеон, подойдя к нему, остановился, как будто задумался: переходить или нет. Не перешел, – может быть, вспомнил, что час его еще не наступил.
Двадцать пятое июня – полдень; полдень лета и суток.
Лениво дышит полдень мглистый,
Лениво катится река,
И в тверди пламенной и чистой
Лениво тают облака.
И всю природу, как туман,
Дремота жаркая объемлет.
Тютчев. «Полдень»
Парит на песчаных отмелях Немана; пахнет теплою водою, рыбою, теплой земляникой и смолистыми стружками из соснового бора. Душно; в зное зреет гроза.
Посреди Немана, против городка Тильзита, остановился на якоре плот. На плоту – деревянный домик с двумя на фронтоне, в венке из свежей зелени, сплетенными буквами – N и А: «Наполеон» и «Александр». Лодка Наполеона отчалила от левого берега; лодка Александра – от правого. Съехались: два императора вышли на плот и, в виду обеих армий, под бесконечное русское «Ура!» и французское «Виват император!» обнимаются как братья: обнимается Восток и Запад, Европа и Азия. Полдень лета, полдень суток – Наполеонова солнца полдень. Солнце в зените соединяет обе гемисферы небес. Восток и Запад.
– Государь, я ненавижу англичан так же, как вы, – говорит Александр.
– Если так, – мир заключен, – отвечает Наполеон.
«Никогда ни против кого я не был так предубежден; но после сорокаминутной беседы все мои предубеждения рассеялись как сон». – «Никогда никого я так не любил», – вспоминает Александр.
Стараются соблазнить друг друга. Наполеон называет Александра «обольстителем». Видит его, впрочем, насквозь, или думает, что видит: «Настоящий византиец; тонок, ловок, лжив; он далеко пойдет».
«Льстите его тщеславию», – советует Александр друзьям своим, пруссакам.
Восьмого июля 1807 года подписан Тильзитский мир. «Дело Тильзита решит судьбу мира», – говорит Наполеон. Вся Европа от Петербурга до Неаполя обращена против Англии; суша опрокинута на море. Исполинская химера почти исполнилась.
Солнце в зените; высшая точка достигнута, и начинается падение.
«Близким наблюдателям видимо было падение Наполеона уже с 1805 года», – говорит Стендаль. Это кажется невероятным: 1805–1807, Аустерлиц – Тильзит, полдень Наполеонова солнца. Но так и должно быть: солнце с полдня начинает падать к западу.
«Несчастный. Я тебя жалею: ты будешь завистью себе подобных и самым жалким из них». Это он знает-помнит всегда; но теперь, на вершине могущества, – яснее, чем когда-либо. Все получил, всего достиг – и вдруг заскучал, не захотел ничего. Власть, величие, слава, могущество – все, что людям кажется самым желанным, вдруг сделалось странно-пустым и ненужным. Захотелось чего-то другого; он сам не знает чего и до конца не узнает. Даже на Святой Елене не понял бы и не поверил, если бы ему сказали, что он, уже после Тильзита, в полдне своем, хотел ночи, хотел быть жертвою – самого себя растерзать, как Самсон растерзал Фимнафского льва.
«Гении суть метеоры, которые должны сгорать, чтобы освещать свой век». Сгорать, умирать – быть жертвою. «Из ядущего вышло ядомое, и из сильного вышло сладкое», – вот о чем золотые пчелы жужжат в императорском пурпуре.
Истинная, жертвенная душа Наполеона – незримая полдневная звезда.
Душа хотела б быть звездой, —
Но не тогда, как с неба полуночи
Сии светила, как живые очи,
Глядят на сонный мир земной, —
Но днем, когда сокрытые как дымом
Палящих солнечных лучей,
Они, как божества, горят светлей
В эфире чистом и незримом.
Тютчев. «Душа хотела б быть звездой…»
Солнце Наполеона, достигнув высшей точки зенита, падает к западу, и в полдне – вечер.
Вечер
I. Поединок с Англией. 1808
«Англия рассчитывает, что каждый исполнит свой долг» – этот простой и великий, великого народа достойный боевой сигнал поднят был на мачту фрегата «Victory» адмиралом Нельсоном перед началом Трафальгарского боя, в Испанских водах, у Кадикса, 21 октября 1805 года, на следующий день после Ульмской капитуляции – начала всемирных побед Наполеона. Нельсон «исполнил свой долг» – пал в бою и, умирая, имел счастье видеть победу: франко-испанский флот истреблен был английским, и этой победой утверждено окончательно, перед лицом самого грозного из всех врагов Англии, Наполеона, ее мировое владычество.
«Несколько французских кораблей потоплено бурей после неосторожно принятого боя», – скажет Наполеон о Трафальгаре, делая веселое лицо при печальной игре, но никого не обманет: флот уничтожен и тщетны все победы на суше – Маренго, Ульм, Аустерлиц, Йена, Фридланд. Так же как некогда в Египте, Абукире, теперь Трафальгаром, в Европе, он пойман, как мышь в мышеловке. Что пользы, если он пройдет и победит всю Европу и Азию до Индии? Суша без моря для него – могила заживо или вечная тюрьма, «Святая Елена, маленький остров…»
Континентальная блокада, объявленная Берлинским декретом 21 ноября 1806 года, – ответ на Трафальгар. Все европейские гавани закрываются для английского флота; все английские суда захватываются; все товары конфискуются как военная добыча, и сами британские подданные арестуются как военнопленные; прекращаются даже почтовые сношения с Англией. Задушить ее перепроизводством товаров, не находящих сбыта на внешних рынках, как «апоплексическим ударом от полнокровья», – такова цель блокады. «Надо, чтобы эти враги всех наций оказались вне закона», – говорит «Монитор». «Это борьба на жизнь и смерть» (Лакур-Гайе, «Наполеон»).
Возможен ли был успех блокады? Это решить не так легко, как тогда казалось и теперь кажется многим.
Если бы, говорят, блокада удалась, то задушена была бы не Англия, а Европа, за исполинской Китайской стеной от Архангельска до Константинополя. Чтобы осуществить этот чудовищный план, Наполеон обрекал себя на необходимость завоевывать или аннексировать все европейские страны, обрекал себя на их насильственные, разбойничьи захваты: так захвачены Португалия, Испания, Голландия, Папская область; он обрекал себя, наконец, на разрыв с Россией, главную причину гибели своей. И все это напрасно, потому что исход для английских товаров мог быть и вне Европы, в колониях.
«Нелепо было объявлять Англии блокаду, когда английский флот блокировал все французские гавани», – говорит современник. – «Этим безрассудным декретом Наполеон больше всего вредил самому себе: меньшую ненависть возбудило бы против него низвержение двадцати королей… Блокада могла бы удаться лишь в том невозможном случае, если бы все европейские державы соблюдали ее добросовестно; но одна открытая гавань уничтожала ее всю» (Бурьенн). Щели в этой непроницаемой закупорке всего материка открывало само французское правительство, выдавая «пропуски», licences, для необходимых ему товаров.
«Это было безумье, потому что вредило всем» (Бурьенн). Чтобы убить Англию, Европа должна была убить себя: вся она покрывалась блокадой, как стеклянным колпаком, из-под которого выкачан воздух.
Все эти возражения указывают только на трудности и опасности блокады; но опасность и трудность не есть невозможность, для Наполеона особенно. «Невозможное есть только пýгало робких, убежище трусов».
Надо помнить, что стратегический план его в поединке с Англией был исполнен только в своей небольшой части; остальная же, главная – овладение бассейном Средиземного моря как операционною базою против Англии, – осталась неисполненной не по его вине. Если бы весь план удался, то всю Европу осенил бы Наполеонов орел своими крыльями: левое – на Гибралтаре, на Босфоре – правое. «Все европейские народы двинулись бы, как отдельные корпуса одной великой армии, для последнего приступа на Англию» (Вандаль). А за Европой – Азия; вся земная суша опрокинулась бы на море.
Кажется, часть плана сообщил он Александру, еще в медовый месяц Тильзита. О чем они шептались тогда, как влюбленные, дает понять письмо Наполеона от 2 февраля 1808 года.
«Армия в 50 тысяч штыков – русская, французская и, может быть, отчасти австрийская, – направившись через Константинополь в Азию и еще не дойдя до Евфрата, заставила бы Англию дрожать и пасть на колени перед континентом. Я – в Далмации, ваше величество – на Дунае; через месяц армия наша могла бы быть на Босфоре. Удар отозвался бы в Индии, и Англия была бы покорена… Мир сейчас поставлен нашей тесной дружбой в положение небывалое… Мы оба предпочли бы жить в мире и покое, среди наших обширных владений, животворя их и благодетельствуя… Но этого не хотят враги мира (англичане). Мы должны стремиться, вопреки себе, к величью большему. Мудрость и политика требуют, чтобы мы делали то, что нам повелевает судьба, и шли туда, куда ведет нас неизбежный ход событий. Только тогда все эти миллионы пигмеев, не желающих видеть, что меры настоящих событий должно искать не в газетах прошлого века, а во всемирной истории, уступят нам и пойдут, куда мы им прикажем… Я открываю здесь вашему величеству всю мою душу. Дело Тильзита решить судьбы мира».
Нет, «всей души» он не открывает и здесь; если бы открыл ее, то, может быть, Александр отшатнулся бы от него в ужасе.
Вместе с походом на Индию он замышляет и поход на Египет, чтобы все три материка – Европу, Азию, Африку – поднять на Англию. «В то же время перед французскими портами в Северном море и в Атлантике появятся флоты и флотилии, производя ряд демонстраций; зашевелится Ирландия, возбуждаемая французскими агентами; и легкие крейсера, проникая во все моря, будут распространять террор во всех неприятельских водах. Англия, ошеломленная всеми этими ударами, не умея отвечать на них, истощаясь в бесплодных усилиях, зашатается, объятая ужасом, среди этого „мирового вихря“, обессиленная, перестанет противиться судьбам, обновленной Франции, признает ее победительницей, и тогда, наконец, выйдет из этого огромного потрясения окончательный мир» (Вандаль).
«Мировой вихрь» есть мировая революция, которую совершает «Робеспьер на коне» Наполеон, а «окончательный мир» есть мир всего мира – царство Божие, по Евангелию, или земной рай, Золотой век, по мессианскому пророчеству Вергилия.
«Император сошел с ума, окончательно сошел с ума. Все мы с ним полетим к черту, и все это кончится ужасной катастрофой!» – говорит морской министр Декре. Может быть, нечто подобное испытывал и Александр, читая письмо Наполеона и прибавляя к этому европейскому политическому ужасу ужас русский, мистический: «Наполеон – Антихрист».
«Жажда всемирного владычества заложена в природе его; можно ее видоизменить, задержать, но уничтожить нельзя, – говорит Меттерних. – Мнение мое о тайных замыслах Наполеона никогда не изменилось: чудовищный план его всегда был и есть порабощение всего континента под властью одного».
Так ли это? Действительно ли Наполеон «сошел с ума»? Во всяком случае, не больше, чем Революция и вся доныне ею живущая европейская цивилизация – застывшая лава, потухший вулкан Революции. От нее-то он и получил в наследство поединок Франции с Англией из-за мирового владычества и оружие для поединка – континентальную блокаду. Мысль о ней принята еще в 1795 году Комитетом общественного спасения.
Наполеон хорошо понимает, с кем борется. Первую рану нанес ему при осаде Тулона английский штык, и последнюю – Ватерлоо, Святую Елену – нанесет тоже Англия. Но это не мешает ему признавать силу и величие врага. «Англичане – люди лучшего закала, чем французы… Если бы у меня была английская армия, я прошел бы и победил мир… Будь я избранник не французов, а англичан, я мог бы проиграть в 1815 году десять Ватерлоо, не потеряв ни одного голоса в палате и ни одного солдата в армии, и кончил бы тем, что выиграл бы партию».
Но в том-то и дело, что Англия, существо национальное, не могла его избрать, а сделать это могла только Франция, существо всемирное. «Англия рассчитывает, что каждый исполнит свой долг»; Франция верит, что каждый умрет за свою честь. Что больше, долг или честь, долг перед отечеством или честь перед миром? Что лучше для народа – жертвовать миром себе или миру – собою; оставаться в себе или выходить в мир? Это все еще решают и не могут решить всемирно-исторические судьбы народов. В этом смысле не решен и поединок Англии с Францией – бытия национального с бытием всемирным.
Англия, Остров, ограничена собою, в себе сосредоточена, пребывает в себе; революционная и потом императорская Франция только и делает, что нарушает свои границы, выходит из себя, жаждет всемирности. Может быть, никто так не любит свободы, как англичане, – но свободы только для себя. Англия – самая либеральная и консервативная, наименее революционная из всех европейских стран. Свою национальную революцию она совершила заблаговременно и менее всего заботится о революции всемирной. «Я – Революция», – говорит Наполеон, и еще острее, революционнее: «Империя есть Революция». «Я – Реакция; Англия есть Реакция», – мог бы сказать перед лицом Французской, всемирной, революции каждый англичанин, от Первого лорда Адмиралтейства до последнего маклера в Сити.
Но произошло огромное недоразумение: Англия становится «очагом свободы», ее оплотом против Наполеона, поработителя. «К счастью, народы были спасены преградою, которую не могло одолеть оружие Бонапарта: пролив в несколько верст защитил мировую цивилизацию» (госпожа Ремюза). Что этому поверили в салоне госпожи Ремюза, еще не так удивительно; удивительнее то, что этому поверил и, кажется, доныне верит весь мир.
Наполеон, «чудовищный деспот» – за Францией, а за Англией кто? Лорд Питт, парламент Сити, business, a может быть, и плутовство, Плутократия. Что страшнее, один великий деспот, «Робеспьер на коне» или миллион маленьких плутов?
Но все смешалось, точно сам черт перепутал карты в этой шулерской игре; Франция – революция – оказалась реакцией; Англия – реакция – революцией; свобода – рабством, рабство – свободой; прошлое – будущим, будущее – прошлым. Точно в самом деле вся земная суша опрокинулась на море, и не стало ни моря, ни суши, произошел новый Всемирный потоп, наступил хаос – пока только в умах, а в действительности все остается или хочет остаться как было. Но не останется: умственный хаос породит хаос действительный. Первое исчадие его – мировую войну – мы уже видели; может быть, увидим и второе – мировую революцию. С этим наступающим хаосом Наполеон и борется, им-то и побежден.
«Чувство меры», mezzo termine, которым обладает в таком совершенстве Бонапарт, существо национальное, как будто теряет Наполеон, существо всемирное; но ведь так и должно быть: мера бытия национального не та, что всемирного; там наша Евклидова геометрия трех измерений, а здесь неведомая нам геометрия «четвертого измерения». Может быть, это новая мера Наполеона и кажется нам его «безмерностью» – «сумасшествием». «Груша всемирности еще не созрела» – вот чего не понял или что понял слишком поздно этот ранний всечеловек.
Не следует забывать и того, что в доме сумасшедших сумасшедшим кажется разумный человек, да и в самом деле, можно легко сойти с ума. Близость безумия Наполеон чувствовал: «Нельзя возлечь на ложе царей, не заразившись от них безумием гибели; обезумел и я».
Но главная причина не «безумие», а, как это ни странно сказать, – простодушие. Слишком легко он поверил словам Александра на Тильзитском плоту: «Я ненавижу англичан, так же как вы!» «Тонкий и лживый Византиец» перехитрил Корсиканца; всё обещал и ничего не исполнил; оказался, по слову пророка, «тростью надломленной, которая, если кто опрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее» (4 Цар. 18:21). Мягок и ласков, как мох русских болот: ступишь на него – и провалишься.
«Я хотел дружески оттеснить Россию в Азию, – говорит Наполеон. – Я предложил ей Константинополь», но без проливов – замок без ключа. «Ключ слишком драгоценен: он один стоит целой империи; кто владеет им, – владеет миром» (Лакур-Гайе). Из-за проливов и сорвался Тильзит.
Осенью 1808 года состоялось в Эрфурте новое свидание двух императоров. Когда актер Тальма произнес на сцене стих Вольтерова «Эдипа»:
С великим дружество есть чудный дар богов,
Александр и Наполеон обнялись, но уже не так, как на Тильзитском плоту: много воды утекло в Сене и в Немане.
Трещину дал Тильзитский фарфор; в Эрфурте чинят его, но и после починки стоит только постучать в стенки надтреснутой вазы, чтобы фальшивый и зловещий звук ответил: «Двенадцатый год».
II. Восстание народов. 1809
«Вся Европа восстанет на него. Чем крепче он сковал народы, тем страшнее будет взрыв. Верьте мне: если мы только продержимся, Франция падет, истощенная своими победами». Это говорил в 1806 году, после Йены, прусский генерал Блюхер, будущий победитель под Ватерлоо. Взрыв произошел раньше, чем Блюхер, может быть, думал.
Чтобы замкнуть кольцо европейской блокады, от Гибралтара до Вислы, Наполеону нужно было захватить Испанию. Судя по быстроте и легкости, с какою генерал Жюно в 1807 году занял Португалию, император думал, что так же быстро и легко удастся ему занять весь полуостров. Что, получив одну половину наследства – Францию – от французского дома Бурбонов, он имеет право и на другую половину – Испанию – от Бурбонов испанских, – в этом уверил его Талейран-Мефистофель.
В марте 1808 года корпус Мюрата, под предлогом помощи генералу Жюно в Португалии, входит в Испанию и вступает в Эскуриал-Мадрид, где положение дел такое смутное, что для французских носов уже пахнет жареным.
Принц Астурийский Фердинанд, наследник престола, ненавидит первого министра Годоя, князя Мира, темного проходимца, который, сделавшись фаворитом королевы, овладел через нее старым, почти выжившим из ума королем Карлом IV, разоряет страну и бесчестит королевский дом. Из-за Годоя происходят ссоры сына с отцом и матерью, которые приводят, наконец, к настоящей гражданской войне. В Аранхуэсе вспыхивает восстание в пользу наследника; он объявлен королем под именем Фердинанда VII; князь Мира посажен в тюрьму, едва не убит, и старый король сам отрекается от престола в пользу сына.
Пятнадцатого апреля 1808 года Наполеон едет в замок Маррак, у Байонны, чтобы следить вблизи за испанскими делами, и приглашает туда весь королевский дом Испании – сына, отца, мать и любовника. Все они жадно кидаются к нему в надежде, что он их рассудит. Но 2 мая происходит в Мадриде новое восстание против французской оккупационной армии. Мюрат угашает его в крови: тысяч пятнадцать повстанцев избито мамелюками.
В то же время Наполеон в Байонне лишает Фердинанда короны под предлогом того, что мадридское восстание – дело рук его приверженцев, и предлагает вернуть ее старому королю. Тот от нее отказывается. Это Наполеону только и нужно.
Фердинанд заточен в Валенсей, Карл – в Компьен. Испанский престол свободен. Император возводит на него брата своего Жозефа, а зятя, Иоахима Мюрата, – на престол неаполитанский. «Снял корону с одного, нахлобучил ее на другого, и оба короля разошлись, каждый в свою сторону, как два новобранца, обменявшиеся шапками», – говорит Шатобриан.
«Совершилось беззаконнейшее похищение короны, какое только знает современная история, – возмущается генерал Марбо. – Предложить себя посредником между отцом и сыном, чтобы заманить обоих в ловушку и ограбить, – это были гнусность и злодейство, которые заклеймила история и не замедлило наказать Провидение». В этом возмущении Марбо видно благородное сердце его и виден плохой политик: увы, современная история знает множество больших злодейств, награжденных людьми и Провидением не наказанных, по крайней мере здесь, на Земле.
Талейран-Мефистофель – «навоз в шелковом мешке» – торжествует; накинул-таки петлю на идею императора: бесконечно умный человек впутывается в бесконечно глупую историю; по уши залезет в грязь и в кровь. Миром будет владеть Наполеон, а Наполеоном – Талейран.
Сам император, впрочем, судит себя так строго, что надо быть Тэном, чтобы бить лежачего. «Сознаюсь, я очень плохо принялся за это дело; слишком очевидной оказалась безнравственность, несправедливость – слишком циничной, и все это имеет вид прескверный, потому что я потерпел неудачу: покушение, в результате, представилось во всей своей безобразной наготе, без того величия и тех многочисленных благодеяний, которые я замышлял. Эта злополучная война меня погубила…», «язва эта меня изъела».
После Байонского «злодейства» пламя восстания, угашенное в крови на мадридских улицах, вспыхивает с новою силою уже по всей Испании. Вся она покрывается сетью повстанческих полуразбойничьих, полугероических шаек – герилий (guerilla). Нож и пуля сторожат французского солдата из-за каждого угла. «Очень легко разбить испанцев, но победить их невозможно, потому что невозможна никакая с ними правильная война». Дух народа – вот враг невидимый, неуловимый, вездесущий. «Становясь длительной, такая война разлагает войско и закаляет народ» (Тьебо).
Днем и ночью сто тысяч изуверов-монахов проповедуют священную войну «двенадцати миллионам вшивых и гордых нищих» (Блуа). «В Наполеоне – два естества, человеческое и дьявольское» (Фурнье). «От кого он происходит? – От греха. – Грех ли убить француза? – Нет, небесное блаженство – награда тому, кто убивает этих собак-еретиков». Таков патриотический катехизис испанских монахов.
Никаких «благодеяний» Наполеона не желают испанцы – ни короля Жозефа, ни Жан-Жака Руссо, ни «прав человека и гражданина», ни Кодекса, ни даже Золотого века с оккупационной армией; предпочитают жить по старине «гордо и вшиво». Дикая тропинка в Сьерра-Морене, где пахнет снежным ветром, тмином и козьим пометом, им дороже Елисейских Полей с Триумфальной аркой.
Бедный Жозеф, королевская кукла, плачет от стыда и страха: «Нет ни одного испанца, который был бы за меня. Враг мой – двенадцатимиллионный народ, храбрый и доведенный до отчаянья!»
Доблестному генералу Дюпону поручено занять Южную Испанию. Двадцать второго июля 1808 года, близ Кордовы, в Байленском ущелье у подножья Сьерра-Морены, отрезанный и окруженный неприятелем, он вынужден капитулировать с 18-тысячной армией. «Солдаты его, большею частью новобранцы, безусые мальчики, изнуренные восьмичасовым боем, после пятнадцатичасового форсированного марша под палящим июльским солнцем Андалузии, не могут не только драться, но и стоять на ногах» (Марбо); тихо, как пожатые колосья, ложатся на землю, ожидая плена или смерти. Сам бог войны в таком положении вынужден был бы капитулировать. Тем не менее Байлен прозвучал на всю Испанию, Францию, Европу как звонкая пощечина по лицу Великой армии, по лицу самого императора. Байлен – казнь за Байону. «Честь потеряна, – этого не поправишь: раны чести неисцелимы!» – шепчет Наполеон, бледнея при этом известии так, что кажется, лишится чувств. И в Государственном совете, говоря о Байлене, плачет.
Магия победы разрушена: Наполеон победим.
Мадрид эвакуирован; Жозеф изгнан с позором. Английская армия под командой генерала Уэлсли, будущего герцога Веллингтона, Ватерлооского героя, высадившись в Лиссабоне, идет на Саламанку и Валладолид и учится побеждать французов.
Осенью 1808 года Наполеон с 250-тысячной армией кидается на Бургос и Мадрид, снова сажает на престол брата и в месяц с небольшим занимает всю северную часть полуострова.
Испанцы бегут, почти не сражаясь; но «разбить их легко, а победить невозможно». С каждым шагом Наполеон угрузает в эту кровавую и бездонную трясину.
Вдруг, не кончив кампании, 18 января 1809 года, скачет в Париж. Оставляет на полуострове 300 тысяч штыков; «но что это значит среди двенадцати миллионов бесноватых!» Скачет в Париж, потому что узнает о заговоре министра иностранных дел Талейрана и министра полиции Фуше на случай его, Наполеоновой, смерти в Испанской войне. Вот бы кого казнить вместо невинного Энгиена; очистить бы мир от этих двух гадин! Но он прощает их, как вообще с легкостью прощает злейших врагов своих, может быть, из презрения.
В заговоре участвует и зять императора, король Неаполитанский, Мюрат, со своей женой, Каролиной Бонапарт – «леди Макбет» (Паскье).
Наполеон узнает также, что против Франции выступила Австрия. Он похож на человека, у которого одна нога угрузла в болоте и который должен обороняться от нападающего противника: болото – Испания, а противник – Австрия, Англия, вся Европа.
Краткая Австрийская кампания блистает, но уже зловещим блеском, как вечернее, между грозовыми тучами, солнце.
Эсслинг – 21–22 мая 1809 года – почти поражение; Ваграм – 5–6 июля – не совсем победа. Бой выигран, неприятель отступил; «но странно, мы не захватили ни одного пленного, ни одного знамени», – вспоминает участник боя (Мармон). Слишком тяжелая, последняя, из последних сил победа. Наполеон даже не преследует отступающего неприятеля: раненый лев еще огрызается на нападающих псов, но уже не имеет силы настигнуть их и растерзать. Может быть, под Ваграмом он впервые почувствовал, что воюет уже не с царями, а с народами.
Двадцать третьего октября 1809 года, на площади Шенбруннского замка близ Вены, во время парада французских войск схвачен молодой человек, почти мальчик, лет восемнадцати, Фридрих Штапс, сын протестантского пастора в Наумбурге. Он хотел зарезать Наполеона кухонным ножом, как тотчас признался ему на допросе. – «За что вы хотели меня убить?» – «За то, что вы делаете зло моему отечеству…» – «Я вас помилую, если вы попросите у меня прощения». – «Я не хочу прощения, я очень жалею, что мне не удалось вас убить». – «Черт побери! Кажется, для вас преступление ничего не значит?» – «Вас убить – не преступление, а долг». – «Ну, а если я вас все-таки помилую, будете вы мне благодарны?» – «Нет, я все равно вас убью».
«Наполеон остолбенел, – вспоминает очевидец. – Вот плоды иллюминатства, которым заражена Германия. Но с этим ничего не поделаешь: пушками секты не истребишь! – сказал он окружавшим его, когда Штапса увели. – Узнайте, как он умрет, и доложите мне».
Штапс умер как герой. Когда вывели его к расстрелу, он воскликнул: «Да здравствует свобода! Да здравствует Германия!» – и пал мертвым.
Наполеон долго не мог его забыть. «Этот несчастный не выходит у меня из головы. Когда я о нем думаю, мысли мои теряются… Это выше моего разумения!»
Нет, не выше: знает-помнит, что этот восемнадцатилетний мальчик «с очень белым и нежным лицом, как у девушки», лицом древнего героя и христианского мученика, мстящий херувим свободы – его же собственный двойник, Бонапарт-якобинец 1793 года: «Если бы даже отец мой захотел быть тираном, я заколол бы его кинжалом!»
Может быть, на допросе Штапса Наполеон понял еще яснее, чем на полях Ваграма, что воюет уже не с царями, а с народами. Тотчас после покушения торопит мирные переговоры с Австрией. «Я хочу с этим покончить!» Нет, не покончит никогда.
«Ваше величество может быть уверено, что в случае вашего поражения русские и немцы подымутся всею громадою, чтобы стряхнуть ярмо; это будет крестовый поход; все союзники покинут вас, подданные принудят своих государей соединиться с вашими врагами», – говорил ему генерал Рапп еще в 1806 году, после Йены. «Плохо он знал немцев, когда сравнивал их с собачонками, которые лают и не кусают; он узнал впоследствии, на что они способны» («Мемуары генерала Раппа»).
В том же году, когда расстрелян нюрембергский книжный торговец Пальм, за распространение брошюры «Германия в своем глубоком унижении», буря возмущения и отчаяния проносится по всей стране. Национальное движение подымается в Пруссии 1807–1810: Фихте выпускает «Речи к германскому народу», Арндт – «Катехизис германских солдат», Кернер – «Лиру и меч».
«Брожение достигло высшей степени, – остерегает Наполеона брат его, Жером, король Вестфальский. – Самые безумные надежды принимаются восторженно; указывают на пример Испании. Если вспыхнет война, все страны между Рейном и Одером будут очагом огромного восстания». Это и значит, по слову Блюхера: «чем крепче он сковал народы, тем страшнее будет взрыв».
Не только государи, но и подданные возмущены разделом Европы между Бонапартами: Жозеф – в Мадриде, Жером – в Вестфалии, Людовик – в Голландии, Элиза – в Тоскане, Иоахим, муж Каролины, – в Неаполе.
Наполеон режет Европу как именинный пирог, чтобы раздавать куски братьям и сестрам; кормит императорский орел птенцов своих Европой, словно падалью.
Он, впрочем, и сам знает, что будет взрыв. Ходит по земле и чувствует, что вся она горит и дрожит под ним, как вулкан. Но что же делать? Победить народы или отречься от всемирности? «Передо мной был Гордиев узел, и я его разрубил». Узел народов, узел плоти и крови, хотел разрубить мечом всемирности призрачной, но только затянул его на своей шее в мертвую петлю.
«Я не желал делать зла никому: но, когда моя великая политическая колесница несется, надо, чтобы она пронеслась, и горе тому, кто попадет под ее колеса!»
Он сам под них попал.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































