Текст книги "Наполеон"
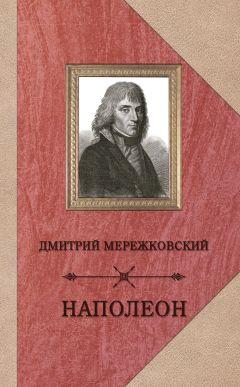
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
II. Беллерофон. 1815
«Попочка, иди в клеточку!» – звала одна глупенькая старушка своего попугая, улетевшего в сад. Но тот, сидя на ветке высокого дерева, только поглядывал на нее лукавым глазом да покрикивал: «Попка – дурак!» Дураком, однако, не был: в клетку идти не хотел. Этот анекдот вспоминается, когда стараешься понять, что заманило Наполеона в английский плен.
«Школьник был бы хитрее моего», – говорил он сам уже в плену. Да, школьник был бы хитрее этого «хитрого политика», попка-дурак – умнее этого умницы. Но в том-то и дело, что мера человеческая больше ума. Если бы Наполеон не обезумел, то и не дал бы полной меры своей: Человек.
«Я приношу себя в жертву» – когда он это сказал, то, может быть, сам еще не знал, что говорит; когда же узнал и ужаснулся, было поздно; слово сказано – дело сделано: «я всегда делаю, что говорю, или умираю».
«Жертва» – вот чем заманила, пленила его неземная Судьба его, Звезда, отделившаяся от него и на него восставшая Душа. Хочет не хочет, он должен идти, куда она зовет его, мудрая.
Жертва – один из двух соблазнов, а другой – честь. «Чувство военной чести свойственно было Наполеону в высшей степени… Этот хитрый политик был солдат, рыцарь без упрека», – говорит один из его лучших историков (Вандаль).
Наполеон знает людей, как никто, видит их насквозь, и не слишком хорошо о них думает. «Надо, чтобы люди были очень подлыми, чтобы быть такими, как я о них думаю», – говаривал. Трудно бы, казалось, такого человека обмануть. Нет, легко, потому что, как истинному рыцарю, свойственны ему и детская доверчивость, и простодушие детское. Есть в Наполеоне, как это ни странно сказать, Дон-Кихот, вечный романтик, любовник Мечты-Дульцинеи. Люди не могли бы его обмануть, если бы он этого сам не хотел; но он хотел этого слишком часто, может быть, потому именно, что слишком хорошо видел горькую правду в людях.
Рыцарски-нелепая мысль отдаться в руки англичан, честно довериться чести врага соблазняла его давно – всегда; всегда знал-помнил, что это будет.
Семнадцатилетний мальчик Бонапарт пишет в своей ученической тетради повесть об австрийском авантюристе, бароне Нейгофе, объявившем себя в 1737 году корсиканским королем Феодором I, арестованном англичанами, посаженном в лондонский Тауэр и, через много лет, освобожденном лордом Вальполем. «Несправедливые люди. Я хотел осчастливить мой народ, и это мне удалось на мгновение; но судьба изменила мне, я в тюрьме, и вы меня презираете», – пишет Феодор Вальполю, и тот отвечает ему: «Вы страдаете, вы несчастны; этого достаточно, чтобы иметь право на сострадание англичан».
«Дорого я заплатил за мое романтическое и рыцарское мнение о вас, господа англичане!» – как будто кончает Наполеон на Святой Елене ту неоконченную, детскую повесть.
В тех же ученических тетрадях пишет три слова: «Святая Елена – маленький остров» – и дальше пустая страница. Теперь и ее дописывал.
По всему пути из Мальмезона в Рошфор толпы бежали за ним с тем же немолчным «Виват император!», как тогда, при возвращении с Эльбы. Но теперь, зная, что он покидает Францию, молили, плакали: «Останьтесь, останьтесь с нами, не покидайте нас!»
В городе Ниоре 2-й гусарский полк едва не взбунтовался, требуя, чтоб он принял команду и вел его на Париж.
Эльбское чудо могло бы повториться, если бы он захотел; но он уже ничего не хотел: за него хотела Душа его иного чуда, большего.
Третьего июля он приехал в Рошфор, где, по донесению роялистского шпиона, «был принят как бог». Оба фрегата, «Зааль» и «Медуза», стояли на рейде готовые, но выйти в море не могли, потому что английский крейсер «Беллерофон» блокировал рейд.
Созван был военно-морской совет, и на нем предложен план бегства. В устье Жиронды стояли два французских корвета, под командой капитана Бодена.
«Бодена я знаю, – говорил старый, преданный Наполеону вице-адмирал Мартен. – Это единственный человек, способный доставить его величество здравым и невредимым в Америку».
Наполеон согласился на этот план и если бы тотчас исполнил его, был бы спасен. Но отложил; прошло два-три дня, а он все откладывал. Думая, что план ему не нравится, предложили другой: маленькая, тонн в 50, датская гоелетта «Магдалена», стоящая в Рошфорской гавани, нагрузившись водкою, возьмет на борт императора с четырьмя лицами свиты; в случае же обыска он спрячется в пустую бочку.
Наполеон согласился и на это, даже груз водки велел закупить, как будто не думал о том, что скажет история, если англичане, после двадцатилетней войны с ним, найдут его в бочке.
Может быть, соглашался на все, потому что ничего не хотел, кроме одного, что соблазняло его чем дальше, тем больше, как пропасть соблазняет человека, нагнувшегося над нею, броситься в нее. Наполеон медлил, а Фуше торопился. Четвертого июля, после капитуляции Парижа, он испугался так, как еще никогда, что император захватит командование армией. «Посадите его на фрегат немедленно, хотя бы даже силой», – писал Фуше генералу Бекеру. «Посадите», но не «увозите»: думал держать его на корабле, заложником – дипломатическим «живым товаром».
Восьмого июля Бекер явился к императору, умолял его решиться на что-нибудь, так как его положение в Рошфоре становилось опасным.
– Но ведь что бы ни случилось, генерал, выдать меня у вас духу не хватит? – спросил его Наполеон улыбаясь.
– Ваше величество знает, что я отдам за него жизнь; но в случае перемены правительства я уже ничего не смогу для вас сделать.
– Ладно, готовьте шлюпки на остров д'Экс. Я буду там вблизи от фрегатов и сяду на них при первом попутном ветре.
Моряки давали слабую надежду, что очень сильный ветер с берега позволил бы фрегатам выйти с рейда, хотя и с большою опасностью. В тот же день Наполеон отправился в рыбачью гавань Фурá и сел в шлюпку. Молча, в оцепенении, смотрела на нее толпа старых рыбаков и матросов. Когда же гребцы взмахнули веслами, рев прибоя заглушен был отчаянным воплем: «Виват император!» «Мы плакали как девочки», – вспоминал потом один из толпы.
Император велел ехать не на остров д'Экс, как сначала решил, а на фрегат «Зааль». Пробыл здесь два дня. «Беллерофон» был виден с фрегата как на ладони. Соблазн усилился. Два дня боролся он с ним, а на третий отправил уполномоченных, герцога Ровиго и графа Лас-Каза, с явным поручением узнать, есть ли надежда на пропуск, а если нет, помешает ли «Беллерофон» отъезду его; с тайною целью выпытать, каковы намерения английского правительства насчет него и какой ему будет оказан прием, если он явится на крейсер.
Командир «Беллерофона», капитан Мейтленд, принял посланных, но на вопросы их ответил уклончиво: ничего не знает о пропуске, о намерениях правительства тоже; но, если фрегаты выйдут в море, он нападет на них; сделает также обыск на всех французских и нейтральных торговых судах и, если найдет на них Наполеона, арестует его до решения своего начальника, адмирала Хотэма.
Лас-Каз и Ровиго старались уверить Мейтленда, что император едет в Америку, чтобы там спокойно доживать свой век, отказавшись от политики.
– Если так, почему же он не ищет убежища в Англии? – спросил Мейтленд.
Этого только и ждали французы, но виду не подали. Чтобы узнать, что он разумеет под словом «убежище», притворились удивленными и начали возражать, что сырой и холодный климат Англии не годится императору, да и к Франции он будет там слишком близко, чтобы не быть заподозренным в желании вернуться в нее; и что, наконец, он привык видеть в англичанах своих исконных врагов, а те в нем – «чудовище, лишенное всех человеческих чувств». Тут Мейтленду, уже из простой учтивости, пришлось уверить их, что мнение англичан о Наполеоне не так плохо и что ему бояться от них нечего. На этом разговор и кончился.
Посланные, вернувшись к императору, признались, что, несмотря на любезность Мейтленда, нельзя от него ждать ничего доброго. Слух, что Наполеон вынужден отдаться в руки англичан, возмутил экипаж и команду фрегатов. Командир «Медузы», капитан Понэ, предложил новый план:
– Ночью сегодня «Медуза» пойдет впереди «Зааля» и в темноте настигнет «Беллерофон» врасплох. Я начну с ним бой, борт о борт, и не дам ему сдвинуться с места… Часа два продержусь, наверное; после боя фрегат мой будет в очень плохом состоянии, но «Зааль» успеет выйти в море, пользуясь ночным бризом с берега.
Он хорошо знал, что обрекает на гибель не только фрегат, но, может быть, и весь экипаж, и себя самого. Император был тронут до глубины души.
Чтобы исполнить план Понэ, нужно было согласие старшего командира обоих фрегатов. Тот сначала дал его, но потом взял обратно: испугался Фуше.
Императору больше нечего было ждать от фрегатов, и он решил переехать на остров д'Экс.
Экипаж был в отчаянии. Люди плакали, били себя кулаками по лицу, кидали шапки на палубу и топтали их ногами в бешенстве.
– Я хотел его спасти или умереть! – говорил Понэ. – Он не знает англичан. Несчастный, он погиб.
Шесть офицеров 14-го флотского полка на д'Эксе, шесть мальчиков, предложили еще один план: два люгера, понтонные двухмачтовые шлюпки, стоящие в Рошфорской гавани, возьмут на борт императора с двумя-тремя лицами свиты, проберутся ночью, в темноте, вдоль берега, к Ла-Рошели, выйдут оттуда в открытое море и закупят или захватят силой первое попавшееся торговое судно, чтобы доставить на нем беглецов в Америку.
Наполеон не хотел огорчать мальчиков: согласился или сделал вид, что соглашается. Но про себя уже все решил. Столько кругом было жертв, что начал, наконец, и он понимать, что значит «жертва». Может быть, все еще говорил, как тот лермонтовский игрок своему Ростовщику-Року: «Душу свою на карту не поставлю», – но уже поставил.
Тринадцатого, вечером, в бедной комнатке д'экского домика, где остановился император, зашла у него речь с генералом Гурго, человеком неглупым, но грубым, о плане шести мальчиков.
– Курам на смех этот план! – говорил Гурго. – Жаль, что у вашего величества не хватает духу отдаться в руки англичан. Это для вас было бы лучше всего. Роль авантюриста ниже вашего достоинства… История скажет, что вы отреклись только из страха, потому что жертвуете собой не до конца…
Хам учил героя, и тот молчал, потому что ответить было нечего.
– Да, может быть, отдаться умнее всего, – проговорил, наконец, император, глядя в открытое окно, где мачты «Беллерофона» чернели паутиной снастей на красном закате. – Я вчера еще собирался ехать на «Беллерофон», но вот не собрался… Жить среди врагов – этой мысли я не могу вынести…
Вдруг в окно влетела птичка и забилась в углу комнаты. Гурго встал, поймал ее и зажал в руке.
– Пустите, пустите! Довольно несчастных! – вскрикнул Наполеон. Гурго пустил ее в окно.
– Ну-ка, посмотрим, куда она полетит, это будет примета, – сказал император.
– Ваше величество, она летит на «Беллерофон»! – воскликнул Гурго, торжествуя.
Наполеон ничего не ответил, но лицо у него потемнело. Опять услышал зов: «Попочка, иди в клеточку!»
В ту же ночь велел грузить вещи на два люгера и датскую гоелетту, потому что эти два плана решили соединить.
В одиннадцать часов генерал Бекер доложил императору, что все готово. Тот ничего не ответил. Бекер, выйдя от него, подождал довольно долго и, наконец, попросил генерала Бертрана снова доложить. Но только что Бертран, войдя в комнату, начал докладывать, Наполеон остановил его:
– Нет, я сегодня не еду, переночую здесь.
И еще через несколько минут велел сказать Лас-Казу и генералу Лаллеману, что завтра, чуть свет, едет на «Беллерофон».
Но на следующий день не поехал, отложил еще на день. Снова отправил Лас-Каза на «Беллерофон».
Зная, что английское правительство не даст никаких обещаний, хотел иметь по крайней мере слово Мейтленда, что не будет арестован как военнопленный.
– Я не имею никаких полномочий и не могу ничего обещать, – ответил тот. – Но полагаю, что общественное мнение Англии, более могущественное, чем даже верховная власть, заставит действовать министров согласно с великодушными чувствами английской нации.
На языке чести это и значит: «Наполеон найдет убежище в Англии; если он сядет молящий у ее очага, она его не предаст».
С этим ответом вернулся Лас-Каз к императору. Тот в последний раз созвал приближенных на совещание. Мнения разделились; одни говорили «ехать на „Беллерофон“», другие – «не ехать». Генерал Монтолон предлагал вернуться к первому плану – пробраться к устью Жиронды, где все еще ждала «Баядерка». Генерал Лаллеман заклинал императора бежать на датской гоелетте – опять пустая бочка! – или отправиться в армию, отступившую за Луару: можно было рассчитывать на 14-й флотский полк, на линейные полки в Рошфоре и Ла-Рошели, на федератов, на Бордоский гарнизон, на 2-й гусарский полк в Ниоре, на многие войсковые части по дороге, и, наконец, в самой армии он будет принят с восторгом.
– Все солдаты жаждут драться и умереть за ваше величество, – заключил Лаллеман.
– Нет, – ответил Наполеон, покачав головою, – если бы дело шло об империи, я мог бы испробовать вторую Эльбу, но из-за себя лично не хочу быть причиной ни одного пушечного выстрела. Завтра поутру мы едем.
Оставшись наедине с Гурго, он показал ему черновик письма к английскому принцу-регенту:
«Ваше королевское высочество. Будучи преследуем партиями, разделяющими мою страну, и ненавистью великих европейских держав, я окончил мою политическую карьеру и прихожу к вам, как Фемистокл, чтобы сесть у очага британского народа. Я отдаюсь под защиту его законов, которой испрашиваю у вашего высочества, как самого могущественного, постоянного и великодушного из всех моих врагов».
Он хотел отправить Гурго в Англию с этим письмом, чтобы тот передал его лично принцу-регенту, и тут же принялся мечтать о жизни в Англии, в уединенном сельском домике, в десяти или двенадцати лье от Лондона, вместе с друзьями, «под именем полковника Мюирона», того самого, который, защищая его телом своим от австрийской картечи на Аркольском мосту, был убит на груди его, так что кровь брызнула ему в лицо. «Я приношу себя в жертву» – это Мюирон не только сказал, но и сделал. Вот когда напомнила Наполеону-Человеку душа его забытый урок.
«В сельском домике кончить жизнь в безмятежной идиллии» – этому поверят, на это согласятся английские министры, Веллингтон, Блюхер, Фуше, Талейран! «Школьник был бы хитрее моего»: Наполеон в сорок шесть лет – шестилетний мальчик.
Пятнадцатого июля, на восходе, император сел на французский военный бриг «Ястреб».
На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук, —
те же, как под Аустерлицем и Ватерлоо.
Когда матросы приветствовали его обычным криком: «Виват император!» – в крике этом было рыдание.
– Угодно вашему величеству, чтоб я сопровождал его на крейсер, согласно полученной мной инструкции? – спросил генерал Бекер.
– Нет, возвращайтесь на остров, – ответил Наполеон. – Нехорошо, если скажут, что Франция выдала меня Англии.
Лодка – невозвратная лодка Харона – отчалила. Знал ли он, помнил ли, что покидает Францию, мир навсегда?
Двадцать шестого июля «Беллерофон» кинул якорь в Плимуте, а 31-го адмирал лорд Кит объявил «генералу Бонапарту» решение английских министров – вечную ссылку на остров Святой Елены.
Наполеон возмутился, но не очень и не надолго.
– Я не поеду на Святую Елену, – говорил он приближенным. – Это постыдный конец… Скорее кровь моя обагрит палубу «Беллерофона»!
– Да, государь, – храбрились те, – лучше будем защищаться так, чтобы нас всех перебили, или взорвем пороховой погреб!
В тот же день император вышел, по обыкновению, на палубу, чтобы взглянуть на множество собравшихся лодок с любопытными, и «лицо его было такое же, как всегда», вспоминает очевидец. Уже покорился. «Лучше меня никто не умеет покоряться необходимости; в этом настоящая власть разума, торжество духа».
«Беллерофон» был слишком мал для дальнего плавания. В Портсмуте снаряжали большой военный фрегат, «Нортумберленд», под командой адмирала Кокберна. Но фрегат еще не был готов. Только 4 августа вышел «Беллерофон» из Плимута навстречу «Нортумберленду».
Весь этот день Наполеон просидел у себя в каюте запершись. Приближенные были в тревоге: знали, что он носит при себе спрятанную в платье скляночку с ядом; опасались, как бы не отравился.
Вечером вошел к нему Монтолон с таким испуганным видом, что император сразу понял, в чем дело.
– Рады были бы англичане, если б я себя убил! – проговорил, смеясь.
О самоубийстве все-таки думал.
«Мне, дорогой мой, иногда хочется вас покинуть, и это не так трудно, – говорил Лас-Казу. – Стоит только немного вскружить себе голову… Тем более, что мои убеждения этому нисколько не препятствуют… В вечные муки я не верю: Бог не мог бы допустить такого противовеса Своей бесконечной благости; особенно за такое дело, как это. Ведь что это, в конце концов? Только желание вернуться к Нему немного скорее…»
Лас-Каз заговорил, как всегда говорят в таких случаях, о терпении, мужестве, о возможной перемене обстоятельств к лучшему.
– Может быть, вы и правы, – сказал Наполеон, выслушав его внимательно. – Да, человек должен исполнить свою судьбу, это и мое великое правило. Ну что ж, исполним!
«И он заговорил о другом, спокойно, даже весело».
Счел, однако, нужным сочинить или подписать сочиненный Лас-Казом «Протест»:
«Я протестую торжественно, пред лицом Бога и людей, против совершаемого надо мною насилия… Я не пленник, – гость Англии… Только что я взошел на борт „Беллерофона“, – я сел у очага британского народа… Если английское правительство, отдавая приказ капитану „Беллерофона“ принять меня, готовило западню, оно обесчестило себя и свое знамя… Я взываю к истории: история скажет, что враг, двадцать лет воевавший с английским народом, пришел к нему свободно, в своем несчастье, искать убежища под его законами… И чем же ему ответила Англия?.. Лицемерно подала ему руку, а когда он принял ее, убила его».
Надо сказать правду: все это, может быть, не так убедительно, как он думал или хотел бы думать. Детское простодушие в политике не прощается. Он сам знает, что тяжело земле его носить.
«„Когда я умру, весь мир вздохнет с облегчением“. Могла ли Англия принять такого гостя? Мера за меру: Англия поступила с Наполеоном не хуже, чем он – с испанским королем» (госпожа Ремюза). Плимут за Байонну, Англия могла бы ответить ему его же словами: «Когда моя великая политическая колесница несется, надо, чтоб она пронеслась, и горе тому, кто попадется под ее колеса!..»
Есть жертва в том, что постигло его, но есть и казнь; нельзя сказать, чтоб несправедливая, и лучше бы он терпел ее молча.
Седьмого августа «Нортумберленд» взял на свой борт императора и тотчас поднял паруса.
По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.
Не гнутся высокие мачты,
На них флюгера не шумят,
И молча в открытые люки
Чугунные пушки глядят…
Есть остров на том океане,
Пустынный и мрачный гранит;
На острове том есть могила,
А в ней император зарыт…
Зарыт, живой в гробу.
Лермонтов. «Воздушный корабль»
III. Святая Елена. 1815-1821
«Остров Святая Елена – крутая, почти отвесная скала, длинная, узкая, гладкая, темная, более похожая на исполинский, плавающий на океане гроб, чем на землю живых» (Люсия Абель).
Плоскогорье Рупертс Хилл, на высоте тысячи шестисот футов над уровнем моря, с покинутой фермой Лонгвуд, бывшим скотным двором, где поселили императора, – самое кромешное место этого кромешного острова. Черные скалы – тюремные стены; низкие тучи – тюремные своды; всюду кругом бездонные пропасти да беспредельный океан. Как бы «тот свет», «страна без возврата» (Лас-Каз). Дантова ада преддверие с надписью:
Всякую надежду оставьте, входящие.
Здесь сама природа – проклятая узница ада, осужденная на вечные муки. Все один и тот же ветер – юго-восточный пассат; все одно и то же лютое солнце тропиков. «Этот ветер разрывает мне душу, это солнце сжигает мне мозг!» – жалуется император. Все одно и то же время года – ни зима, ни лето, ни весна, ни осень, а что-то между ними среднее, вечное. Восемь месяцев – дождь, ветер и солнце, а остальные – солнце, ветер и дождь: скука неземная, однообразие вечности.
Почва летейская – меловая глина, от дождя клейкая, липнущая к ногам таким тяжелым грузом, что трудно ходить: ноги, как в бреду, не движутся.
Зелень тоже летейская: чахлые, скрюченные ветром всё в одну сторону, каучуковые деревья, сухие морские верески, жирные кактусы да бледный, с ядовитой слюной, молочай.
Низко по земле ползущие облака-призраки: входишь в такое облако, и вдруг все исчезает в тумане; исчезаешь и сам – сам для себя становишься призраком.
Гроз не бывает на острове: горный пик Дианы – громоотвод; только удушье, томление бесконечное.
Лучшего места для Наполеонова ада сам дьявол не выбрал бы.
«Английские дипломаты, когда он попался им в плен, более всего желали, чтобы кто-нибудь оказал им услугу – повесил или расстрелял его, а когда никого не нашлось для этого, решили посадить его под замок, как карманного воришку», – говорит лорд Розбери.
«Если бы англичане убили Наполеона сразу, это было бы великодушнее», – говорит Лас-Каз, соузник императора.
«Я себя не убью, – говорит он сам, – я не сделаю этого удовольствия моим врагам… Я поклялся выпить чашу до дна, но если бы меня убили, я был бы рад».
И вспоминая недавний расстрел короля Мюрата в Калабрии: «калабрийцы оказались менее варварами, более великодушными, чем люди из Плимута». – «Если бы я узнал, что получен приказ о моем расстреле, я счел бы это за милость и был бы счастлив».
Долго люди не могли поднять и связать исполина, заснувшего летаргическим сном, но подняли наконец, связали, уложили в гроб и забили крышку наглухо.
Пятнадцатого октября 1815 года, после семидесятидневного плавания, «Нортумберленд» кинул якорь в Джеймстаунской гавани. Лонгвуд был еще не готов. Узника поселили в загородном домике английского торговца Балькомба, в поместье «Бриары», и только 10 декабря переведен в Лонгвуд. Три тюрьмы, три гроба, один в другом: первый – океан; остров Святая Елена находится почти в двух тысячах километрах от мыса Доброй Надежды; второй – окружность острова, в сорок четыре километра; третий – внутренний, двенадцатимильный круг, охраняемый цепью часовых, где узнику разрешено двигаться, ходить пешком и ездить верхом.
Английский лагерь расположен в ста шагах от лонгвудского дома, перед самыми окнами его, так что шагу нельзя ступить, не наткнувшись на английский штык. В девять часов вечера караульные посты сближаются, и дом окружен ими так, что никто не может ни войти, ни выйти, не быв замеченным. Всю ночь патрули обходят дом дозорами. Заняты караулами все места, где может или кажется только, что может, причалить лодка, а также все ведущие к морю тропинки, даже такие крутые, что император, при тучности своей, не мог бы спуститься по ним, не сломав себе шеи.
За долгие годы походов он так привык двигаться, что частые и дальние прогулки верхом необходимы ему больше чем для здоровья, для жизни. Но почти тотчас по прибытии в Лонгвуд, он отказывается от них почти с отвращением: «Я не могу вертеться, как белка в колесе; когда я чувствую под собою лошадь, мне хочется скакать, куда глаза глядят; но знаю, что нельзя, и это мука несносная!» Доктора грозят ему опасной болезнью, если он не будет ездить верхом. «Что же, тем лучше, скорей конец!» – отвечает он равнодушно.
Двигался, работал, действовал, стремился, боролся всю жизнь, и вот вдруг остановка, недвижность, бесцельность, праздность, покой – смерть. «Этот переход от деятельной жизни к совершенной неподвижности все во мне разрушил». Разрушение начинается с духа, в его глубочайшей сущности, в воле. Воля всепожирающая, сила духа беспредельная, обращенная некогда на мир, теперь обращается на него самого и терзает, пожирает его. «Будешь пожирать свое сердце», – как предсказал ему Байрон. «Казнь покоя», – как чудно определяет Пушкин.
Ужас жизни в том. Что она растянута и раздроблена до бесконечности. Чашу смерти пьет по капле. «Меня убивают булавочными уколами», – жалуется однообразно, стонет все одним и тем же стоном. «Булавочными уколами убивают того, кого победить едва хватило союзных армий всей Европы». Человек, раздетый донага, привязанный к столбу, обмазанный медом и отданный на съедение насекомым.
Ужас казни – позор. «Зрительные трубки всей Европы обращены на Святую Елену». Все Фуше и Талейраны, Веллингтоны и Блюхеры, хамы всех времен настоящих и будущих, смотрят и ждут, когда-то голый закорчится под мушиными жалами.
«Я поклялся выпить чашу до дна». Но, только начав пить, понял, что чаша бездонна. Страшно задыхаться в гробу полумертвому; но насколько страшнее – живому, бессмертно-юному!
«Что это говорят, будто он постарел? Да у него еще сорок кампаний в брюхе!» – воскликнул один английский солдат, увидев Наполеона на Святой Елене.
«Я чувствую себя таким же сильным, как прежде; не устал, не ослабел, – говорит император в начале плена. – Я сам удивляюсь, как мало подействовали на меня последние великие события: все это скользнуло по мне, как свинец по мрамору; тяжесть согнула пружину, но не сломала: она разогнулась с прежней упругостью».
В играх его с девочками Бэтси и Дженни Балькомб, дочерьми бриарского хозяина, видно, что в сорокашестилетнем Наполеоне все еще жив маленький мальчик. Шалит, проказит, смеется, бегает, играет в жмурки, не только для них, но и для себя.
Через много лет после смерти его старушка Бэтси не может вспомнить о нем иначе, как о четырнадцатилетнем ровеснике.
Вечная юность – надежда вечная.
«Рано или поздно мы уедем отсюда в Америку или Англию». – «Я полагаю, что, когда дела во Франции придут в порядок и все успокоится, английское правительство позволит мне вернуться в Европу… Только мертвые не возвращаются». Но про себя знает, что можно сделать обратный вывод: кто не возвращается – мертв.
– Если вы меня покинете, – говорит генералу Гурго, – я, может быть, буду во Франции раньше вашего… Там все в брожении; надо терпеливо ждать кризиса. Мне еще долго жить, моя карьера не кончена.
Надеется, что Святая Елена будет тем же, что Эльба; английская партия «бунтовщиков», желая иметь его своим вождем для защиты народных прав, овладеет несколькими портами Англии, вышлет за ним корабли и отвезет его во Францию, чтобы свергнуть Бурбонов.
В Рио-де-Жанейро арестован французский полковник, желавший пробраться на Святую Елену на паровой шлюпке, чтобы освободить императора. Если одному не удалось, может, удастся другому.
Мальчик-гардемарин с английского фрегата «Конквирор», в Джеймстаунской гавани, что-то кому-то шепнул, и в Лонгвуде праздник: «Сами-де англичане думают, что император скоро вернется на трон!»
– Предложи мне Франция сейчас корону, я отказался бы, – говорит он, но тут же прибавляет: – если бы не был уверен, что это единодушное желание нации!
А за недостатком Франции есть Америка:
– Как знать, не сможет ли еще ваше величество основать обширную империю в Америке?
– Нет, я слишком стар.
В старость свою, однако, не верит.
– Мне еще пятнадцать лет жизни! – говорит в марте 1817 года, а в октябре, перед самым началом смертельной болезни: – Мне еще нет пятидесяти, здоровье мое сносно. Мне остается по крайней мере тридцать лет жизни.
Это в хорошие минуты, но есть и другие:
– Думаете ли вы, что, когда я просыпаюсь ночью и вспоминаю, чем был и чем стал, не бывает и у меня скверных минут?
Что же значит эта бесконечная надежда? Значит – бесконечное мужество.
– Как вы изменились! – говорит впавшему в уныние и замышляющему измену генералу Гурго. – Хотите, я вам скажу почему? У вас нет мужества. Мы здесь на поле сражения, а кто уходит из сражения, потому что ему не везет, – трус!
Составляет план бегства по карте острова.
– Днем, через город, лучше бы всего. А если с берега, то с нашими охотничьими ружьями мы часовых десять уложим.
– Все двенадцать, ваше величество.
Планы предлагаются нелепые: нарядиться лакеем или спрятаться в корзине с грязным бельем. Но человека совершенно бесстрашного, твердо решившегося бежать и не сидящего под замком, а движущегося в двенадцатимильной окружности никакие часовые в мире не устерегли бы. Мог бы бежать, но вот не бежит; что-то не пускает его. Что же именно?
– Надо быть покорным судьбе; все там на небесах написано! – говорит, глядя на небо. – Надо слушаться своей звезды. – «Я полагаю, что звезде моей обязан тем, что попал сюда».
Вот кто держит его, сторожит – его же собственная, от него отделившаяся и на него восставшая Душа-Звезда. Вот какой невидимой цепью прикован к Святой Елене, как Прометей к скале.
Коршун, терзающий печень титана, – сэр Хадсон Лоу, губернатор острова.
«Богу войны, богу победы» надо воевать, побеждать до конца. Но кого? Лонгвудских крыс, блох, клопов, комаров, москитов? Да, их, а также врага исконного – Англию: Англия – Лоу. Льву в клетке надо грызть решетку; решетка – Лоу. Погребенному заживо надо стучаться в крышку гроба; крышка – Лоу.
Может быть, он вовсе не такой «злодей», как это кажется узнику. Длинный, худой, сухой, жилистый, веснушчатый, огненно-рыжий, из мелких военных полуагентов-полушпионов на Корсике, пробившийся горбом к генеральским чинам, он только слепое орудие английских министров.
«Скажите генералу Бонапарту: счастье его, что к нему назначили такого доброго человека, как я; другой посадил бы его на цепь за его проделки», – говорит Лоу. «Добрый человек» – слишком сильно сказано; но мог быть и хуже.
«Мои инструкции таковы, что их даже сказать нельзя», – признается он однажды и пишет английским министрам, ходатайствуя за императора.
«Генерал Бонапарт плохо принялся за дело: ему бы следовало сидеть смирно в течение нескольких лет, и в конце концов судьбой его заинтересовались бы». Может быть, так оно и есть, и, кажется, самому Лоу искренно хочется, чтобы так было.
Он не лишен остроумия.
– Я не знал, что генералу Бонапарту нужно себя кипятить в горячей воде столько часов и так часто повторять эту церемонию! – смеется почти добродушно по поводу горячих ванн императора, для которых в Лонгвуде не хватает воды. Крайние злодеи неостроумны.
– Он был величайшим врагом Англии, а также моим, но я ему все прощаю, – скажет над гробом Наполеона. Что это, гнусное лицемерие «палача»? Как знать… Во всяком случае, палачу простить жертву не так-то легко.
Впрочем, каждый из них – палач и жертва вместе. Мучают друг друга, истязают, убивают; сводят друг друга с ума; кто кого больше, трудно сказать.
Лоу в самом деле душевно заболевает от вечного страха, что Наполеон убежит; знает, что может убежать, а отчего не бежит, не знает.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































