Текст книги "Наполеон"
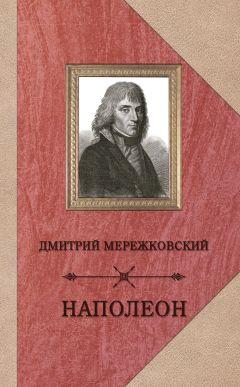
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
«Ваше королевское высочество, я прихожу к вам, чтобы сесть, как Фемистокл, у очага британского народа. Я отдаюсь под защиту его законов, которой прошу у вашего королевского высочества, самого могущественного, постоянного и великодушного из моих врагов», – писал Наполеон из Рошфора английскому принцу-регенту.
Значит, накануне Ватерлоо знал, что сделает в Рошфоре.
Это, впрочем, не так удивительно, удивительнее то, что знал это за двадцать восемь лет. Около 1787 года семнадцатилетний Бонапарт начинает писать в своих ученических тетрадях повесть в письмах об австрийском авантюристе, бароне Нейгофе, объявившем себя в 1737 году корсиканским королем под именем Феодора I, арестованном англичанами, посаженном в лондонский Тауэр и через много лет освобожденном лордом Вальполем. «Несправедливые люди. Я хотел осчастливить мой народ, и это мне удалось на одно мгновение; но судьба изменила мне, я в тюрьме, и вы меня презираете», – пишет Феодор Вальполю, и тот отвечает ему: «Вы страдаете, вы несчастны: этого довольно, чтобы иметь право на сострадание англичан». – «Дорого я заплатил за мое романтическое и рыцарское мнение о вас, господа англичане!» – как будто кончает Наполеон на Святой Елене неконченную повесть о корсиканском самозванце и английском узнике.
В тех же ученических тетрадях, делая выписки из «Современной географии» аббата Лакруа об английских владениях в Африке, пишет своим тогдашним, слитным и тонким, точно женским, почерком четыре слова:
Ste Hélène, petit isle…
Святая Елена, маленький остров…
Дальше пустая страница: начал писать и не кончил, как будто руку его остановил кто-то.
«Вы фаталист?» – «Ну разумеется. Так же, как турки. Я был всегда фаталистом. Если чего-нибудь хочет судьба, надо ее слушаться». – «Судьба неотвратима. Надо слушаться своей звезды». И умирающий, он отказывается принимать лекарства. «Что на небе написано – написано… Наши дни сочтены», – говорит, глядя на небо.
Вещее знаменье неба на земле повторяется,
Вещее знаменье земли повторяется на небе,
эту древневавилонскую клинопись он понял бы.
Фатализм, религию звездных судеб, нынешний Восток получил от древнего – от Вавилона, а тот – от еще более глубокой, неисследимой для нас, может быть, доисторической древности, которую миф Платона называет «Атлантидой», а книга Бытия – первым допотопным человечеством. Звездною связью связан Наполеон с этой древностью. Можно бы сказать и о нем, последнем герое человечества, то же, что сказано о первом – Гильгамеше:
Весть нам принес о веках допотопных.
«Человек Рока» назвал его после Маренго австрийский фельдмаршал Мелас. Это одно из тех глубоких общих мест, которые становятся общей мудростью.
На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук.
Лермонтов. «Воздушный корабль»
– и это имя: «человек Рока».
Рок для него – не отвлеченная идея, а живое существо, которое влияет на чужую мысль, чувство, слово, дело его, на каждое биение сердца. Он живет в роке, как мы живем в пространстве и времени.
Тотчас после взрыва адской машины на улице Сен-Никез Первый консул входит в Оперу и на рукоплескания двухтысячной толпы, еще не знающей о покушении, раскланивается с такой спокойной улыбкой, что никто не догадывается по лицу его, что за несколько минут он был на волосок от смерти. Это не бесстрашие в нашем человеческом смысле, не победа над страхом, а невозможность испытывать страх. Он знает, что судьба несет его на руках, как мать несет ребенка. «Ангелам Своим заповедает о себе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею» (Лк. 4:10, 4:11). Это он знает, или что-то похожее на это, но еще не знает, что это может сделаться искушением дьявола: «если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз» (Лк. 4:9).
Ангелы судьбы или дьяволы случая несут его до времени: и вся его тогдашняя жизнь – непрерывное чудо полета. «Как я был счастлив тогда, – вспоминает он первую Итальянскую кампанию. – Я уже предчувствовал, чем могу сделаться. Мир подо мной убегал, как будто я летел по воздуху».
Чудо полета продолжается до Русской кампании. «Вы боитесь, что меня убьют на войне? – говорит он накануне ее. – Так же пугали меня Жоржем во время заговоров. Этот негодяй будто бы всюду ходит за мной по пятам и хочет меня застрелить. Но самое большее, что он мог сделать, это убить моего адъютанта. А меня убить было тогда невозможно. Разве я исполнил волю судьбы? Я чувствую, как что-то толкает меня к цели, которой я и сам не знаю. Только что я достигну ее и буду бесполезен, атома будет довольно, чтобы меня уничтожить; но до того все человеческие усилия ничего со мной не сделают – все равно, в Париже или в армии. Когда же наступит мой час, лихорадка, падение с лошади, во время охоты, убьет меня не хуже, чем людей снаряд: наши дни на небесах написаны».
В это же время, перед Русской кампанией, когда дядя его, кардинал Феш, горячо спорил с ним о церковных делах, убеждая не восставать на Бога, довольно-де ему и людей, Наполеон слушал его молча; потом вдруг взял за руку, подвел к двери, открыл ее и вывел на балкон. Был зимний день, сквозь голые деревья парка Фонтенбло бледно голубело декабрьское небо. «Посмотрите на небо. Что вы там видите?» – сказал Наполеон. «Ничего не вижу, государь», – ответил Феш. «Хорошенько смотрите. Видите?» – «Нет, не вижу». – «Ну так молчите и слушайтесь меня. Я вижу мою Звезду: она меня ведет!»
Феш так и не понял, что великая звезда Наполеона – Солнце.
Если в жизни его была такая минута, когда он вдруг почувствовал, что несущие руки уходят из-под него, – надо искать ее в самом зените его, в высшей точке полета. Накануне Аустерлица, когда он уже знал, что завтрашнее солнце «взойдет, лучезарное», заговорив о древнегреческой трагедии, он сказал: «В наши дни, когда языческой религии уже не существует, для трагедии нужна другая движущая сила. Политика, вот ее великая пружина, вот что должно заменить в ней древний Рок». Чтобы заменить Рок волей человеческой – политикой, надо человеку восстать на Рок. Только Наполеон это подумал, как началось его падение: Рок возносил его покорного, восставшего – низверг.
Кажется, впервые он ясно почувствовал, что уже не летит, а падает, перед самым началом Русской кампании. «Целыми часами, лежа на софе, он погружен был в глубокую задумчивость; вдруг вскакивал с криком: „Кто меня зовет?“ – и начинал ходить по комнате взад и вперед, бормоча: „Нет, рано еще, не готово… надо отложить года на три…“» (Сегюр). Но знал, что не отложит – начнет, увлекаемый Роком.
«Я потерпел неудачу в Русской кампании. Что же меня уничтожило… Люди… Нет, роковые случайности… Я не хотел войны, и Александр тоже; но мы встретились, обстоятельства толкнули нас друг на друга, и рок довершил остальное». Это он говорит на Святой Елене и, «после нескольких минут глубокого молчания, как бы просыпаясь», говорит уже о пустяках, об измене Бернадотта – главной будто бы причине его, Наполеоновой, гибели. Зряч во сне – слеп наяву.
От Москвы до Лейпцига все яснее чувствует измену судьбы. «Мука моя была в том, что я предвидел исход; звезда моя бледнела, вожжи ускользали из рук, и я ничего не мог сделать». Как бы в летаргическом сне, все видит, слышит, знает – и не может очнуться.
«Он так был изношен, так устал (под Лейпцигом), что, когда приходили к нему за приказаниями, он часто, откинувшись назад в кресле и положив ноги на стол, только посвистывал» (Стендаль). Но, может быть, не «изношен», а занят чем-то другим, о другом задумался, отяжелел иной тяжестью, прислушивался к иным голосам: «Кто меня зовет?» Только теперь, через двадцать семь лет, дописывал ту пустую страницу, которую начал словами: «Святая Елена, маленький остров…»
«Чудесное в моей судьбе пошло на убыль. Это уже было не прежнее, неизменное счастье, осыпавшее меня своими дарами, а строгая судьба, у которой я вырывал их как бы насильно и которая мне тотчас же мстила за них. Я прошел Францию (вернувшись с Эльбы); я был внесен в столицу на плечах граждан, при общем восторге, но только что я вступил в нее, как, словно по какому-то волшебству, все от меня отшатнулось, охладело ко мне». Истощилась магия – магнит размагнитился.
«Наконец я побеждаю под Ватерлоо, и в ту же минуту падаю в бездну. И все эти удары, я должен сказать, больше убили меня, чем удивили. Инстинкт подсказывал мне, что исход будет несчастным; не то чтобы это влияло на мои решения и действия, но у меня было внутреннее чувство того, что меня ожидает». – «Со мной никогда ничего не случалось, чего бы я не предвидел». Все предвидит, потому что он сам этот «волшебник», который вызывает видения сна своего:
Сквозь грозы, как дикий волшебника вой,
Лишь слышался грохот пучины морской.
Тютчев. «Сон на море»
«Мне надо было умереть под Ватерлоо, – говорит он на Святой Елене с совершенною ясностью, как бы даже „веселостью“. – Но горе в том, что, когда ищешь смерти, ее не находишь. Рядом со мной, впереди, позади – всюду падали люди, а для меня ни одного ядра».
«Падут подле тебя тысяча, и десять тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизится» (Пс. 90). Эта неуязвимость, некогда благословенная, теперь становится проклятою.
Под грозной броней ты не ведаешь ран;
Незримый хранитель могучему дан.
Пушкин. «Песнь о вещем Олеге»
«Я полагаю, что обязан моей звезде тем, что попал в руки англичан и Хадсона Лоу». Вот куда вел его «незримый хранитель».
«Страшная палица, которую он один мог поднять, опустилась на его же голову» (госпожа Ремюза). И он как будто знал-помнил всегда, что так будет, и даже странно сказать, как будто этого сам хотел. О, конечно, хотел, не хотя, – как человек, глядящий в пропасть, хочет броситься в нее!
«Когда моя великая политическая колесница несется, надо, чтобы она пронеслась, и горе тому, кто попадет под ее колеса!» Он сам под них попал. Понял ли тогда.
Круговращение великих колес,
Движущих каждое семя к цели его,
По воле сопутственных звезд.
Данте. «Purgatorio»
Глядя на звездное небо с южным созвездием Креста, понял ли, куда и в какой колеснице несется?
Жертву венчают и связывают, чтобы вести на закланье? Понял ли он, что Рок увенчал и связал его, как жертву?
«Я никогда не был господином моих собственных движений; я никогда не был по-настоящему самим собою… Мною всегда управляли обстоятельства, и это до такой степени, что при начале моего возвышения, во времена Консульства, когда ближайшие друзья мои, самые горячие сторонники, спрашивали меня с наилучшими намерениями, для того чтобы знать, что им делать: чего я хочу, куда иду, – я каждый раз отвечал им, что этого я и сам не знаю. Они удивлялись и, может быть, досадовали, а между тем я говорил им правду… И потом, во времена Империи, я читал на лицах тот же безмолвный вопрос и мог бы на него ответить то же. Дело в том, что я не был господином моих действий, потому что не был так безрассуден, чтобы гнуть обстоятельства, и это часто давало мне вид непостоянства, непоследовательности, в чем меня и упрекали. Но разве это справедливо?»
«Чего я хочу, куда я иду, – я этого и сам не знаю». Вот странное признание в устах Наполеона, умнейшего из людей. Как будто повторяет он вечное слово Гете о нем: «Наполеон весь жил в идее, но не мог ее уловить своим сознанием». – «Это выше моего разумения!» – как сказал он после покушения Фридриха Штапса. Не похож ли он на человека, которого неодолимая сила ведет, как слепого, за руку?
А вот признание еще более странное: «У меня нет воли. Чем больше человек, тем меньше ему надо иметь воли: он весь зависит от событий и обстоятельств». Наполеон, человек бесконечной воли – без воли. Величие горя – свое величие – он измеряет отречением от воли. Мнимый владыка мира – настоящий раб. «Я говорю вам: нет больше раба, чем я. Моя неумолимая владычица – природа вещей». Просто смиренно он говорит: «природа вещей», «обстоятельства», – чтобы не употреблять всуе святое и страшное слово «Рок».
Отречение, смирение, покорность, жертвенность – все это ему, казалось бы, столь чуждое, на самом деле родственно. «Не моя, а Твоя да будет воля» – этого он сказать не может, как сын – Отцу, потому что не знает ни Отца, ни Сына; но, кажется, в смирении перед неведомым Божеством с покрытым лицом, упала на него тень Сына.
«Человек, упоенный Богом», – сказал кто-то о Спинозе; о Наполеоне можно бы сказать: «Человек, упоенный Роком».
«Бог мне дал ее; горе тому, кто к ней прикоснется!» – воскликнул он в Милане, венчаясь железной короной ломбардских королей. Бога вспомнил для других, а про себя мог бы сказать: «Мне дал ее Рок!»
Вот отчего на лице его такая грусть, или то, что глубже всякой человеческой грусти, – нечеловеческая задумчивость: это запечатленность Роком, обреченность Року.
«Когда я в первый раз увидел Бонапарта в мрачных покоях Тюильрийского дворца, – вспоминает Редерер, – я сказал ему: как грустно здесь, генерал!» – «Да, грустно, как величие!» – ответил он. «Есть у него всегда, даже на войне, в воззваниях к войску, что-то меланхолическое» (Редерер). В самом пылу действия не покидает его ничем не утолимая, не заглушаемая грусть или задумчивость.
«В минуты откровенности он признавался, что был грустен, без всякого сравнения со всеми своими товарищами, во всех житейских положениях» (госпожа Ремюза). – «Я не создан для удовольствия», – говорил он меланхолическим тоном.
«Люди мне надоели, почести наскучили, сердце иссохло, слава кажется пресной. В двадцать девять лет я все истощил», – пишет он в самое счастливое время своей жизни, время Египетской кампании. Это уже «мировая скорбь». Кажется, он первый приоткрыл эту дверь в кромешную ночь, и стужа междупланетных пространств ворвалась в комнату.
Я в мире не оставлю брата,
И тьмой и холодом объята
Душа усталая моя.
Как ранний плод, лишенный сока,
Она увяла в бурях рока,
Под знойным солнцем бытия.
Лермонтов. «Гляжу на будущность с боязнью»
Наполеон улыбается или хохочет, но никогда не смеется. «Кто заглянул в пророческую бездну Трофония[12]12
Трофоний (персонаж мифологии) – зодчий, построивший подземное прорицалище.
[Закрыть], уже никогда не будет смеяться», – думали древние.
«Всегда один среди людей, я возвращаюсь домой, чтобы мечтать наедине с самим собою и предаваться меланхолии.
О чем же я буду мечтать сегодня? О смерти», – пишет в своем дневнике семнадцатилетний артиллерийский подпоручик Бонапарт, в бедной комнатке оксонских казарм. И на высоте величия император Наполеон носит на груди ладанку с ядом. Мысль о самоубийстве сопровождала его всю жизнь, хотя он и знал-помнил, что себя не убьет. И не от каких-либо внешних несчастий приходит ему эта мысль, а оттого, что он устает спать «летаргическим сном» жизни и хочет наконец проснуться, хотя бы в смерть.
«Бури ищет всегда твой беспокойный дух, – говорит ему Жозефина. – Сильный в желаниях, слабый в счастье, ты, кажется, только себя одного никогда не победишь».
Зачем ты обрек Гильгамеша покоя не знать,
Дал ему сердце немирное, —
жалуется Богу мать богатыря. И Наполеон, как Гильгамеш, – «друг печали».
От тебя даже жизни ищу я;
Для него прохожу через степи,
Через моря, через реки,
Через горные дебри.
Беды, муки меня изнурили,
Исказили мой образ прекрасный, —
мог бы он повторить древневавилонскую молитву к богине Иштар. И доныне путь Гильгамеша-Наполеона не кончен: вечно скорбящий, стенающий, как бы гонимый неведомой силой, все идет и идет он, остановиться не может, подобно Агасферу и Каину. Путь его – путь всего человечества.
Он движется не по своей воле: кто-то бросил его, как бросают камень. «Я обломок скалы, брошенной в пространство». Только продолжает на земле бесконечную параболу, начатую где-то там, откуда брошен, и нашу земную сферу пролетает, как метеор.
Восьмого августа 1769 года, за семь дней до рождения Наполеона, появилась комета, которую астроном Мессье наблюдал из Парижской обсерватории. Хвост ее, блестевший чудным блеском, достиг в сентябре 60 градусов длины и постепенно приближался к Солнцу, пока наконец не исчез в лучах его, как бы сама комета сделалась Солнцем – великой звездой Наполеона.
А в первых числах февраля 1821 года, за три месяца до смерти его, появилась над Святой Еленою другая комета. «Ее видели в Париже 11 января», – пишет астроном Фей. «В феврале сделалась она видимой простому глазу, и хвост ее достигал 7 градусов. Ее наблюдали по всей Европе, а с 21 апреля по 5 мая и в Вальпарайзо». Значит, в обеих гемисферах небес, по всей Атлантике, последнему пути Наполеона.
«Слуги его уверяют, будто бы видели комету на востоке, – записывает в дневнике своем доктор Антоммарки 2 апреля 1821 года. – Я вошел к нему в ту минуту, когда он был встревожен этим известием. „Комета! – воскликнул он в волнении. – Комета возвестила смерть Цезаря… И возвещает мою…“» – «5 мая (день смерти Наполеона), – сообщает тот же астроном Фей, – можно было с острова Святой Елены видеть в телескоп, как эта комета, постепенно удаляясь от земли, исчезла в пространстве».
«Несчастный! Я его жалею, – писал никому еще не известный артиллерийский подпоручик Бонапарт в 1791 году о гениальном человеке – о самом себе. – Он будет удивлением и завистью себе подобных и самым жалким из них. Гении суть метеоры, которые должны сгорать, чтобы освещать свой век».
Сгорать, умирать, быть жертвою – таков удел его, это он знает уже в начале жизни и еще лучше узнает в конце, на Святой Елене, под созвездием Креста: «Иисус Христос не был бы Богом, если бы не умер на кресте». Но знание это темно для него, как солнце слепых: света солнца не видят они, только теплоту его чувствуют. Так и он.
Богу солнца Молоху приносил он жертву на острове Горгоны, а на Святой Елене приносится в жертву сам. Кому – этого он не знает; но думает – Року.
В солнце померкла звезда его. Что это за солнце, он тоже не знает и тоже думает – Рок.
Роком называли древние то, что мы называем «законом природы», «необходимостью». Существо обоих – смерть, уничтожение личности, ибо закон природы так же безличен, как Рок. Надо было выбрать жизнь или смерть, кроткое иго Сына или железное – Рока. Мы выбрали последнее и падаем жертвами его, так же как наш герой. Наполеон – самый великий из нас и «самый жалкий».
Кажется, вещий сон его подобен сну Иакова. «И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари. И увидел, что не одолеет его, сказал ему: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня» (Быт. 32:24–32:26). Иаков борется с Богом, а Наполеон – с Сыном Божьим. Борется с Ним Наполеон-Человек, так же как все отступившее от Христа человечество.
«Удалось ли христианство?» – нечестивый вопрос. Надо бы спросить: удалось ли наше европейское христианство? Спасется ли оно с Христом или без Него погибнет, как вторая Атлантида? Этот вопрос и задал нам «человек из Атлантиды» – Наполеон.
Он последний герой Запада.
Придя на запад солнца,
увидев свет вечерний,
поем Отца, Сына и Духа, Бога! —
пели христиане первых веков. Мы уже никому не поем, глядя на вечерний свет Запада, окружающий нашего последнего героя сиянием славы. Свет вечерний – за ним: вот почему лицо его так темно, невидимо, неизвестно для нас, и, по мере того как свет потухает, всё темнее, всё неизвестнее. Но, может быть, недаром оно обращено к Востоку: первым лучом озарит его восходящее солнце Сына, и мы тогда увидим, узнаем его.
Да, только узнав, что такое Сын Человеческий, люди узнают, что такое Наполеон-Человек.
Жизнь Наполеона подобна дневному течению солнца.
1769–1795
От рождения до Вандемьера – утренние сумерки.
1795–1799
От Вандемьера до Брюмера – восходящее солнце.
1799–1807
От Брюмера до Тильзита – полдень.
1807–1812
От Тильзита до Москвы – вечер.
1812–1815
От Москвы до Ватерлоо – закат.
1815–1821
От Ватерлоо до смерти – ночь.
Утренние сумерки
I. Детство. 1769-1779
«Генеалогические изыскания о роде Бонапартов есть не что иное, как ребячество. Очень легко ответить на вопрос, откуда этот род начался: от 18 брюмера. Можно ли иметь так мало чувства приличия и уважения к императору, чтобы придавать какую-либо важность предкам его? Солдат, гражданин, государь, он всем обязан своей шпаге и любви к нему народа». Эта внушенная, вероятно, самим Наполеоном заметка появилась в «Мониторе» 25 мессидора (14 июля 1805 года), полгода спустя после коронования. «Вот как должен говорить великий человек!» – воскликнула по этому поводу одна из его умных поклонниц. «Я никогда не заглядывал ни в один из моих родословных пергаментов; они всегда находились в руках брата Жозефа, нашего семейного генеалога, – говаривал сам император, смеясь. – Я один из тех людей, которые
Все сами по себе, по предкам же ничто» (Артур Шюке).
Буона-Парте (Buona-Parte) – очень старый и благородный тосканский род из Тревизо и Флоренции, чье родословное древо возводят, может быть, слишком усердные генеалоги до начала X века. Один из Буона-Парте участвовал будто бы в первом крестовом походе. Во второй половине XIII века флорентийский патриций Гульельмо Буонапарте, принимавший участие в борьбе Гвельфов и Гибеллинов, объявлен был мятежником и навсегда изгнан из Флорентийской республики. Он переселился в Сарцану захолустный городок Генуэзской республики, где изгнанный род, в течение двух с половиной веков, влачил довольно жалкое существование, занимая должности синдиков, нотариев и членов Совета старейшин. Наконец в 1529 году последний отпрыск сарцанской ветви Буонапарте, Франческо, переселился на Корсику, в Аяччо. Здесь, продолжая сохранять именитое звание флорентийских патрициев, но захудав окончательно, жили потомки этого рода, по дворянскому обычаю, праздно, благородно и скаредно, на скудные доходы с небольших участков земли, оливковых рощ, виноградников да овечьих и козьих стад.
Наполеон по своей наследственности – запоздавший кондотьер XV века, вроде Малатесты, Сфорцы, Коллеоне, «гениальный разбойник»: эта гипотеза Тэна – доныне общее место. Но ни одного кондотьера в роду Буонапарте не было; был зато «блаженный» отец Бонавентура. Стоит вспомнить о нем, чтобы тэновская гипотеза пала: почему, в самом деле, кровь несуществующего «разбойника» в жилах Наполеона оказалась сильнее, чем кровь действительного святого?
Карл Бонапарт, младший потомок рода, отец Наполеона, был красавец, стройный, очень высокого роста, «настоящий Мюрат», вспоминает впоследствии вдова его; совершенный кавалер, дамский любезник, весельчак, итальянский краснобай-адвокат; вольтерьянец, сочинитель вольнодумных стишков и мадригалов; ловкий ходок по судебным делам, неугомонный и настойчивый проситель, обиватель порогов у сильных мира сего; человек неглупый, но слабый и легкомысленный; «слишком большой друг удовольствий, чтобы думать о детях своих», по отзыву Наполеона; сам полудитя, баловник и заступник их перед строгою матерью.
Изучив правоведение в Пизанском университете, он получил место асессора во французском Королевском суде в Аяччо.
Кажется, Наполеон ничего от отца не унаследовал, кроме фамильного имени, красивого овала лица, голубовато-серого цвета глаз и страшного недуга – рака в желудке. Вот еще один убийственный удар по кондотьеровской гипотезе Тэна: для Наполеона не имеет почти никакого значения Бонапартова наследственность: сын в мать, а не в отца.
В 1764 году Шарль посватался за дочь аяччского главного инспектора путей сообщения Марию-Летицию Рамолино, из рода Пьетра-Санта, тоже захудалого, но очень древнего, происходившего будто бы от владетельных князей Ломбардии. Жениху было восемнадцать лет, а невесте четырнадцать: бедные корсиканские дворяне торопились сбывать дочерей с рук, чтобы избавиться от лишней обузы в доме.
Синьора Летиция славилась красотой даже на Корсике, где красавиц множество. Сохранился ее портрет в молодости. Прелесть этого лица с таинственно-нежной и строгой улыбкой напоминает Мону Лизу или родственных ей, так же, как она, улыбающихся этрусских богинь, чьи изваяния находятся в незапамятно древних могилах Тосканы – Этрурии. Как будто из той же темной древности светит нам и эта улыбка второй Джоконды, этрусской Сибиллы, Наполеоновой матери.
Antiquam exquirite matrem.
Матери древней ищите.
«Род человеческий обладает двумя великими добродетелями, которые следует уважать бесконечно: мужеством мужчин и целомудрием женщин», – говорит Наполеон, думая, конечно, о своей матери. Знает, что мужественный рождается от целомудренной.
«Сельская Корнелия», – назвал ее корсиканский герой Паоли. До конца своих дней мать императора, как все даже знатные женщины Корсики, мало чем отличалась от простой поселянки. Грамота, письмо да первые правила арифметики – вот все, что она знала. Даже говорить по-французски не научилась как следует: коверкала слова грубо и смешно, на итальянский лад. На пышных тюильрийских выходах являлась в простом, почти бедном, платье: бережлива была до скупости. «Люди говорят, что я скаредна; пусть говорят… Может быть, когда-нибудь дети мои будут мне благодарны, что я для них берегла». Все копила – на черный день, а когда он пришел, готова была для Наполеона продать все до последней рубашки.
«Моя превосходная мать – женщина с умом и сердцем, – говаривал он. – Нрав у нее мужественный, гордый и благородный. Ей обязан я всем моим счастьем, всем, что сделал доброго… Я убежден, что все добро и зло в человеке зависит от матери».
Мать знала, кто ее сын. «Вы чудо, вы феномен, вы то, чего и сказать нельзя!» – говорила ему в глаза простодушно. «Синьора Летиция, вы мне льстите, как все!» – «Я вам льщу? Нет, сын мой, вы несправедливы к вашей матери. Мать сыну не льстит. Вы знаете, государь: я оказываю вам всяческое уважение на людях, потому что я ваша подданная, но наедине я ваша мать, а вы мой сын. Когда вы говорите: „Хочу“, я говорю: „Не хочу“, потому что у меня тоже гордый характер».
Умирая, он вспоминал «уроки гордости, которые получил в детстве от матери и сохранил на всю жизнь». Когда во время террора на Корсике, в 1793 году, ей предлагали изменить побежденным друзьям, чтобы спасти свое имущество, а может быть, и жизнь свою и детей своих, она ответила, как настоящая Корнелия, мать Гракхов: «У меня и у моих детей не две веры, а одна – долг и честь!» «Вы ко мне очень привязаны, – говорил Наполеон доктору Антоммарки незадолго до смерти. – Вы себя не жалеете, чтобы облегчить мои страдания. А все же это не ласка матери. Ах, мама Летиция, мама Летиция!..» И он закрывал лицо руками.
За год до рождения Наполеона вспыхнуло на Корсике восстание против французов, которым продали остров генуэзцы, его вековые угнетатели. Старый корсиканский Babbo[13]13
Папа (итал.).
[Закрыть] Паскуале Паоли сделался вождем повстанцев. Карл Бонапарт присоединился к нему. Восемнадцатилетняя синьора Летиция, беременная шестой месяц вторым сыном Наполеоном – первым был Жозеф, – сопровождала мужа в этой трудной и опасной войне. «Потери, лишения, усталость – всё перенесла она, шла на всё. Это была голова мужчины на теле женщины», – вспоминает Наполеон.
В диких горах и дремучих лесах, то верхом, то пешком, карабкаясь на кручи скал, пробираясь сквозь чащи колючих кустов – корсиканских «маки», переходя через реки вброд, слыша над собой свист пуль, неся одного ребенка на руках, а другого под сердцем, она ничего не боялась.
Однажды едва не утонула в реке Лиамоне. Брод был глубокий; лошадь потеряла дно под ногами и поплыла, уносимая быстрым течением. Спутники Летиции перепугались, бросились за нею вплавь и закричали ей, чтобы она тоже кинулась в воду, – спасут. Но бесстрашная всадница укрепилась в седле и так хорошо управилась с лошадью, что благополучно добралась до берега. Вот когда, может быть, уже передавала Наполеону свое чудесное мужество – крепость Святой Скалы, Pietra-Santa.
Ничего не боялась за него; носила младенца под сердцем так же спокойно и радостно, как потом на руках: посвятила его Пречистой Деве Марии и знала, что Она его сохранит.
В день последнего поражения корсиканских патриотов под Понте-Нуово синьора Летиция почувствовала, что дитя нетерпеливо шевелится, «играет во чреве ея», «как будто уже хотело воевать, прежде чем родилось» (Шюке).
Война была слишком неравная: французы нагнали на Корсику множество войск. После окончательного разгрома повстанцев и бегства Паоли Карл Бонапарт понял, что это «война глиняного горшка с чугунным котлом», решил покориться французам и, получив от них охранную грамоту, вернулся с женою в Аяччо.
Пятнадцатого августа 1769 года, в день Успения Богородицы, идучи в церковь, Летиция почувствовала такие сильные боли, что должна была вернуться домой, кое-как добралась до спальни, но не успела лечь в постель, повалилась на неудобное, узенькое, жесткое, с прямою спинкой канапе и легко разрешилась от бремени сыном, Наполеоном.
Молока у матери не было. Наняли кормилицу, жену аяччского лодочника, Камиллу Илари. Она полюбила Наполеона больше, чем родного сына. Сохранил и он о ней на всю жизнь благодарную память.
На Святой Елене, незадолго до смерти, вспоминал он свои детские годы на Корсике: как отважно карабкался по кручам скал, над пропастями, заходил в глубокие долины, тесные ущелья; как всюду встречаем был с гостеприимством, почетным и радостным, когда посещал своих родных, чьи лютые распри и кровавая месть доходили до седьмого колена. «Там лучше всё, чем где бы то ни было в мире… Я бы и с закрытыми глазами узнал родную землю по одному запаху. Больше я нигде его не находил».
Дух Земли вошел в него с этим запахом и вышел только с последним дыханием; то, что мы называем Наполеоновым гением, и есть этот Дух Земли.
Что такое Корсика? «Мир еще в хаосе, буря гор, разделяющих узкие овраги, где бушуют потоки; ни одной равнины, только исполинские волны гранита или такие же волны земли, поросшие колючим кустарником и высокими лесами каштанов да сосен. Все девственно, дико, пустынно, хотя кое-где и мелькает селение, подобное куче скал на вершине горы. Никакого земледелия, никакого промысла, никакого искусства. Нигде не увидишь куска резного дерева или изваянного камня; ни одного воспоминания о ребяческом или утонченном вкусе предков к милым и прекрасным вещам. Вот что поражает больше всего в этой великолепной и суровой земле: наследственное равнодушие к тому исканию соблазнительных форм, которое называется искусством» (Мопассан, «Счастье»).
«Островитяне, – говорит Наполеон, – всегда имеют в себе нечто самобытное благодаря уединению, предохраняющему их от постоянных вторжений и смешений, которым подвергаются жители материков».
«Остров» значит – «уединение», а «уединение» значит – «сила». Это лучше, чем кто-либо, знает Наполеон.
Точно сама Пречистая Матерь оградила двойною оградою – высью гор и ширью вод – Свой возлюбленный остров от нашей нечисти – «прогресса», «цивилизации». Все дико, девственно, пустынно, невинно, не тронуто, не осквернено человеком; все так, как вышло из рук Творца. Чувства людей чисты и свежи, как родники, бьющие прямо из гранитных толщ. Незапамятная древность – юность мира. Так же блеют овцы, пчелы жужжат, как в те райские дни, когда бога-Младенца коза Амалфея кормила молоком, а пчелы Мелиссы – медами горных цветов. То же солнце, то же море, те же скалы: всё, как было в первый день творения и будет – в последний.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































