Текст книги "Наполеон"
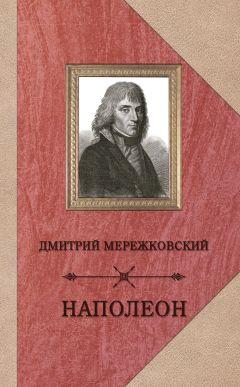
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
Вечером 5-го Коленкур, Макдональд и Ней вернулись из Парижа в Фонтенбло и сообщили императору, что Сенат провозгласил графа Прованского королем Людовиком XVIII; Александр не принял условного отречения и требует полного.
– Значит, война, – проговорил император спокойно. – Ну что же, война сейчас не хуже мира!
Раньше еще, предвидя ответ Александра, он отдал приказ об отступлении за Луару: завтра, чуть свет, Гвардия двинется, головною колонною, в Мальзерб, и остальные войска последуют за нею в то же утро.
Пятого вечером генералы на тайном собрании постановили не исполнять никаких приказов императора о движении войск, и в два часа ночи генерал Фриан, командир 1-й дивизии Старой Гвардии, передал это постановление всем корпусным командирам, а утром Коленкур, Макдональд и Ней сообщили о нем же начальнику Главного штаба.
Шестого Наполеон в последний раз собирает маршалов. Очень спокойно и подробно, с математической точностью, указывая на военные карты и исчисляя остающиеся боевые силы, он излагает свой план отступления. «Может быть, еще можно все спасти!»
Маршалы молчат, а когда Наполеон требует ответа, отвечают, что у него остались лишь обломки армии, и, если бы даже удалось ему уйти за Луару, эти последние усилия кончатся только гражданской войной. И глиняные лица говорят без слов: «Отрекись!»
– Вы хотите покоя – имейте покой! – говорит император, садится к столу и пишет:
«Так как союзные державы объявили Наполеона единственным препятствием для восстановления мира в Европе, то, верный присяге, он объявляет, что отрекается за себя и своих наследников от тронов Франции и Италии, ибо всякую личную жертву и самую жизнь он готов принести для блага Франции».
«Жертва» – слово это сказано и записано на вечных скрижалях Судьбы. Лицо жертвы – вот новое отныне лицо Наполеона-Человека.
Тотчас же замок пустеет, – все разбегаются. «Можно было подумать, что императора уже похоронили» (Анри Уссе).
В замке тихо, а в казармах шум. Там не хотят отречения и возмущаются изменой маршалов. Ночью Старая Гвардия в боевом порядке, с развернутыми знаменами, при свете факелов и под звуки «Марсельезы» и Наполеонова гимна, проходит по улицам города. Чудны и страшны лица солдат: видно по ним, что, если бы только император захотел, он все еще мог бы с такими людьми пройти и победить весь мир.
Двенадцатого апреля приехал из Парижа маршал Макдональд, чтобы получить от Наполеона и отвезти союзникам подписанные им, или, как говорят дипломаты, «ратифицированные» условия отречения. Император велел ему прийти за ними завтра, в девять утра.
Что произошло в ту ночь, никто хорошенько не знает. В окнах замка мелькали огни; люди бегали, кричали, звали на помощь. Слух прошел, что император хотел отравиться ядом из ладанки, которую носил на шее с Испанской кампании, но отравился неудачно: яд выдохся; все кончилось только сильнейшей рвотой.
Сам он, уже на Святой Елене, опровергает этот слух с негодованием. К самоубийству чувствовал всегда презрение: «Только глупцы себя убивают». – «Самоубийца – тот же дезертир: бежать из жизни – все равно что с поля сражения», – сказано в одном из его приказов по армии. Он знал-помнил, что бежать некуда.
Может быть, в эту страшную ночь вспомнил, как еще никогда, что он вечен, со всеми своими муками – и с этою злейшею – стыдом. «Умереть в бою ничего не значит; но в такую минуту, в такой грязи – нет, никогда, никогда!» «Я стыжусь моего отречения, – скажет на Святой Елене. – Это была моя ошибка, слабость, выходка, вспышка, излишество темперамента. Я был охвачен отвращением и презрением ко всему, что меня окружало, и к самой судьбе; мне захотелось бросить ей вызов». Вызов бросил, и Судьба его не возвратила. Он понял, что будет вечно гореть в геенне стыда.
Что такое «ратификация»? Взаимно подтвержденное согласие обеих сторон принять поставленные друг другу условия; в этом случае, со стороны Наполеона, согласие принять вместо мирового владычества остров Эльбу, смешное владение Санчо Пансы, да еще с годовым двухмиллионным жалованьем и сохранением императорского титула. «Я такой человек, которого можно убить, но нельзя оскорбить», – говаривал он и вот вдруг понял, что убить его нельзя, а оскорбить можно. Плюнули ему в лицо, и он «ратифицирует» плевок.
В девять утра пришел к нему Макдональд. «Император сидел у камина в простом белом, бумазейном халате, в туфлях на босу ногу, с открытой шеей, упершись локтями в колени и закрыв лицо руками, – вспоминает Макдональд. – Когда я вошел, он не пошевелился, хотя обо мне доложили громким голосом; он казался погруженным в глубокую задумчивость», как бы в «летаргический сон», по выражению Бурьенна. – «После нескольких минут молчания герцог Виченский (Коленкур) сказал: „Ваше величество, маршал герцог Тарентский ожидает ваших приказаний; ему нужно возвращаться в Париж“. Император как будто проснулся и взглянул на меня с удивлением; встал, подал мне руку, извинился, что не слышал, как я вошел. Только что он открыл лицо, я был поражен тем, как оно изменилось: цвет его был желтым, оливковым. „Ваше величество нездоровы?“ – проговорил я. „Да, я провел скверную ночь“, – ответил он и опять, сев, как давеча, погрузился в глубокую задумчивость. Мы смотрели на него молча. – „Ваше величество, герцог Тарентский ждет, – проговорил наконец герцог Виченский, после довольно долгого молчания. – Надо бы вручить ему ратификацию; срок ее истекает в двадцать четыре часа, а обмен должен произойти в Париже“. Тогда император, опять выйдя из своей задумчивости, встал; вид его был немного бодрее, но цвет и выражение лица не изменились. „Я чувствую себя немного лучше“, – сказал он».
В тот же день он передал Макдональду ратификацию, и тот отвез ее в Париж.
То, что Наполеон все это перенес и остался жив, может быть, бóльшая победа, чем Арколе и Маренго.
В десять утра 20 апреля, в день, назначенный союзниками для отъезда императора на Эльбу, подали кареты. Гренадеры Старой Гвардии стояли под ружьем, на дворе Белого Коня. Ровно в полдень, как бывало в счастливые дни Консульства и Империи, император, в простом егерском зеленом мундире, сером походном плаще и треуголке, вышел на двор. Гренадеры взяли на караул, барабаны забили в поход.
– Солдаты моей Старой Гвардии, прощайте! – сказал император, войдя в ряды. – Двадцать лет вы были со мной, на путях чести и славы. И в эти последние дни, как в дни нашего счастья, вы не переставали быть образцами доблести и верности. С такими людьми, как вы, дело наше не было проиграно, но война была бы еще тяжелее. Я уезжаю. А вы, друзья, продолжайте служить Франции… Прощайте, мои старые товарищи! Я хотел бы вас всех прижать к моему сердцу… Дайте знамя!
Генерал Пти подал ему знамя. Он обнял и поцеловал сначала генерала, потом – знамя.
– Прощайте, дети! Пусть этот последний мой поцелуй дойдет до вашего сердца. Будьте всегда храбрыми и добрыми.
Гренадеры плакали.
Двадцать седьмого апреля Наполеон был в Сен-Рафаэль-Фрежюсе, где высадился почти пятнадцать лет назад, после Египетской кампании, перед 18 брюмера. Здесь солнце его взошло и здесь же зайдет, но еще не совсем: самым пурпурным, царственным лучом блеснет перед вечным закатом.
III. Эльба – Сто дней. 1814-1815
«Островом Покоя будет Эльба», – сказал Наполеон, высаживаясь 4 мая с английского фрегата в Понте-Феррайо, главной гавани острова.
«Я буду здесь жить как мировой судья… Император умер; я – ничто, и ни о чем больше не думаю, кроме моего маленького острова; ничто не занимает меня, кроме моего семейства, моего домика, моих коров да мулов». Кажется, в первые дни, а может быть, и недели, месяцы своего пребывания на Эльбе, он так именно и чувствовал. Может быть, вспоминал детские мечты свои в дощатой келийке аяччского дома, и мечты бриеннского школьника в зеленой «пустыньке», где возвращался к «естественному состоянию», по завету Руссо, и мечты парижского школьника в темной комнате с занавешенными окнами, днем при свечах, и артиллерийского поручика в оксонских казармах о пловце, заброшенном бурей на необитаемый островок Горгону: «Я был царем моего острова; я мог бы здесь быть если не счастлив, то мудр и спокоен». Может быть, понял-вспомнил, что весь мир для него «необитаемый остров» и мировое владычество немногим больше, чем это лилипутское царство, империя Санчо Пансы – Эльба.
– Ну что, ворчун, скучаешь? – спросил однажды старого гренадера своего «почетного» караула на острове.
– Скучать не скучаем, ваше величество, но и веселого мало!
– Напрасно, мой друг, надо жить как живется!
Это больше чем правило житейской мудрости; это смиренная покорность Высшим Силам, которые, он чувствует, ведут его всегда. «Везде счастливый Наполеон», – написано было на одной из колонн эльбского загородного дома его, Сан-Мартино. В самом деле, он мог быть везде счастлив, если бы хотел счастья.
«Островом Покоя» Эльба не сделалась. Тотчас принялся он за работу, с такой же всепожирающей жадностью, как везде и всегда. Маленький остров устраивает, как некогда великую империю: прокладывает дороги; строит лазареты, школы, театры, казармы, преобразует таможни, акцизы, пошлины; роет рудники; акклиматизирует шелковичных червей; отдает на откупа рыбные ловли и соляные копи; поощряет новые запашки; насаждает виноградники; украшает и оздоравливает Порто-Феррайо.
«Эльба сделалась похожей на Остров Блаженных», – вспоминает один из жителей. Как будто на этом клочке земли Наполеон хотел устроить то, что не удалось на всей земле, – «золотой век», «земной рай».
Это длилось полгода; может быть, продлилось бы и дольше, если бы люди оставили его в покое. Но, как некогда бриеннские школьники врывались в его зеленую «пустыньку», так теперь союзные державы врываются на «Остров Блаженных».
Эльба не Горгона: из газет и слухов он узнает, что делается на свете. Продолжается фонтенблоская «ратификация», плевки в лицо. Жену его отдали распутному негодяю, шпиону Нейппергу, и сына отняли. «Так в древности отнимали детей у побежденных и украшали ими триумф победителей», – жалуется император. Людовик XVIII находит, что двухмиллионный императорский паек чересчур велик, и задерживает его, быть может, не столько из скупости, сколько из желания унизить врага.
Талейран и лорд Кестлридж сговариваются на Венском конгрессе о ссылке его на какой-нибудь остров Атлантического океана. «Участь Бонапарта решена: его сошлют на Святую Лючию… Тамошний климат скоро очистит мир от Корсиканского чудовища», – поздравляют друг друга англичане. «Наполеон на Эльбе – то же для Франции, для всей Европы, что Везувий для Неаполя», – остерегает Фуше. «Хорошая ссылка, а лучше могила, – думают многие. – Большая ошибка, что Бонапарта оставили в живых: пока над его головой не будет шести футов земли, нельзя быть спокойным». Алжирские корсары предлагают захватить его в плен, а римские монахи – заколоть.
«Меня хотят убить, пусть… Я солдат… я сам открою грудь ударам; но я не хочу быть сосланным», – говорит он английскому уполномоченному Кэмпбеллу, может быть, по прочтении присланной ему леди Холланд английской газеты с известием, что его хотят сослать на Святую Елену. «Святая Елена, маленький остров» – этих слов, записанных в ученической тетради, и пустой за ними страницы, немой судьбы, он, конечно, не вспомнил тогда; но, может быть, сердце его содрогнулось от вещего ужаса.
Он узнает, что союзники ссорятся – вот-вот перегрызутся, и вспыхнет война, уже не из-за него; что Франция ненавидит Бурбона, «въехавшего в нее на закорках русского казака, по трупам французов», как изображалось на карикатурах; Франция ждет и зовет его, Наполеона, «как Мессию».
Обо всем этом сообщает ему посланец маршала Бертье, бывший аудитор Государственного совета Флери де Шабулон, переодетый матросом и тайно приехавший на рыбачьей фелуке в Порто-Феррайо.
Наполеон решает «разорвать саван». Двадцать пятого февраля 1815 года велит зафрахтовать два корабля, починить старый бриг «Непостоянный», выкрасить его как английское судно, вооружить и снабдить провиантом. В ночь на 26-е погружается на корабли с маленькой армией: шестьюстами гренадерами и егерями Старой Гвардии, четырьмястами корсиканскими егерями да сотней польских уланов. С этою горстью людей он должен завоевать Францию. Первого марта бросает якорь в Гольф-Жуане, между Антибами и Каннами.
«Французы, – говорит в воззвании к народу, – я услышал, в моем изгнанье, ваши жалобы и ваши желанья: вы требуете правительства единственно законного, по своему собственному выбору. Я переплыл через моря. Я иду, чтобы снова взять мои права и ваши». «Солдаты! – говорит в воззвании к армии, – собирайтесь под знамена вашего начальника. Жизнь его – ваша; его права – права народа и ваши. Победа пойдет перед нами беглым маршем. Орел с трехцветным знаменем полетит с колокольни на колокольню, до башен Парижской Богоматери».
Как сказал, так и сделал. Искра, вспыхнувшая некогда, после Египетской кампании, во Фрежюсе, вспыхнула теперь в Гольф-Жуане и пробежала мгновенно по всей Франции. Солнце всходило тогда, а теперь заходит, пламенея сквозь тучи последним, самым пурпурным, царственным лучом. «Лучшее время всей моей жизни был поход из Канн в Париж», – вспомнит император на Святой Елене. Может быть, никогда еще не чувствовал он себя таким бессмертным, как в эти дни своего «второго пришествия».
«Орел летит» через Приморские Альпы, к северу. Маленькая армия идет по Восточному Провансу еще почти крадучись: тамошние жители, большею частью роялисты, равнодушны или глухо-враждебны к императору. Но уже с границ Дофине весь народ подымается на пути его, точно сама земля встает. К ней ближе он в эти дни, чем когда-либо, как заходящее солнце.
Люди из окрестных селений выбегают навстречу к нему и, когда, сравнив его живое лицо с изображением на пятифранковой монете, убеждаются, что это «никто, как он», – приветствуют его немолчным: «Виват император!»
Седьмого марта, подходя к Греноблю, в Лафрейском ущелье, он встречает высланный против него батальон 5-го линейного полка, под командой Делессара. Обойти его нельзя: цепь крутых холмов с одной стороны, а с другой – озера. Императорский авангард польских уланов подъезжает к батальону. Делессар, видя ужас на лицах солдат, понимает, что боя нельзя начинать, и хочет их увести. Но уланы следуют за ними по пятам, так что лошади дышат им в спину. Тогда Делессар командует «в штыки». Люди его машинально повинуются. Но уланы, получившие приказ не атаковать ни в каком случае, поворачивают лошадей назад и отступают. В то же время император, велев опустить ружейные дула в землю, один, во главе своих старых егерей, идет к батальону.
– Вот он! Пли! – командует, вне себя, капитан Рандон.
Люди бледнеют; ноги у них подкашиваются; в судорожно сжатых руках ружья дрожат. На расстоянии пистолетного выстрела Наполеон останавливается.
– Солдаты! – говорит он громким и твердым голосом. – Я ваш император. Узнаете меня?
Делает еще два-три шага и открывает на груди зеленый егерский мундир.
– Если есть между вами солдат, который хочет убить своего императора, – вот я!
– Виват император! – раздается неистовый крик. Люди выбегают к нему из рядов, падают к ногам его, обнимают их, целуют ботфорты его, шпагу, полы мундира: в эту минуту он для них в самом деле «воскресший Мессия».
И ворота Гренобля взломаны, крепостной гарнизон сдался; солдаты кидаются на императора «в таком исступлении, что кажется, растерзают его; окружают, подымают, несут на руках, – так и донесут до Парижа» (Лас-Каз).
Ночью императорская армия входит в Гренобль в сопровождении двухтысячной толпы крестьян с топорами, вилами, пиками, ружьями, факелами, под звуки «Марсельезы» и крики: «Виват император! Виват свобода! Долой Бурбонов!»
«Здесь родилась Революция, – говорят, встречая Наполеона, жители местечка Визиль, под Греноблем, – мы первые потребовали прав человека; и здесь же воскресает свобода и честь Франции»[17]17
В замке Визиль находится знаменитый Зал для игры в мяч, в котором 17 июня 1788 года собрались представители трех сословий.
[Закрыть].
«Это новый припадок Революции», – верно определяет маршал Ней. «Всего вероятнее, что народ снова хочет Бонапарта», – пишет русский уполномоченный. После Москвы, Березины, Лейпцига, Парижа, после всей пролитой крови и перед всей, которая еще прольется, это, в самом деле, невероятно, чудесно, как чудо «второго пришествия».
«Ваше величество, вы всегда творите чудеса, потому что, когда мы узнали, что вы вернулись, мы подумали, что вы сошли с ума…» – начал адъюнкт маконского мэра свою приветственную речь и не кончил, заглушенный неистовым «Виват император!». «С ума сошел» не только император, но и вся Франция.
Двое крестьян в городке Вильфранш Лионского департамента покупают у хозяина гостиницы, где остановился Наполеон, кости съеденного им цыпленка, чтобы хранить их как святыню.
В Лионе, под окнами его, трое-четверо суток стоит, не расходясь, двадцатитысячная толпа и кричит, не переставая: «Виват Революция!»
Он и сам знает, что он – Революция, и снова вдохновляется духом 93-го года, чувствует себя «Робеспьером на коне», действует с решительностью, силой и быстротой Конвента: запрещает белую кокарду, уничтожает старое дворянство и феодальные титулы; объявляет короля низложенным. «Я нахожу, – говорит он, – что ненависть к дворянам и священникам теперь такая же сильная, как в начале Революции».
Да, Революция воскресла, и с нею – он, Человек: для одних – «Зверь, выходящий из бездны», для других – «Мессия, вставший из гроба».
«Ваше величество, – говорит маршал Ней, тоже сын Революции, почтительно целуя руку старого Бурбона, – я надеюсь покончить с Бонапартом и привезти вам его в железной клетке!»
Это выражение так нравится Нею, что он повторяет его всем, а когда кто-то замечает, что «лучше бы привезти Бонапарта в гробу, чем в клетке», – возражает: «Нет, вы не знаете Парижа: надо, чтобы парижане видели его в клетке!»
Ней с королевскими войсками маневрирует между Суассоном и Маконом, чтобы захватить и истребить «всю разбойничью шайку» одним ударом. Вдруг получает письмо: «Брат мой, приезжайте ко мне в Шалон, я приму вас, как на следующий день после Бородина». И храбрейший из храбрых бледнеет, как те гренобльские солдаты, услыхавшие команду: «Вот он! Пли!» Точно мгновенно сходит с ума. «Вихрь закружил меня, и я потерял голову», – признается впоследствии. «Кинулся в пропасть, как бывало кидался под жерла пушек». Изменил Бурбону – предался Бонапарту. Если бы, впрочем, и хотел драться, не мог бы. «Не могу же я остановить моря руками!» – жаловался, еще до измены.
От Лиона к Парижу, все выше и выше «полет орла». Шествие за ним революционных толп и войск – «как огненный след метеора в ночи».
В ночь на 20 марта король бежит из Тюильрийского дворца, а вечером на следующий день карета императора подъезжает к Павильону Флоры и в нескольких шагах от него останавливается: такая давка, что нельзя подъехать к крыльцу. Люди окружают карету, открывают дверцу, берут императора на руки, несут его по двору, вносят в здание, взносят по лестнице – вот-вот задушат, раздавят, убьют. Но он уже ничего не видит и не слышит; плывет по темным человеческим волнам, как бледный цветок; предается им, протянув руки вперед, закинув голову, закрыв глаза, с неподвижной улыбкой на губах, как лунатик во сне или бог Дионис в толпе исступленных вакхантов. «Те, кто нес его, были как сумасшедшие, и тысячи других были счастливы, когда им удавалось поцеловать одежды его или только прикоснуться к ней… Мне казалось, что я присутствую при воскресении Христа», – вспоминает очевидец (Тьебо).
Венский конгресс в ужасе. Тринадцатого марта подписана декларация восьми союзных держав – Англии, Австрии, России, Швеции, Пруссии, Голландии, Испании, Португалии: «Наполеон Бонапарт, снова появившись во Франции, поставил себя вне законов гражданских и общественных и, как возмутитель мирового покоя, обрек себя всенародной казни».
Образуется седьмая коалиция. Уполномоченные Англии, Австрии, России, Пруссии заключают договор, имеющий целью «сохранение мира», а для мира каждая держава выставляет сто пятьдесят тысяч штыков – все вместе миллион, – «пока Бонапарт не будет лишен возможности угрожать покою Европы».
О мере ужаса можно судить по мере ярости. «Напрасно мы щадили французов, надо бы их всех истребить!» – вопят немецкие газетчики. «Надо бы весь французский народ объявить вне закона!» – «Перебить их всех как бешеных собак!»
Ужас Бонапарта – ужас Революции. Это понимает лучше всех Александр: «Отделить, отделить его от якобинцев!» – повторяет он и в кровавом зареве новой войны видит исполинское видение апокалипсического Всадника, «Робеспьера на коне». – «Наполеон – Аполлион, Губитель, ангел бездны, – шепчет он, гадая над Апокалипсисом. – Шестьсот шестьдесят шесть, число Зверя, число человеческое».
Ужас напрасный: новая вспышка Революции потухнет, как тот последний красный луч заката, и все вдруг опять потускнеет, помертвеет; только что было червонным золотом, и вот опять – серый свинец. Сразу после 1793 года наступит 1811-й. «Робеспьер на коне» исчезнет – снова появится император Наполеон.
«Я прошел Францию, я был внесен в столицу на плечах граждан, при общем восторге, но только что я вступил в нее, как, словно по какому-то волшебству, всё от меня отшатнулось, охладело ко мне».
Нет, он сам охладел ко всем; вдруг опять заскучал, не захотел ничего, как под Бородином; заснул «летаргическим сном», как под Лейпцигом: все видит, слышит и не может очнуться, пальцем пошевелить, когда его кладут в гроб и зарывают в землю.
Людовик XVIII дал Франции конституционную хартию. Бонапарту нельзя отставать от Бурбона. «Наполеон, умерь свою власть, – напевают ему в уши старые якобинцы Конвента и новые либералы Реставрации. – Франция хочет быть свободной… Завтра ты будешь иметь бунтовщиков вместо подданных, если не дашь свободы».
Бенжамен Констант, новый Сийес-Гомункул, отец мертворожденных конституций, сочиняет либеральную хартию – Дополнительный Акт к императорской конституции, Acte additionel.
Только в «летаргическом сне» можно было в такую минуту, перед миллионным нашествием, спешиться с коня, чтобы пересесть на парламентскую телегу, превратиться из революционного диктатора в конституционного монарха.
Он и сам это чувствует: «Меня толкают не на мою дорогу, ослабляют, сковывают. Франция ищет меня и не находит. „Где прежняя рука императора, которая могла бы усмирить Европу?“ – спрашивает Франция». «Он становился либералом наперекор себе; калечил себя и ослаблял; уже не был самим собою», – говорит старый честный якобинец.
Первого июня происходит праздник новой конституции, «Бенжамены», как ее окрестили; собрание избирательных коллегий, голосовавших за Дополнительный Акт, – торжественная и унылая церемония на Майском, бывшем Марсовом, поле. Кардиналы служат обедню, и император, взойдя на трон посреди площади, присягает новой конституции над Евангелием. Думали, что он появится в простом егерском или гренадерском мундире Старой Гвардии, как под Маренго или Аустерлицем; но на нем – древнеримская туника, пурпурная, усеянная золотыми пчелами мантия, белые атласные штаны и черная испанская шляпа с белыми перьями. «Что за маскарад!» – шепчут в толпе. Да, зловещий маскарад; тленом пахнет от него, как от могильного выходца.
Седьмого июня – первое заседание новой палаты, в присутствии императора. Он произносит речь: «В течение трех месяцев обстоятельства и доверие народа облекали меня неограниченной властью. Ныне исполняется самое пламенное желание моего сердца: я начинаю конституционную монархию, люди бессильны упрочить судьбы народов; это могут сделать только учреждения».
«Люди бессильны», значит, он, Человек, бессилен. Вот второе отречение, хуже первого.
«Несмотря на всю его власть над собой, он не мог скрыть боли и гнева, которых стоило ему это признание; лицо его было мертвенно-бледно, черты искажены, голос пронзительно-резок».
Точно вдруг оглохший Бетховен, играя симфонию, фальшивит, сам это чувствует и не может поправиться.
Две первые союзные армии – англо-голландская, Веллингтона, и прусская, Блюхера, – шли на соединение, чтобы через бельгийскую границу вторгнуться во Францию. Это только передовая линия, а за нею – резервы: австрийцы, шведы, русские – та же миллионная лавина, как и в прошлом году.
Маршалу Даву, военному министру, удалось мобилизовать в течение трех месяцев сто тридцать тысяч человек. Меньшая часть их – обломки Великой армии, большая – «Марии Луизы». Это последние капли крови из жил Франции. Вся она, в эту минуту – как загнанная лошадь под бешеным всадником: вот-вот упадет и сломит ему спину.
Но, может быть, эти последние – лучшие. «Чтобы дать понятие об энтузиазме французской армии, – пишет герцогу Веллингтону английский шпион из Парижа, – стоит только провести параллель между 92-м годом и нынешним, да и то сейчас перевес в сторону Бонапарта». – «Чувство, которое испытывают войска, – не патриотизм, не энтузиазм, а остервененье на врага за императора», – пишет в своем военном дневнике французский генерал Фуа. И французский дезертир: «Это одержимые!»
«Никогда еще не было в руках Наполеона такого страшного и хрупкого оружия», – говорит лучший историк 1815 года (Уссе). Оружие страшное и хрупкое вместе, потому что острие его слишком отточено, вот-вот сломится. С такою армией так же легко победить, как быть пораженным; все зависит от духа ее, а дух – от вождя.
Кто же он – зверь, сорвавшийся с цепи, беглый каторжник, сумасшедший с бритвою, как думают союзники, или все еще Вождь, ведущий в рай сквозь ад, как думает Франция? Это решит величайшая битва новых веков – Ватерлоо.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































