Текст книги "Наполеон"
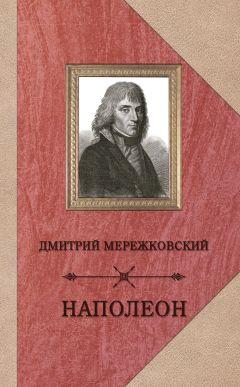
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
III. Династия. 1810-1811
Дочь австрийского императора, Мария Луиза, досталась добычей Ваграмскому победителю.
Жозефина бездетна, а Наполеону нужен наследник, чтобы основать династию. «Если бы я имел несчастье потерять Жозефину, то, может быть, государственные соображения принудили бы меня снова жениться, но тогда я женился бы только на брюхе, и Жозефина осталась бы все-таки единственной подругой моей жизни». Так и женился на «брюхе» Марии Луизы: у матери ее было тринадцать человек детей, у бабушки – семнадцать, а у прабабушки – двадцать шесть.
Двадцать пятого декабря 1809 года объявлен развод и «добровольное» отречение императрицы Жозефины, не без многих истерик ее, обмороков, слез. Плачет и он; плачет, впрочем, всегда довольно легко от малых и средних горестей; от больших – никогда. К Жозефине привязан искренно: как это ни странно, Наполеон – человек старых привычек, «старых туфель»; «старая туфля» для него и Жозефина: мягкая, не жмет.
Кроме плодородья Габсбургов, соблазняет его в Марии Луизе и кровь Бурбонов: женившись на ней, скажет Людовику XVI «дядюшка» и Марии-Антуанетте «тетушка». «Снизился» революционный солдат сначала до «императора», а потом – до «наследника Габсбурга». – «А вот настоящая австрийская губа!» – восхищается, сравнивая ее портреты с медалями Габсбургов.
Наполеон забыл Бонапарта: «У меня нет сына, и он мне ни на что не нужен. Дух семейственный мне чужд. Под Маренго я больше всего боялся, что, если буду убит, мне наследует один из моих братьев». – «Мой единственный наследник – французский народ. Это мой сын: я только для него работал».
«Снизился», отрекся от самого себя, от личности для рода; не захотел быть одним-единственным – захотел второго Наполеона в Габсбурге.
В 1814 году, в Рамбулье, куда приехала Мария Луиза с сыном, Франц II поражен был сходством трехлетнего Римского короля с Иосифом II: «Настоящий Габсбург!»
Сорокалетний жених молодится для восемнадцатилетней невесты: заказывает себе щегольское узкое платье и узкие башмаки, которых не выносит; учится вальсировать, хотя его от круженья тошнит. Ждет невесты не дождется, как маленький мальчик – новой игрушки.
Выезжает к ней навстречу в Компьен, ночью, в слякоть, кидается в ее карету, где и овладевает ею наспех, по-солдатски.
Кожа у нее фарфорово-белая, фаянсово-голубые глаза, деревянная жесткость движений, лицо слегка рябое и румяное, грудь кормилицы и невинность десятилетней девочки. Она вытирает лицо платком от его поцелуев. «Что это, Луиза, я тебе противен?» – «Нет, но у меня такая привычка: я так же делаю, когда меня целует король Римский».
Муж любит тепло, а жена холод. – «Спи у меня, Луиза». – «Нет, у вас слишком натоплено».
«Я его ничуть не боюсь, но начинаю думать, что он меня боится», – говорит она Меттерниху три месяца спустя после свадьбы.
Он воображает, что она его любит. В 1814 году, после его отреченья, она пишет ему, что никогда его не покинет и «никакая человеческая сила не разлучит ее с ним». И он ей верит или делает вид, что верит. «Вы не знаете императрицы: это женщина с большим характером!» – говорит своим приближенным. «Она умнее и политичнее всех моих братьев».
Ждет ее на Эльбу, в изгнание, потому что она «любит в нем человека больше императора». Там же, на Эльбе, велит живописцу изобразить на плафоне дворца «двух голубков, связанных шелковой лентой так, чтобы узел затягивался по мере того, как они разлетаются».
На Святой Елене, за неделю до смерти, завещает ей свое сердце. «Вы положите его в спирт и отвезете в Парму моей дорогой Марии Луизе; вы скажете ей, что я ее нежно люблю и никогда не переставал любить. Вы сообщите ей все, что видели; как я здесь жил и как умер». В это время она уже любовница австрийского дипломата, барона Нейпперга, темного проходимца, злейшего врага его и многолетнего шпиона.
«Я прошу мою дорогую супругу Марию Луизу, беречь моего сына», – сказано в завещании императора. К счастью, он умер, не узнав, как она его сберегла.
Второго апреля 1810 года повенчал их тот же кардинал Феш, который венчал Наполеона с Жозефиной. Двадцатого марта 1811 года родился у них сын, король Римский. Призрачная династия основана; бездна покрыта цветами. Кажется, впрочем, он себя не обманывает: «Брак с Марией Луизой меня погубил… Я поставил ногу на прикрытую цветами пропасть».
Первый навязанный им себе на шею камень – Испания, второй – династия, третий – папа.
«Папа господствует над духом, а я – только над материей». – «Души людей священники берут себе, а мне оставляют трупы». Этого он не хочет; хочет оживить трупы, соединить дух с материей. Объявляет, что нет двух наместников Христа – папы и кесаря, а есть один – кесарь. «Бог сделал императора наместником Своего могущества и образом Своим на земле».
«Я надеялся управлять папою, и тогда какое влияние, какая власть над миром!» – «Я управлял бы миром духовным так же легко, как политическим». – «Я вознес бы папу безмерно, окружил бы его таким почетом и пышностью, что он перестал бы жалеть о мирском; я сделал бы из него идола; он жил бы рядом со мной; Париж был бы столицею христианского мира; у меня были бы мои соборы, как у Константина и Карла Великого».
Майским декретом 1809 года, из Шенбрунна, после Эсслинга, император лишает папу Папской области, т. е. земной власти. Папа отлучает императора. «Больше никакой пощады! Это бешеный дурак, которого надо запереть», – пишет Наполеон Мюрату. Тот врывается с военною силою в Квиринальский дворец, арестовывает папу и увозит больного, дышащего на ладан старика сначала в Тоскану, потом в Гренобль и, наконец, в Савону на Генуэзской Ривьере.
Император велит отправить всех кардиналов и папскую канцелярию в Париж; туда же думает перевезти папу, чтобы иметь его под рукой, в полной своей власти. Впоследствии перевезет его и заточит в Фонтенбло, где заставит подписать второй Конкордат, с отречением от мирской власти; папа, впрочем, от него скоро откажется. В Фонтенбло он живет под надзором жандармского офицера-тюремщика. С 1810 года отняты у него секретарь, все бумаги, даже чернила и перья. Но он остается тверд: «Дело идет о нашей совести, и тут от нас ничего не получат, если бы даже с нас содрали кожу!»
Так Наполеон сам подрубает сук, на котором сидит, – священное коронование; борется железным мечом с призраком.
«Даже в протестантских странах возмущены его поведением с папою» (Бурьенн). – «Я очень плохо принялся за это дело, – мог бы он сказать о своем поединке с Римом, так же как об Испанской войне. – Все это имеет вид прескверный, потому что я потерпел неудачу… Покушение, в результате, представилось во всей своей безобразной наготе». – «Я занес руку слишком высоко, я захотел действовать как Провидение».
Лейб-медик Корвизар еще в первые годы Империи вылечил его от тулонской чесотки, и он сразу начал полнеть. Вместе с худобой лишился той божественной легкости, о которой говаривал, вспоминая молодость: «Я тогда как будто летел по воздуху». Годам к сорока толстеет, жиреет и тяжелеет. Вопреки естеству, душа его в больном теле здорова, а в здоровом – больна. Цвет кожи становится из желтого матово-белым, холодным, как мрамор. В слегка одутловатом лице проступает что-то мягкое, женское, почти «бабье». Один приезжий из провинции лакей, увидев его в парадной карете, рядом с императрицей, в церемониальной шляпе с большими белыми перьями, принял его за «старую гувернантку» Марии Луизы. Вместо прежней оссиановой грусти в этом лице тяжелая, каменная скука – «летаргический сон».
«Мне вас жаль, – говорит Талейран обер-церемониймейстеру Ремюза, – вы должны забавлять незабавляемого!»
Сам император иногда удивляется скуке своих придворных балов. «Это потому, что веселье не слушается барабана», – объясняет ему Талейран.
Скучно государю – скучно и подданным. Не веселят и победы; от них еще скучнее, потому что война кажется бесконечной. «Здесь уныние и недовольство общее, – пишет в частном письме одна современница. – Ни восхищения, ни даже удивления к победам: чудесами пресытились» (госпожа Ремюза).
Революционный диктатор становится самодержавным деспотом.
Мартовским указом 1810 года, восстановляющим тюрьмы для политических преступников, «как бы упраздняется первое действие Революции – разрушение Бастилии» (Тибодо). Школы и лицеи превращаются в казармы, где музы маршируют под звук барабана, так же как дамы на придворных балах. Свобода печати задушена. Из 73 газет остается только 4; статьи поступают в них из «бюро общественного настроения», a редакторы назначаются министром юстиции. «Печатный станок – арсенал: его нельзя делать общедоступным; книги должны печатать только те, кто пользуется доверием правительства». – «Надо бы свести газеты к объявлениям», – мечтает император. «Хорошо бы запретить Тартюфа». – «Мысль есть главный враг царей».
Невинно-либеральная госпожа де Сталь гонима. «Царство смутьянов кончено; я хочу, чтобы меня слушались; уважайте власть, потому что она от Бога». Шатобриана за неосторожное слово о Нероне и Таците император грозит «зарубить саблями на ступенях Тюильрийского дворца».
Скучно, душно, тяжело всем, как в бреду. Он и сам это знает. «Когда я умру, весь мир вздохнет с облегчением: „Уф!“»
«Бог создал Бонапарта и опочил», – говорит ему в лицо префект одного департамента. «Лучше бы немного раньше опочил!» – замечает кто-то шепотом.
Город Париж сочиняет надпись для императорского трона: «Ego sum qui sum (Я есмь Сущий)». – «Я запрещаю вам сравнивать меня с Богом», – отвечает император со скукой и отвращением на слишком бесстыдную лесть.
Точно Каменный Гость: когда идет, земля под ним дрожит. «От последнего камер-лакея до первого министра все чувствовали ужас при его приближении».
Знал ли он, что делает, или бесконечно зрячий ослеп, бесконечно умный обезумел? Все знал; знал, что губит себя, и не мог не губить – не «сгорать» – не умирать, не быть «жертвою». – «Всю мою жизнь я жертвовал всем – спокойствием, выгодой, счастьем – моей судьбе». Не мог не жертвовать, как вечернее солнце не может не склоняться к западу.
«Страшная палица, которую он один мог поднять, опустилась на его же голову» (госпожа Ремюза). Знал, что опустится, и даже, странно сказать, как будто этого сам хотел.
«Сам себя разрушил, убил себя политическим самоубийством», – говорит один современник. Самоубийство – саморастерзание, «Дух Господен сошел на него, и он растерзал льва, как козленка». Самого себя растерзал, чтобы «из ядущего вышло ядомое, и из крепкого вышло сладкое».
В 1808 году, перед Испанской войной, надел на себя ладанку с ядом и не снимет ее до конца; но не отравится – уже был отравлен. Императорский пурпур на нем – как одежда Нисса: липнет к телу и сжигает его до костей; он не освободится от нее, пока не взойдет на костер жертвенный: должен сгореть на нем, как солнце на костре заката.
«Только бы продлилось, только бы продлилось», – шепчет мама Летиция, качая головой, как вещая парка. «Твердо знала всегда, что все рушится» (Стендаль). А может быть, и сын ее знал, слышал голос Судьбы и покорно шел на него, как дитя – на голос матери.
Знал, что близок час его – Двенадцатый год.
IV. Москва. 1812
«Целыми часами, лежа на софе, в долгие зимние ночи 1811 года он погружен был в глубокую задумчивость; вдруг вскакивал, вскрикивал: „Кто меня зовет?“ – и начинал ходить по комнате, бормоча: „Нет, рано еще, не готово… надо отложить года на три…“» (Сегюр). Но знал, что не отложит, и знал, кто его зовет, – Рок.
«Я не хотел войны, и Александр ее не хотел; но мы встретились, обстоятельства толкнули нас друг на друга, и рок довершил остальное».
Русская кампания – неизбежное следствие континентальной блокады, поединка Франции с Англией. «Разрушив Австрию и Пруссию, эти естественные оплоты Европейского Запада, Наполеон оказался лицом к лицу с Русским Востоком» (Сегюр).
Осенью 1810 года блокада начинает действовать: в лондонском Сити – ряд банкротств; внутреннее положение Англии невыносимо; экономический кризис грозит ей социальной революцией. Наполеону кажется, что он уже касается цели: Англия накануне падения; нужно только нанести ей последний удар: закрыть Балтику, заткнуть эту последнюю щель, через которую просачиваются английские товары в Европу. «Мир и война – в руках России», – говорит Наполеон и предлагает Александру конфискацию, в водах Балтики, не только английских, но и нейтральных судов с английскими товарами. «Никогда еще Англия не находилась в таком отчаянном положении… Мы имеем достоверные сведения, что она желает мира… Если Россия присоединится к Франции, то общим криком Англии сделается „Мир!“ и английское правительство вынуждено будет просить мира».
Но Александр вовсе не хочет поражения Англии: он видит в ней последнюю защиту от окончательного «порабощения народов под властью одного». В то же время Наполеон, узнав, что 1200 нейтральных судов выгрузили товары в русских гаванях, понял, что Россия никогда не присоединится к блокаде.
С января 1811 года Александр потихоньку мобилизует двести сорок тысяч штыков к западной границе. Он обманывает Наполеона беззастенчиво: готовил на него внезапный удар и нанес бы его, если бы Польша согласилась.
Но Наполеон предупреждает Александра: к весне 1811 года собирает в Германии армию небывалую в новые времена – шестьсот семьдесят тысяч штыков, – соединяющую две трети военной Европы, дисциплинированную железной рукой, образованную и движимую волей одного человека. Он решает напасть на Россию в 1812 году.
«Солдаты! – говорит он в воззвании к Великой армии, – война начинается… Россия увлекаема Роком; судьбы ее должны совершиться… перейдем же Неман!»
К Неману подходит 22 июня 1812 года.
Так же, как тогда, пять лет назад, в год Тильзита,
Лениво дышит полдень мглистый,
Лениво катится река,
И в тверди пламенной и чистой
Лениво тают облака;
И всю природу, как туман,
Дремота жаркая объемлет…
Тютчев. «Полдень»
Так же на песчаных отмелях парит, пахнет теплою водою, рыбою, теплой земляникой и смолистыми стружками из соснового бора. Душно; в зное зреет гроза.
Тот берег пуст. Где же русские? В сумерки несколько разведчиков переплывают реку и выходят на берег. Всадник, русский офицер казачьего патруля, выезжает к ним из лесу, кричит: «Кто вы такие?» – «Французы». – «Что вам нужно?» – «А ты, сукин сын, не знаешь? Воевать, взять Вильну, Польшу, Россию!» Всадник молча поворачивает лошадь и скачет в лес. Три выстрела грянуло за ним; их повторило эхо в лесу, и опять тишина мертвая.
Армия переходила через Неман по трем понтонным мостам, тремя колоннами. Русские переходу не мешали. Этому радовались все, кроме императора. Стоя на том берегу и следя за движением войск, он часто поглядывал вдаль, как будто ждал кого-то. Вдруг вскочил на коня и, один, без конвоя, помчался в лес. Скачет версту, две, три – ни души. Остановился, оглянулся, прислушался: тишина, пустота, бесконечная – бесконечная тайна – Россия. «Кто меня зовет?» – воскликнул и поскакал назад к Неману.
Армия шла на Россию через Литву – Ковно, Вильно, Витебск, – нигде не встречая врага и углубляясь все дальше и дальше, в тишину, пустоту бесконечную. Точно падала в пропасть, тонула в воде, шла, как ключ, ко дну. Ужас овладел людьми. Это была уже не война, а что-то неизвестное: люди воюют с людьми или с природой, но как воевать с невещественным, неосязаемым – с Пространством?
В зное зрела гроза недаром: разразилась потопными ливнями, и сразу, после палящего зноя, наступили холода, в июле – октябрь. Десять тысяч лошадей пало от плохих кормов и внезапного холода; тлеющие трупы их валялись по дорогам, заражая воздух. Непролазная грязь остановила подвоз провианта. В армии начался голод, гнилая горячка и кровавый понос. Люди мерли как мухи, бежали из-под знамен. И это только начало, Литва еще не пройдена.
«Я знаю, положение армии ужасно, – говорит Наполеон. – С Вильны у нас половина отсталых, а теперь – две трети. Времени терять нельзя: надо вырвать мир; он в Москве. К тому же армия уже не может остановиться: ее поддерживает только движение; с нею можно идти вперед, но не останавливаться и не отступать. Это армия для нападения, а не для обороны».
Но если бы и могла остановиться армия, он сам бы не мог: ужасает пространство и притягивает, как бездна; должен идти все вперед и вперед, проваливаться в бездну, уходить в глубину, в тишину бесконечную, в бесконечную тайну – Россию.
Двадцать восьмое июля – Витебск. Император входит в приготовленную для него комнату, снимает шпагу, кладет ее на стол с картой России и говорит: «Я остановлюсь здесь, подожду, осмотрюсь, дам отдохнуть армии, устрою Польшу, соберусь с силами. Кампания 1812 года кончена; кампания 1813 года довершит остальное». – «В 1813-м мы будем в Москве, в 1814-м – в Петербурге. Русская кампания – трехлетняя».
Говорит для других, а про себя знает, что не остановится, – дойдет до Москвы, коснется дна пропасти.
Семнадцатого августа – Смоленск. Город взят приступом, сожжен. Думали было французы, что русские не отдадут без боя святых ворот Москвы, с древней иконой Богоматери. Нет, отдали, только увезли Владычицу.
«Отдали Смоленск – отдадут и Москву! – кричит Наполеон в бешенстве. – Трусы, бабы, люди без отечества. Мы их голыми руками возьмем!». «Ну-ка, попробуй, возьми!» – отвечают без слов угрюмые лица маршалов.
Бой, наконец, бой! Пятого сентября французы увидели русскую армию. Защищая подступы к Москве по Можайской дороге, она заняла укрепленные высоты Бородина.
Встрепенулась Великая армия, снова поверила в звезду Вождя, поняла, что это первый и последний, все решающий бой, в котором надо победить или погибнуть.
Ночь накануне боя император плохо спал: простудился, сделалась лихорадка с кашлем и насморком. В дни осеннего равноденствия – поворот годового дня к ночи, солнца к зиме – он всегда себя чувствовал плохо, как будто слабел и хирел вместе с солнцем.
Все просыпался, спрашивал, который час, и посылал узнать, не уходят ли русские; бредил, что уйдут.
В пять утра, когда ему доложили, что маршал Ней все еще видит неприятеля и просит позволенья начать атаку, император встал, встряхнулся, как будто ободрился и проговорил: «Наконец-то, мы их держим! Идем же, откроем дверь в Москву!»
Вышел на занятый позавчера Шевардинский редут; подождал, чтобы солнце взошло, и, указывая на него, воскликнул: «Это – солнце Аустерлица!», но таким равнодушным голосом, что лучше бы совсем не говорил.
Да и солнце всходило против него, со стороны русских, ослепляя французов и открывая их ударам врага.
Бой начался, «самый кровавый из всех моих боев», – скажет о нем Наполеон. Может быть, не только французы и русские, но и люди вообще никогда не дрались с таким ожесточением и с такою равною доблестью, потому что за святыни равные: французы – за мир и Человека, русские – за отечество и еще за что-то большее, сами не знали за что; думали: за Христа против Антихриста.
Первый раз в жизни Наполеон в бою не участвовал. Шевардинский редут, где пробыл он весь день, находился в тылу французской армии; поле сражения, заслоненное холмами, плохо было видно оттуда. Император то садился на складной походный стул, то ходил взад и вперед по площадке редута. Каменная скука была на лице его – «летаргический сон». Жаждал боя, а когда он начался, едва смотрел на него, едва слушал о нем донесения. Узнавая о гибели храбрых, только уныло отмахивался, как будто думал о другом, другим был занят. Чем? Или просто болен. «С телом моим я всегда делал все, что хотел». Но теперь ничего не мог сделать. Мир хотел победить – и не победил насморка.
Сгорбившись, понурив голову, сидел и кашлял, чихал, сморкался. Одутловато-белое, бабье лицо его напоминало «старую гувернантку Марии Луизы». Люди и боги ему не простят, что в такую минуту он, Человек, оказался «мокрой курицей». Но, может быть, ему и не надо, чтобы прощали, ничего не надо; уже не хочет победить мир: понял, что игра не стоит свеч. «Лет до тридцати победа может ослеплять и украшать славою ужасы войны, но потом…» – «Никогда еще война не казалась мне такою мерзостью!»
Мог победить и не захотел; оттолкнул Победу, как пресыщенный любовник – любовницу: этого она ему не простит.
Кавалерийской атакой Мюрата опрокинуто все левое крыло Кутузова; конницей Латур-Мобура взяты высоты Семеновска: путь к победе открыт. Но изнемогающие маршалы, Ней и Мюрат, просят подкреплений. Император колеблется – дает, не дает. Этим пользуются русские: Багратион восстановляет прорванную линию, и дело идет уже не о том, чтобы довершить, а чтобы сохранить победу. Маршалы снова просят, молят подкреплений. Император велит выступить Гвардии; но только что выступила – останавливает: «Нет, я еще посмотрю…»
К полудню правое крыло французов врезается в русскую армию так глубоко, что видит всю ее обнаженную внутренность, весь тыл до Можайской дороги – беглецов, раненых, телеги обоза; только ров да лесная порубка отделяют французов от них; нужен последний удар, чтобы прорваться к ним и решить участь боя – может быть, участь всей кампании. «Гвардии! Гвардии! – молят, требуют маршалы. – Пусть только появится издали, и мы одни кончим все!» – «Нет, я еще недостаточно ясно вижу на моей шахматной доске… Если завтра будет новый бой, с чем я останусь?» – отвечает император.
«Я его не узнаю!» – вздыхает Мюрат с грустью. – «Что он там делает в тылу?! – кричит в бешенстве Ней. – Если он хочет быть не генералом, а императором, пусть возвращается в Тюильри, – мы будем воевать за него!»
Когда Наполеон дал наконец Гвардию, было уже поздно: русские отступили в полном порядке, оставив французам только поле сражения, где мертвых победителей, казалось, было больше, чем живых.
«Москва! Москва!» – закричали солдаты и захлопали в ладоши от радости, когда 14 сентября, в два часа пополудни, увидели на краю Можайской равнины золотые маковки. Вдруг забыли все муки войны: «мир в Москве» обещал император.
Может быть, радовались и чему-то большему, о чем сказать не умели. Через Москву – путь на Восток, где некогда Господь насадил Свой сад, рай, для Адама; и вот новый Адам, Человек, ведет их в новый рай – царство свободы, равенства и братства. От Фавора до Гибралтара, от Пирамид до Москвы – таков Наполеонов крест на земле, апокалипсическое знаменье.
«Цель века была достигнута, совершилась Революция, – вспомнит он сам, уже на Святой Елене, свои тогдашние мечты. – Я делался ковчегом Ветхого и Нового Завета, естественным между ними посредником». – «Мое честолюбие, может быть, величайшее и глубочайшее, какое существовало когда-либо, заключалось в том, чтобы утвердить и освятить наконец царство Разума – полное проявление и совершенное торжество человеческих сил». – «И какие бы тогда открылись горизонты силы, славы, счастья, благоденствия!» Это значит: «Через Москву – в рай!»
«Наконец-то!» – воскликнул он, глядя с Поклонной горы на простирающуюся у ног его Москву и как будто просыпаясь от страшного сна.
Ждет депутатов, чтобы тотчас начать переговоры о мире, и вдруг узнает, что Москва пуста. Не верит, все еще ждет. Только к ночи въезжает в Москву и как будто опять засыпает тяжелым сном: пустота многолюдного и вдруг опустевшего города, вымерших улиц, безмолвных домов страшнее самой страшной пустыни. Пустота, тишина бесконечная – бесконечная тайна, Россия, Рок.
В ту же ночь он узнает, что Москва горит. Пять дней будет гореть. Тушат французы, но не потушат: сразу со всех концов сама загорается; поджигают русские воры и разбойники, выпущенные для этого нарочно из тюрем. «Люди с дьявольскими лицами в бушующем пламени – настоящий образ ада», – вспоминает очевидец. «Какие люди, какие люди! Это скифы!» – шепчет Наполеон в ужасе.
Ясные сухие дни; сильный северо-восточный ветер; город почти весь, кроме церквей и дворцов, деревянный – бушующее море пламени. «Это было самое величественное и ужасное зрелище, какое я когда-либо видел», – вспомнит Наполеон.
Так вот чем ответила ему Россия – самосожжением.
Целыми часами, глядя на пожар из окон Кремлевского дворца, он видит, как вся его жизнь – победы, слава, величье – исчезает, как дым, в клубах дыма и пламени. Завидует ли России? Вспоминает ли свое искушение огнем: «Сгореть, чтоб осветить свой век»?
Кремль осажден пламенем. Жар так силен, что, когда император смотрит из окна, стекла жгут ему лоб.
Он бежит из Кремля «по огненной земле, под огненным небом, между огненными стенами» (О’Мира), и едва спасается.
Выждав в Петровском-Разумовском, чтобы Москва догорела, возвращается на ее пепелище. Не знает, что делать: решает то идти на Петербург, то зимовать в Москве; мечется, как затравленный зверь. Наконец посылает к Александру. «Я хочу мира, – говорит посланному, – мне нужен мир во что бы то ни стало; только спасите честь!»
Александр не отвечает: мира не будет.
Тринадцатого октября выпадает первый снег, предвещая лютую русскую зиму – после огненного ада.
Девятнадцатого числа Великая армия – уже не великая, а малая, едва шестая часть ее, – выходит из Москвы по Калужской дороге и начинает отступление.
Двадцать восьмого октября ударил мороз, а 8 ноября, по дороге на Вязьму, французов застигла такая вьюга, что людям, не знавшим русской зимы, казалось, что тут им всем пришел конец. Черное небо обрушилось на белую землю, и все смешалось, закружилось в белом, бешеном хаосе. Люди задыхались от ветра, слепли от снега, коченели от холода, спотыкались, падали и уже не вставали. Вьюга наметывала на них сугробы, как могильные холмики. Весь путь армии усеян был такими могилами, как бесконечное кладбище.
Особенно пугали их долгие зимние ночи. На бивуаках в степи, в двадцатиградусный мороз, не знали, где укрыться от режущего, ледяного ветра. Жарили себе на ужин дохлую конину на тлеющих углях, оттаивали снег на похлебку из горсти гнилой муки и тут же валились спать на голый снег, а поутру бивуак обозначался кольцом окоченелых трупов и тысячами павших в поле лошадей.
Но лучше было замерзнуть, чем попасть в руки казаков и крестьян: те убивали не сразу, а долго издевались и мучили или просто выбрасывали, голых, на снег; если же пленных было слишком много, гнали их пиками, как скот, может быть, на новые, злейшие муки.
Сто тысяч французов вышло из Москвы, а недели через три осталось тридцать шесть тысяч, да и те – живые трупы, смешные и страшные чучела, в пестрых и вшивых лохмотьях – чиновничьих фраках, поповских рясах, женских капотах и чепчиках. Ни подчиненных, ни начальников: бедствие сравняло всех. Стаи голодных псов следовали за ними по пятам; тучи воронов кружили над ними, как над падалью.
Не все, конечно, такие: есть еще Гвардия. Старые усачи-гренадеры все еще берут на караул окоченелыми руками и слабыми голосами кричат, как на парадах: «Виват император!» Эти совершают и будут совершать такие чудеса, что внуки не поверят.
Маршал Ней, прикрывая отступление на Смоленск, с двумя тысячами против семидесяти, бьется десять дней подряд и побеждает. Не только Франция – мир никогда не забудет этого святого геройства.
А что же Наполеон? Все еще «мокрая курица»? Нет, как будто только и ждал этого последнего паденья, чтобы восстать из него в славе большей, чем слава всех его побед.
Бледно-бледно, мертво лицо его, как мертвый, бледный снег; но чудно и страшно, как лицо Диониса, нисшедшего в ад. И те, кто в аду, глядя на него, снова надеются, что он их спасет, выведет из ада в рай.
«Холодно тебе, мой друг?» – спрашивает он старого гренадера, идущего рядом с ним, в двадцатиградусный мороз. «Нет, государь, когда я смотрю на вас, мне тепло!» Тепло, как от солнца в ледяном аду.
Люди все еще верят в него; если бы не верили, разве бы тысячи раз не убили его, когда он шел рядом с ними по снегу, с палкой в руках. Но вот не убивают, а умирают за него и верят, санкюлоты-безбожники, что «днесь будут с ним в раю». Может быть, он и сам еще верит, что ведет их в рай сквозь ад, а верить в такую минуту – это и значит быть Человеком.
Стикс этого ада – Березина. К ней теснят его, загоняют, травят, как зайца, – Кутузов с востока, Витгенштейн с севера, Чичагов с юга, чтобы там и прикончить, на радость всем православным, «собаку-Антихриста».
И он это знает, знает, что для него Березина то же, что для Мака Ульм – западня, Кавдинское ущелье, последний позор, капитуляция. Знает и все-таки идет на нее, потому что идти больше некуда. И хуже всего, что сам виноват: идучи на Москву, так безумно верил в победу, что сжег весь понтонный экипаж в Орше, и теперь переправиться не на чем. А, как нарочно, сделалась оттепель, реку взломало, и пошел ледоход.
Двадцать пятого ноября Наполеон на Березине. Там уже Чичагов, у Борисова, ждет его, сторожит; и Витгенштейн вот-вот соединится с Кутузовым, как две челюсти железных клещей.
«Положение было такое, что казалось, ни один француз, ни даже сам Наполеон не мог спастись», – вспоминает генерал Рапп. «Наше положение отчаянное, – говорит маршал Ней. – Если Наполеон выйдет из него, значит, сам черт ему помогает!» – «Я предлагал ему спасти его одного, переправить через реку, в нескольких лье отсюда, и доставить в Вильну, с верными поляками, – говорит Мюрат. – Но он об этом и слышать не хочет. А я так думаю, что нам отсюда живыми не уйти… Мы все здесь погибнем, нельзя же сдаваться!»
Канун Березины – день страшного торжества. Император велит принести знамена всей армии, разложить костер и бросить их в огонь, чтобы не достались врагу. «Люди выходили из рядов, один за другим, и бросали в огонь то, что им было дороже, чем жизнь. Я никогда не видел большего стыда и отчаянья: это было похоже на шельмование всей армии» (Бенжамен Констан, «Мемуары»). Эти святые орлы знамен летали по всей земле, от Фавора до Гибралтара, от Пирамид до Москвы, и вот горят, улетают на небо с пламенем.
Бледно-бледно лицо императора, мертво, как мертвый снег, но радостно, как будто он победил врага: самосожжение Москвы – самосожжение орлов.
Если сжег знамена, честь армии, значит, знал сам, что нет спасения, и других не обманывал. Он это знал, как дважды два четыре, и все-таки верил в чудо. И, как всегда в жизни человека, в жизни всех людей, – где вера, там чудо.
Чичагов отступил от Борисова, берег пуст, переход свободен. Люди глазам своим не верят. «Не может быть! Не может быть!» – шепчет Наполеон, и бледное лицо его еще бледнеет. «Так вот она опять, моя Звезда!» – говорит, глядя на небо. Звезда до конца не покинет его, но поведет уже иными путями, чем он думает.
Студенский брод, верстах в двенадцати к северу от Борисова, вверх по реке, если бы не сторожил его Чичагов, был единственно возможной для переправы точкой. Маршал Удино послан был к Уколодскому броду, верстах в сорока вниз по реке, к югу от Борисова, для демонстрации, будто бы там наводят мост, чтобы обмануть и отманить Чичагова от Студенки. На успех Наполеон почти не надеялся: Чичагову надо было сойти с ума, чтобы поверить такому грубому обману. Но вот, поверил: обезумел под чарующим взором Демона, как птица под взором змеи. С математическою точностью, час в час, минута в минуту, исполнил весь план врага: «Оба вместе вышли из Борисова. Чичагов – на Уколоду, Наполеон – на Студенку» (Сегюр).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































