Текст книги "Третья тетрадь"
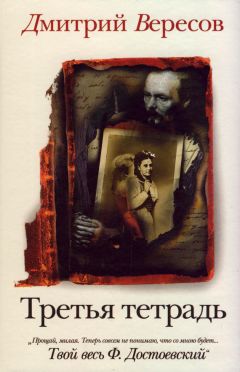
Автор книги: Дмитрий Вересов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
Глава 17
Улица Ивана Черных
Апа честно ждала звонка, оправдывая для себя это ожидание необходимостью сведений о таинственном доме. Но звонка не было. С одной стороны, она почему-то все беспокоилась о том, как будут складываться их отношения. Но, с другой стороны, порой даже радовалась, что он не звонит, ибо каждое новое общение с этим странным дядькой ввергало ее в смурь и тревогу. Выросшая в голодные девяностые, Аполлинария склонна была видеть во всех человеческих устремлениях, в первую очередь, нужду в чем-то конкретном и теперь часами гадала, что ему от нее нужно. Конечно, было бы здорово, если б он оказался миллионером с причудами, но ее честная душа говорила, что в их общении материальное не имеет значения. Конечно, плащ у него шикарный, и сам он иногда бывает ужасно интересен, даже похож на Киану Ривза, только в возрасте. Следует заметить, что сама Апа никогда не разделяла стремления своих однолеток поймать на крючок состоятельного старичка от сорока до пятидесяти. Возможно, потому, что это был возраст ее родителей.
Однако этот «старичок» был все-таки какой-то особенный. Еще год назад Апа подумала бы про такого, что он просто сумасшедший, но теперь, после уроков Жениной компании, смены имени и театральных занятий думать так было трудно.
Она пробовала отвлечься от всех этих мыслей бесконечным продумыванием своей театральной роли, но все получалось как-то скучно. Жаль, что родители, когда она просила у них собаку, так и не купили ее, – теперь было бы гораздо легче сыграть. Честно говоря, надо было бы познакомиться с какими-нибудь собачниками, поговорить с ними и понаблюдать за их питомцами. Но, как посмотришь, они все время держатся своей кастой и, наверное, не очень-то пускают к себе посторонних.
Родительская кровать за стеной уже отскрипела свое, а Апа все никак не могла уснуть. На стене светился отблеск торгового комплекса, от которого почему-то было муторно, – и внезапно она поняла истинную причину своего состояния.
Если Данила больше не позвонит, то она, может, больше никогда уже и не увидит его, и вместе с ним исчезнет тайна. Девушка даже сама удивилась этому столь неожиданно выскочившему слову. Тайна. Да почему тайна? Тайна чего? Показанного ему дома? Ее нового имени? Того, почему он к ней привязался? Странных разговоров? А самое печальное – поговорить обо всем этом решительно не с кем. Подруги поднимут ее на смех, родители просто ничего не поймут, народ из прошлого и нынешнего театров – к ним с такого рода вопросами подойти непросто. Есть, конечно, Наинский, приятель этого странного Даниила Драгановича, – но что она у него спросит?
Апа сунулась в мобильник узнать время, в сотый раз проверила пропущенные звонки. Пусто. Какая же она дура, что первые его звонки стерла как совершенно ненужные. И усилием воли девушка заставила себя заснуть.
Апа приезжала на репетиции заранее, первая, если не считать иногда ночевавших прямо там двух монтировщиков. Всегда немного навеселе, они изъяснялись высоким слогом и не имели возраста, отчего казались недоступными. Апа опасливо обходила их стороной, равно как и костюмершу-гримершу-пастижершу, ушлую тетку тоже без возраста, язвительную и крикливую. Осветитель же, высокая, красивая и знающая себе цену девица, вообще смотрела на Апу как на пустое место. Поэтому, придя в эту бывшую квартиру, переделанную под храм искусства, Апа устраивалась где-нибудь в гардеробе, за пальто, и повторяла роль или просто прислушивалась к театральным звукам, которые накатывали волнами, напоминая прибой в Анапе, где она была один раз в детстве, и в звуках этих сочетались волшебство и обыденность одновременно. И ей порой все еще не верилось, что она теперь тоже причастна к этой жизни.
Порой ее все-таки грызло некое сомнение: неужели жизнь так изменилась благодаря простой смене имени? О том, что она со скандалом ушла из салона и долго мыкалась по всевозможным творческим коллективам, Апа почему-то не вспоминала. Другое имя – и другая жизнь? Ей чудился в этом какой-то подвох, будто в одно прекрасное утро она проснется, и все окажется сном, рассыпавшимся карточным домиком. И только тогда, когда рядом был этот странный Данила, тревожное ощущение отпускало ее, сменяясь другим, уже окончательно непонятным, от которого холодело внутри, и язык произносил дикие, саму ее удивляющие речи. За минувшие три дня Апа даже вспомнила жуткие ночные рассказы бабушки об опоенных и околдованных.
«И если очарует какую, то неисцелима она вовеки: ни заговорить, ни отпоить… Не хваля похвалишь, не думая, подумаешь, оморочит, усладит, заиграет, растопит… Без него сядешь во тоске-во кручине, на свет не посмотришь, себя высушишь…»
Может быть, тогда, в шинке, он ей что-то подсыпал? Какой бред! И потом, это же не любовь, в конце концов! И вдруг при мысли, что она, со своим новым именем и новыми ощущениями, останется теперь навсегда одна, ей стало по-настоящему страшно. А ведь этого не было до тех пор, пока она не встретилась с ним… Ну была Катя, стала Апа – какая разница! С появлением же Данилы она стала казаться себе какой-то фотографией, опущенной в проявитель, – когда-то отец в темной кладовке показывал ей этот процесс как чудо. Впрочем, странные ощущения навевались только присутствием этого странного дядьки, зато в остальное время, во время его отсутствия, становилось еще более пусто и страшно.
Поэтому в театре она старалась изо всех сил.
Однако в этот день ни психология, ни даже слова роли не шли ей в голову. Апа сидела, сжавшись калачиком, на тюке старого занавеса и думала, что завалит сегодня репетицию и что все-таки придется поговорить с Борисом Николаевичем начистоту. А это было непредставимо страшно.
Наинский появился, как всегда, через полчаса после начала назначенного времени и с неизменной серебряной фляжечкой в руке. Роскошным жестом бросив пальто едва не на Апу, он загремел прямо с ходу:
– Но вы вообще представляете, что есть душа существа, вынужденного быть зависимым? Эта жизнь, видимая с другого уровня! Все на пол, все, смотрите снизу, совсем снизу, запоминайте новые ракурсы предметов, заставьте себя жить в искаженном мире!
– Но для них-то он не искаженный, они так с рождения видят, – подала голос прима Света, игравшая Тусси, тоже, разумеется, приму.
– Тебя не спрашивают. Итак, начали! С того места, где Рич не может перейти засыпанную солью улицу. Андрей, пошел!
Невысокий, прыгучий, как мяч, Андрей весьма правдоподобно остановился перед пустой сценой, сунулся, отскочил, потряс правой рукой, скуксился и уперся, приседая на задние лапы.
– А ты смотришь, смотришь, – крикнул Наинский Апе, – мудро, скорбно, ибо знаешь, что соль на дорогах – это ерунда по сравнению со всеми прочими бедами. Ты же собачья Кассандра!
Но Апа только угрюмо горбилась в углу.
Дальше шла сцена, где Милка должна была любыми способами дать понять Ричу, что скоро здесь будут травить собак, насыплют страшного белого порошка, который нельзя даже нюхать.
Апа робкими шажками подошла к Андрею и потерлась об него боком.
– О, Господи! – взорвался Наинский. – Ты что, его за угол приглашаешь любовью заняться?! Понимаешь, что ты творишь? Ужас!
В перерыве Апа долго выжидала момента, когда Наинский наконец останется один, и, словно прыгая в ледяную воду, спросила:
– Борис Николаевич, ваш друг, Данила Драганович… Я хотела спросить…
– Нет, это я хотел бы у него спросить, откуда он вас выкопал? Вы что, собаку в руках никогда не держали? Так у него бы хоть поинтересовались, он едва книгу об этом не накропал!
– Так он… кинолог?
– О, Господи! Он пройдоха и вор, алкоголик и наркоман! И какого черта я его послушался? Вы погубите мне весь спектакль! Линочка! У собаки центр тяжести перемещен к холке, понимаете, к холке! – Наинский выразительно стукнул себя между лопаток. – А вы все время двигаетесь, как беременная кошка!..
Уж в том, как двигаются беременные кошки, Апа могла бы дать сто очков вперед не только Наинскому, но и любому специалисту. Однако сейчас ее знания оказывались неуместными, и она проглотила обиду.
Апа понимала, что после услышанного спрашивать еще о чем-то – бесполезно; такие люди, как этот Даниил, появляются и исчезают когда угодно и часто навсегда. И все эти встречи, наверное, действительно только сон. Но тогда терять ей больше нечего…
– А вы не знаете, у него была… или есть знакомая по имени Аполлинария?
– Аполлинария? Да кого у него только нет: Фекл, Аграфен, Каллист и черта в ступе! Держались бы вы от него подальше, милочка, а? – неожиданно почти просительно закончил Наинский. – Он вам только голову задурит, он же не от мира сего, всегда такой был, он же выродок, псих! Способный, конечно, сволочь, но… Куда же вы, Лина? Надо пробовать и пробовать! Не надо плакать, честное слово! Я вас познакомлю с одной дамой, она полковник милиции, и собаки у нее – сказка! Пообщаетесь, проникнетесь. Все, все, на сегодня хватит! – обратился он к остальным и достал из внутреннего кармана свою успокоительную фляжечку.
Уже у самых дверей он все-таки сунул Апе в пальто бумажку с телефоном хозяйки сказочных собак, которые должны были открыть ей другой мир.
Но Апе теперь было уже все равно. Проявитель покидал листок глянцевой фотобумаги, которая становилась с каждой секундой все тусклее и тусклее, как балтийское небо над головой.
Значит, его общение с ней было только пьяным развлечением или наркотным глюком. Да и вправду, что умного он произнес? И с чего она взяла, что он много знает? Все только неопределенные фразочки, нелепые вопросы. Апа шла по Новосивковской[114]114
Новосивковская – ул. Ивана Черных.
[Закрыть], забыв про намокшие сапоги и оставленные в театре перчатки. Было до слез жаль своей новой жизни, которая, едва начавшись, стала вянуть. Можно, конечно, заставить себя пойти к Жене, но этому мешал не только стыд за летнюю историю, но и гордость. Они начнут копаться в этой ее новой жизни, разбирать, уточнять, подводить теории, а им ведь не расскажешь про фотобумагу, про обрывки не то снов, не то видений – а факты, изложенные голыми словами, будут мертвыми и ничего не значащими, такими, как обнаженные деревья и неприкрытая грязь на улицах.
«Хоть бы снег пошел, – вздохнула Апа и неожиданно для себя решила: – Если я еще хоть раз увижусь с ним, то не буду ничего утаивать, буду говорить все, что чувствую, что знаю, что хочу знать. Ведь ему все равно на меня наплевать, и поэтому я могу вести себя тоже, как хочу. Лучше уж дурная цель, чем никакой…» – закончила она, но мысль на этом не оборвалась, а продолжилась словно извне прозвучавшими словами:
– Ведь люди большей частью не угадывают своего назначения, и оттого жизнь их не имеет смысла, а нужно так или иначе выразить себя. Да, и потому дурная цель лучше никакой, – произнесла она вслух, испугавшись сама себя.
Апа оглянулась. Одинокий прохожий шел в отдалении, широкая полоса грязи отделяла от нее дома. Она испуганно осмотрелась и только сейчас обнаружила, что идет по какой-то страшной улице, где нет жилых домов, а в воздухе слоями висит сизый смог.
И, заметив проезжавшую маршрутку, девушка взмахнула рукой и села, даже не поглядев на номер.
* * *
После той призрачной встречи на мызе, где Аполлинария едва ли произнесла несколько слов, остальное было только делом времени. Это они чувствовали оба, и судьба гнала обоих на улицы.
Лето в тот год стояло сырое, тяжелое, словно копило всю сухость на следующее, вспыхнувшее пожарами и террором. Низкое небо не поднималось выше куполов Исаакия и давило, пригнетало, мучило.
Аполлинария с утра выходила из дома, порой даже забыв зонт и шляпку, и часами бродила по пыльным, несмотря на дожди, улицам. Скоро ботинки ее становились белесыми от грязи ремонтов, в которых, как в язвах, Петербург стоял каждое лето. На лицо тоже ложилась стягивающая пленка, и хотелось все время пить. Впрочем, теперь на нее уже никто не обращал внимания. Город жил напряжением, каждый освобождался где и как мог и от чего ему было нужно. Каждый действовал на свой страх и риск, но в целом город был захвачен могучим потоком идеи свободы. За год появилась такая масса идей, понятий и знаний, которые раньше не появлялись и в двадцать лет. Общество напрягало все силы, чтобы создать себе новое независимое положение. Как грибы, возникали частные банки, создавались акционерные общества, закрывались казенные фабрики, женщины требовали прав, а Университет – вольности. Россия и столица кипели, словно огромный чан, поднимая со дна не только лучшее, но и всю пену, и всю грязь.
И в этом чаду уже никто не смотрел косо на стройную девушку, едва причесанную, с широко раскрытыми глазами, которая без шляпки и зонта ходила по улице как слепая, все чувствуя – и ничего не видя.
Ноги, помимо воли, приводили Аполлинарию на Сенную, где, как она уже знала из «Времени», находилась его редакция. Мрачный угловой дом, постоянно сырой от близости Канавы, манил ее, как магнитом, и Аполлинария часто стояла, держась за холодный парапет, и ждала, что вот сейчас откроется дверь, и выйдет он.
Он, от которого исходил магический свет, мгновенно преображавший все вокруг. И когда она о нем думала, у нее леденели руки и пылала голова.
Но лето катилось к закату, а встречи все не было. И, чувствуя, что она постепенно сходит с ума, Аполлинария, сама не зная как, взялась за тетрадь давно заброшенных лекций. С обратной стороны коленкорового блокнота вдруг побежали неровные строки о вещах, казалось бы не имевших ничего общего с происходящим. Она вспоминала пансион, его холодные дортуары, учителей, классных дам, прошлые обиды и надежды – и в этом спасалась от угара сегодняшнего дня.
Как-то незаметно набралось семь главок, и рука сама вывела название, так говорившее о ее нынешнем состоянии, – «Покуда». Покуда еще ничего не случилось, покуда еще все впереди, покуда еще можно спасаться в скучных, но понятных обыденностях прошлого…
Но Аполлинария знала, что долго так все равно продолжаться не может. Так зачем же он мучает ее? Ведь она ясно чувствует, что и он с того вечера в гостиной милейшего Андрея Ивановича томится точно так же. Ведь уже тогда, на прощанье, подсаживая ее в коляску Полонского, он сжал ее руку так, что все стало ясно и неизбежно. Так почему же?! Как смеет он тратить себя на какую-то ерунду, какие-то журналы, болезни, когда она ждет, она готова на все? И тонкий яд ненависти незаметно примешивался к безумию ожиданья.
Нет, так не должно быть! Пусть он узнает, как ей плохо, как вынуждена она, жаждая будущего, спасаться в своем прошлом. Пусть ему станет стыдно, горько, больно, как ей сейчас!
Часы в коридоре пробили четверть четвертого. Что ж, если решаться, то сразу. Дай бог, они так заняты своим журналом, что не уходят, как чиновники из департаментов, в три часа пополудни.
Аполлинария уже совершенно спокойно надела свое лучшее платье, пышные юбки которого так подчеркивали неправдоподобную стройность талии, надела шляпку с густой вуалькой и бархатную накидку. Из глубины зеркала на нее глянула незнакомка с расширенными, как у морфинистки, глазами.
Она даже не думала, что скажет в редакции, она хотела только одного: он должен узнать, как ей плохо. Узнать – и прийти.
Отсыревшая дверь подалась с трудом, и в нос ударил запах кошек. Где-то наверху раздались голоса, и Аполлинария стала подниматься по лестнице. Действительно в третьем этаже из-за двери, обитой ждановской желтой клеенкой, слышались восклицания и шум. Она, не задумываясь ни на секунду, толкнула дверь.
Маленькая прихожая была завалена котелками, картузами и в беспорядке составленными зонтами. Пачка газет едва не падала с подзеркального столика, и чадила дешевая лампа.
– Нет, господа, наша почва – это не земля славянофилов, это слияние культуры и народности! – слышался чей-то высокий голос.
– Ах, опять вы за свое, Григорий Петрович, – перебил его другой, глуховатый и на кого-то похожий. – Мы о программе на сентябрь, а не о теории.
Аполлинария подняла вуаль и вошла в комнату. Табачный дым плавал совсем как в студенческой фаланге, только не было женщин, и мужчины выглядели солиднее и старше.
– Что вам угодно? – немедленно обратился к ней невысокий господин в круглых очках и с по-семинарски отпущенными волосами.
– Я принесла свою повесть и хотела бы увидеть ее напечатанной… в ближайшем номере.
Все откровенно переглянулись.
– А вы понимаете куда пришли? Это не «Русский голос» и не «Маяк», – осторожно откашлялся очкастый.
– Знаю. Как и то, что вы – Михаил Михайлович Достоевский, брат… Прошу вас. – Она подошла и спокойно положила переписанную рукопись на стол. – Гонорар мне не нужен. А адрес мой – дом управляющего графа Шереметева, в Симеоновской, на углу Фонтанки. Благодарю.
И так же медленно и спокойно Аполлинария развернулась и вышла, всей кожей чувствуя, как смотрят на нее пятеро мужчин.
На лестнице она немножко постояла, переводя дыхания и унимая только теперь заколотившееся сердце.
Внизу хлопнула дверь, и Аполлинария поспешила вниз, сделав отрешенное лицо. Какой-то господин спешно поднимался, стягивая на ходу перчатки. Мелькнули клетчатые брюки.
– Вы?! – прозвучало одновременно сдавленно и глухо. И страшный поцелуй лег на губы.
– Эй, извозчик, в «Северную»! Плачу полтину!
Глава 18
Балтийский вокзал
Город встретил Даха дымом, застилавшим багровое зарево восхода, и пробками. Зрелище выглядело достаточно апокалиптично, особенно над Невой, на фоне мостов. В центре было все-таки камернее и человечнее. Миллионная лежала в полудреме, как красавица после бурной ночи. Данила не стал допытываться ее снов, прихватил из машины последние реликвии с Иоганнесру и поднялся к себе. Елена Андреевна встретила его укоризненным взглядом, но он пробормотал нечто невнятное и ловко приспособил картуш в качестве рамки для ее портрета. Жалкая память о том, что она так любила, но все-таки… Потом Данила заставил себя принять душ, отметив, что на мызе прекрасно обходился и без него, и завалился спать, пообещав Нине Ивановне, что появится после полудня. Ничего интересного она не сообщила, кроме обычных продаж да визитов одной старушки с рулоном умопомрачительных алансонов[115]115
Вид французского кружева.
[Закрыть] в прекрасном состоянии и какого-то бомжа с несколькими шавками, который интересовался не магазином, а его хозяином.
У Данилы, как у любого антиквара, существовала своя тайная армия наемников, рыскавших по городу, подвалам, чердакам и расселяемым домам, подсматривавшая, подслушивавшая, вступавшая в локальные конфликты с другими армиями. Порой – и не так уж редко – конфликты эти заканчивались исчезновением тех или других воинов, и Дах всегда, не скупясь, оплачивал похороны и даже поминки.
– Вы что, его не знаете? – Нина Ивановна, разумеется, была в курсе и могла не знать лишь пары самых тайных работников. Но они сейчас были далеко за пределами города.
– Нет, это не ваш, но, it seems[116]116
Кажется (англ.).
[Закрыть], он тоже хочет… влиться в…
– Хорошо, потом.
– У вас все в порядке, Данечка?
– С какой стороны посмотреть, – невольно усмехнулся он. – Но, в общем, все нормально. До встречи.
Он провалился в черную яму и проспал бы неизвестно сколько, если бы его не разбудил сон. Ему неожиданно приснилась мать, тоненькая, со спутанными черными кольцами волос. Именно такой он видел ее в последний раз. Они были тогда в каких-то гостях, куда пришли вместе с Драганом. Было так удивительно увидеть ее здесь, казалось, они расстались только вчера, а не несколько лет назад. И это чувство удивления пронзило Данилу и сейчас. Тогда Драган вспылил и ушел, а мать так и стояла в дверном проеме, обнимая себя за полуголые плечи. Но сейчас, во сне, она грустно качала головой и делала такой жест, будто стирала холодную муть с запотевшего стекла – стирала, стирала и все никак не могла стереть.
– Мама! – крикнул Данила и проснулся.
Сон надо было немедленно забыть, как он давно заставил себя забыть все, связанное с матерью, забыть любым путем – и Дах набрал номер Апы не раздумывая, забыв даже о том, какой на дворе час.
– Господи, это вы? – сквозь шум послышался ее голос, испуганный и растерянный. – Мне страшно, я не понимаю, где я…
Данила изо всех сил потянул прядь над ухом. Неужели она уже оказалась в том мире, который он так старается для себя открыть? Но ведь неподготовленная, одна, она просто сойдет там с ума. Почему он не сказал ей всего раньше, не приготовил, не помог?
В трубку ворвались еще какие-то голоса.
– Где вы, Полина?
– Не знаю…
«Да это Лейхтенбергская[117]117
Лейхтенбергская – ул. Розенштейна.
[Закрыть], Лейхтенбергская, – донесся старушечий голос, – до метро рукой подать!»
«Значит, побрела пешком от Боба и заблудилась, – догадался Данила. – А теперь едет в первой попавшейся маршрутке». Все оказалось не так страшно, как ему представилось в первую секунду.
– Выходите на конечной и ждите меня, никуда не уходите, слышите? Я уже выхожу.
Он глянул на часы – стрелка подползала к четырем. Мучить себя и «опель» в пробках бессмысленно. Натянув новую куртку, купленную по дороге на мызу взамен где-то пропавшего плаща, Дах быстро понесся к метро.
На привокзальной площади отвратительно пахло жареными пирожками и туалетом. Дах не любил этот район, как и все, находившееся за чертой Обводного канала, а сегодня, после тихого умирания мызы, после молодой красивой матери во сне, этот район города показался ему вдвойне отвратительным.
Мгновенно увидев Апу в толпе ожидающих маршрутку, он выхватил ее за руку и потянул к мосту.
– Прочь отсюда! Какого черта вас занесло в эту дыру?
– Я шла из театра и задумалась. Но дело не в этом, я не того испугалась, я…
Они шли уже в сторону собора по одной из Рот. Здесь и днями всегда малолюдно, а к вечеру вообще ходят немногие, и то неизбежно убыстряя шаг. Они же шли медленно, как во сне, ибо, идя вдоль чуть припудренных снегом домов, можно было смело не соотноситься с настоящим. Наледь, деревья, душное ватное небо, чужая жизнь за окнами, двести лет назад, двести вперед…
Какая разница!
– Чего? – мягко скользнув по плечу – «О, рыдающие плечи в Ивановке!» – будто бы небрежно поинтересовался Данила.
Апа остановилась и зачем-то стянула варежку. Рука была влажной и горячей даже на вид.
– Понимаете, я… Я решила говорить вам все. Иначе мне кажется, что общение с вами бессмысленно. Или так со мной никто раньше не общался, или… Словом, я сама ничего не понимаю, но насчет правды чувствую совершенно точно. Так вот, когда я так решила, то подумала о том, что лучше уж какая-нибудь цель, чем ничего, и тут вдруг я поняла, что это не моя мысль, что будто это кто-то другой за меня подумал и даже произнес. И тут же я увидела, что иду неизвестно где. Это ведь не болезнь, правда? – по-детски схватила она Данилу за руку, и пальцы ее действительно оказались огненными.
– Не болезнь, не волнуйтесь. Или уж если болезнь, то высокая. Но если хотите от меня помощи, то скажите, что же навело вас на решение говорить мне все? До конца – так до конца, правда?
Девушка опустила голову.
– Хорошо, я скажу, но вы только не ругайтесь и не обижайтесь. С вами я становлюсь совсем другая, не я. То есть не прежняя я. И мне как-то все ясно. А когда вас нет, все спутывается. Вы как проявитель. И вы мне очень нужны.
Но Данила, слушая это своеобразное признание в любви, мало думал о чувствах: из всей этой бессвязной речи он выхватил только выражение «прежняя я». Значит, что-то произошло, разделившее ее жизнь на прежнюю и нынешнюю, что-то очень глубокое, внутреннее. Неужели та летняя ночь на Елагином и заведомо неудачный прыжок в воду?
– А почему вы остриглись? – почти механически спросил он, думая о своем.
Апа вздрогнула, но ничего не ответила. Они снова медленно двинулись в сторону мелькавшего фонарями и фарами Измайловского. И уже у самого перекрестка девушка как-то обреченно махнула рукой.
– Все равно. И все равно я решила говорить все. Давайте хоть кофе где-нибудь выпьем.
Когда-то Данила заходил в это кафе, бывшее тогда просто «Мороженым», выпить с Лизой шампанского, потом с приятелями ударить по коньячку, потом выкурить косячок, потом с удивлением прочитал о нем в бессмертном романе о берегах, но не далеких, а зеленых[118]118
«берегах… не зеленых» – имеется в виду роман замечательного писателя Геннадия Алексеева «Зеленые берега», повествующий о любви героя к женщине, умершей шестьдесят лет назад.
[Закрыть]. Или то был роман о трех товарищах?[119]119
«…роман о трех товарищах» – имеется в виду повесть В. Аксенова «Коллеги».
[Закрыть]
Словом, теперь он привел туда и Апу, и они сели в самый дальний угол у полуподвального окна. Мраморные столики сменились деревянными, но на них точно так же медленно исчезали следы от мокрой тряпки официантки. Данила принес девушке рюмку водки, а перед собой, вспомнив, что ничего не ел с прошлого вечера, поставил стакан с «Перье».
Она спокойно выпила водку, чуть задохнувшись на последнем глотке, и сцепила перед собой руки с прилипшими ворсинками шерсти. Дах стянул шарф и бросил между собой и ею – слишком захотелось снять эти ворсинки с рук губами.
– Несколько лет назад я случайно попала в одну компанию. Это были люди совсем не мои: из центра, из университетов, очень интересные. И ко мне относились хорошо, с любопытством. Но я всегда понимала, что их любопытство ко мне не как к человеку, а так, как к интересному животному. Я не обижаюсь, они мне многое открыли, давали книги читать. Но, в общем-то, я не об этом. Просто один раз они меня очень обидели… и когда все прошло, я на стене увидела объявление, знаете, теперь много печатают и клеят, про всяких гадалок и прорицательниц. Я честно не знаю, зачем я взяла и пошла туда, прямо так и пошла. Я долго искала, потому что адрес такой путаный был, но нашла. И бабка – я почему-то представляла себе такую деревенскую бабку со всюду развешенными травками или, наоборот, такую офисную даму среди евроремонта – оказалась совсем не бабка, а такая милая интеллигентная женщина, в старинной квартире. Там такие фиалки цвели! – Наконец, ее бесконечные «такие» несколько отрезвили Данилу, и он стал слушать сидящую перед ним девушку уже вполне сосредоточенно. – И, представляете, она меня даже ни о чем особо не расспрашивала, а так, поговорила минут пять, а потом пересадила на диван и тихо так сказала: «Вы, девушка, не своей жизнью живете». Я, конечно, возмутилась, как это, говорю, не своей, я ее ни у кого не украла, и хотела уже уйти, но она мне положила руку на руку: «Вы мне можете не верить, но я говорю вам правду: лучше вам сменить и вашу работу, и мужа, если есть, и, главное – имя». Я даже похолодела. Ну, работу – понятно, все меняют, мужей – тоже ладно, слава богу, мужа у меня нет, но имя! Меня же родители так назвали, в честь бабушки папиной! Как же можно – имя?! И я опять встала и полезла за деньгами, но она второй раз остановила: «Подождите еще немного. Вы можете меня не послушаться, дело ваше, но хотя бы знайте, что муж ваш никогда вам настоящим мужем не будет, стать вы должны актрисой, а имя вам надо взять Аполлинария». И ушла в другую комнату, и денег так и не взяла. Я стояла как оглушенная. Ничего себе! Я даже имени этого никогда не слышала… – Дах сидел с каменным лицом, и она уже совсем тихо продолжила: – Ну а дальше все просто. Я уволилась из салона, пошла на курсы макияжа – тетка денег дала, потому что родители были против, уж тем более, когда услышали про смену имени. Я же понимаю, что в актрисы так не берут, и в театральный мне не поступить. Я долго ходила по всяким коллективам и в августе устроилась гримером в одно место на Каменноостровском. Я за каждым движением следила, все подмечала, и меня хвалили. Поэтому я вам так благодарна… – Данила сделал протестующий жест.
– Но имя?
– С именем было труднее всего. Всякие справки, комиссии, хорошо еще, что согласие родителей не требовалось, поскольку мне двадцать один год, а то бы совсем глухо, в жизни не дали бы.
– Даже паспорт сменили? Однако! И как же вас звали?
– Катя. Екатерина.
– А фамилия? – спросил Данила, ожидая услышать что-нибудь из того же «пивного» ряда, что и Суслова: Хмелева[120]120
Хмелева – намек на «пивоваренную» фамилию Сусловой от сусла.
[Закрыть], Бочинина, а то и вовсе Кружкина.
– Соловьева.
– Слава богу! Но дальше, дальше.
– Но что же дальше? – растерялась Апа. – Такое громоздкое имя, никто полностью не говорит, стали звать кто Апой, кто Линой. А Полиной, как вы, никто не звал. Только один мальчик, актер из того театра, все чего-то подсмеивался и говорил, что из-за моего имени мне надо сходить в музей Достоевского. Я и пошла. А дальше вы сами все знаете.
– И в музее вы ничего не нашли?
– Нет, конечно, это он пошутил, наверное. Он вообще приколист по жизни. Над всеми прикалывается. А актер ничего, хороший.
Данила поморщился и закурил, не замечая, что дымит прямо в лицо собеседнице. Любопытнейшая историйка. Но он-то каким образом оказался в нее втянут? Тот утренний звонок-розыгрыш? Больше, кажется, нигде и ничего…
– А, может быть, вы знаете что-нибудь насчет Аполлинарии? – вдруг оживилась Апа. – Я ведь поняла, что вы меня как раз из-за этого имени и заметили.
– Да? – притворно удивился Дах и снова замолчал. – Вам показалось, ей-богу.
– У меня такое впечатление, что вы меня… ну, будто разбудили. То есть не меня, а то, другое, во мне, то, что сегодня сказало эту фразу. Мне кажется, это как-то связано друг с другом: имя и эти ощущения… И вы…
«Лучше бы уж она не рассуждала!» – неожиданно разозлился Данила. Решить прямо сейчас, открыть ей карты или лучше, наоборот, еще больше запудрить мозги, он был не в состоянии; в обоих решениях имелась масса как плюсов, так и минусов. И если бы перед ним сидела девушка образованная, девушка не от мира сего, вроде тех, что встречались ему в юности, он, не задумываясь, открылся бы ей… Но, увы, такой девчушке лучше бы и вообще ничего никогда не открывать. Ах, и почему всегда получается так, что судьба одаривает своими мистическими щедротами совсем не тех и не тогда?
Дах все-таки заказал коньяк – разумеется, только себе.
– Скажите мне, Полина, – уже откровенно, с почти чувственным наслаждением произнес он, наконец, это имя, – а где именно вы прочли то объявление?
– Это на Петроградке, больницу Эрисмана знаете? – Упомянув больницу, она тут же осеклась, но Данила сделал вид, что не обратил внимания.
– Разумеется. – Лицо его просветлело. – А где жила гадалка?
– Тоже в центре. Как бы вам объяснить? Вот цирк, а это наискосок, через речку. Я сама долго искала, потому что улица там была написана по-старинному и еще какой-то упргр Шереметев. Но никакого Шереметева там нет…
– Хорошо, хорошо, – сейчас Апа почти раздражала Даха. Все раскладывалось воистину идеально. Дом на углу Фонтанки и Симеоновской, теперь давно перестроенный, когда-то служил жильем для Прокофия Суслова, бывшего крепостного графа Шереметева. За два года до реформы граф за расторопность и хорошие мозги сделал нижегородского крестьянина управляющим своими именьями по всей России. Была снята квартира рядом с дворцом – про нее Данила знал, как знали и все те, кто так или иначе интересовался жизнью Сусловой, но он никогда не думал о конкретном месте, поскольку более точные сведения отсутствовали. А все оказалось так просто. К тому же, рядом потом появится другая инфернальница, с челкой[121]121
Инфернальница с челкой – речь идет об Анне Ахматовой, жившей рядом, в Шереметевском дворце.
[Закрыть]… Девочкам, хотя и поздновато, наняли гувернанток, и обе ринулись в петербургскую жизнь. Но если Полинька не успевала перебегать с лекции в Университете на публичное чтение, оттуда на литературный вечер, а оттуда еще куда-нибудь, то Наденька не вылезала из библиотек и занятий. Конечно, ей не равняться с сестрой ни дерзостью, ни женственностью, но в упорстве и страстности считаться было можно: она, в конце концов, стала первой русской женщиной-врачом и вышла замуж… ага, именно за того самого Гульдрейха Фридриха, а по-русски за Федора Федоровича, Эрисмана, швейцарского эсдека и гигиениста. Как Федоры-то вышли в судьбе обеих!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































