Текст книги "Третья тетрадь"
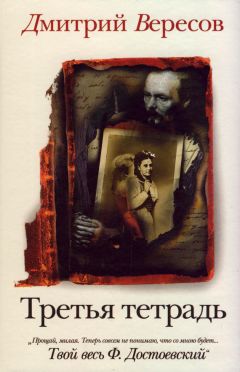
Автор книги: Дмитрий Вересов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
Данила чувствовал себя несколько опустошенным и не знал, за что браться дальше.
– Знаете что, Полина, откровенность за откровенность: идите домой. Я три ночи толком не спал. Завтра я скажу вам об этом все, что думаю.
– И про дом? – как-то погасла девушка.
– И не про один. Правда. А что театр? – Апа только вяло махнула рукой. – И про театр.
Она покорно встала, и Дах вдруг быстро, по-зверски поцеловал пахнущий водкой уголок ее губ.
– Не оборачивайтесь! – легонько подтолкнул он девушку прямо навстречу скрипящим дверям.
Глава 19
Измайловский проспект
Апа снова оказалась одна. Странное ощущение охватило ее. Казалось, ничего перед этим не было; ни страшной пустынной улицы, ни голоса, ни встречи с Данилой. Она даже не знала, стало ей легче или нет. Сейчас ее гораздо больше занимал совсем другой вопрос – каковы его чувства к ней? После столь недвусмысленного поцелуя, казалось бы, сомневаться не приходилось, но что-то говорило Апе, что здесь не все так просто.
Навстречу ей толпами шли молодые люди с полувоенной выправкой, и Апа почти с тоской всматривалась в их молодые, пусть даже и слишком простые лица. С ними не надо было бы ломать голову… Но что, что было в его поцелуе странного? Аполлинария уже заходила в метро, когда догадалась вдруг, что странность эта заключалась все в той же двойственности, которая мучила ее с того самого момента, как они встретились в музее. Он целовал ее, Апу, – но в то же время как будто и не ее, а кого-то другого. Или ее, но ту, другую, которая проявляется в ней в его присутствии? А ведь об этом не поговоришь уже ни с кем, кроме него.
Неожиданно Апа разозлилась. Судьба дала ей шанс, а она может так бездарно упустить его из-за каких-то смутных чувств, дури и просто морока! Ведь все было так хорошо, пока не появился этот Данила. И, как знать, может быть, если она станет по-прежнему старательно работать, все исчезнет, все вернется. Она сунула руку в карман и вытащила кусок салфетки из явно дорогого кафе, на котором Наинский нацарапал телефон и даже адрес. Судя по номеру, это была Петроградская, и Апа решительно повернула с эскалатора не направо, а налево.
Выйдя на проспект, она сразу же позвонила по нацарапанному на салфетке телефону, сослалась на Наинского и в ответ услышала предложение зайти сей же час. Прежде чем найти парадную, она долго обходила с разных сторон огромный дом, населенный по стенам всевозможными растениями и животными. «Поэтому, наверное, он назвал собак сказочными, что они живут в таком доме, – подумалось ей, когда в очередной раз она наткнулась на вытаращившую глаза рысь. – Тут только зверям и жить». Сверху в редко парящем снеге летали на паутине балконных решеток пауки, снизу топорщились странные, напоминавшие глючные поганки, грибы. Апа перешла к другому флигелю, но там из-под окна метнулась сорока, жестоко нацелившаяся на крошечного зайца, а вокруг насмешливо хороводили ящерицы. Стало неприятно, да и вообще место было какое-то колдовское. А тут еще и парадную никак не найти. Наконец, кто-то объяснил Апе, что вход в нужную ей квартиру находится с другой улицы, и вскоре она оказалась в роскошном подъезде, с коврами и дорогущими люстрами.
Апа неуверенно оглянулась: на парадную это было совсем не похоже. Слева стояла старинная вешалка с кожаным пальто и галошами, возле сидела деревянная собачка, и повсюду сверкали медные таблички, самая крупная из которых указывала, что именно это – первый этаж. Апа осторожно подошла к вешалке, намереваясь тоже снять и повесить куртку, но рядом с кожанкой увидела офицерский планшет с биркой, гласившей, что эта планшетка является вещественным доказательством по делу гражданина Швондера. Такая же белела и на кожаном пальто. Галоши же объявлялись найденной собственностью профессора Преображенского. «Это, кажется, из фильма», – подумала Апа, окончательно запутавшись, и решила, что опять ошиблась подъездом. Но сверху раздался звук открываемой двери, и голос произнес:
– Ну где же вы, деточка?
На втором этаже стояла немолодая женщина, из-за спины которой высовывались сразу две собачьи морды.
Пройдя в комнату, где можно было кататься на велосипеде, Апа осторожно села, и по бокам ее сразу встали оба пса, маленький черный, похожий на швабру, но очень важный, и большой серый, наверное, овчарка.
– Так вам нужны тонкости собачьей психологии для спектакля? – Женщина понимающе улыбнулась. – Меня зовут Елена Петровна. А вас?
– Аполлинария, – неожиданно задорно представилась Апа полным именем, чего не делала до сих пор практически никогда.
Хозяйка вскинула брови.
– Какая прелесть! Так вам не собачек бы играть, а… Впрочем, извините, собачки так собачки. Сейчас я попытаюсь. Вы не волнуйтесь. Я в этом уже поднаторела, несмотря на то что моя профессия совершенно иная. Но, знаете, актеры и юристы – люди публичные, даже, я сказала бы, продажные. Я не о взятках, разумеется, говорю, а о сути. Я уже консультировала по просьбе Бориса и «Каштанку», и «Муму», и еще этого… как его, «Пса Балтазара». Вы пейте, пейте чай, а изюм – он для сердца.
Апа вытащила блокнот и ручку, но записывать оказалось трудно. Речи Елены Петровны перемежались то сугубо научными понятиями, то байками, но больше всего мешало не это, а никак не выходившая из головы реакция хозяйки на ее имя. Ситуация начинала походить на какой-то заговор – или это ей просто уже мерещится?
– …Понимаете, основное – это любовь и долг, но если у человека долг – определение понятийное, то у них он такое же чувство, как любовь. Это можно понять, но трудно прочувствовать, тем более, сыграть. И потом воля. Представьте себе, что ваша воля находится в обладании другого. К тому же собака – медиум…
– Медиум?
– Да, посредник между миром людей и духов…
– Каких духов?
– Хорошо, скажем по-другому. Собака считывает не ваши мысли, а ваши внутренние посылы, еще, может быть, совершенно вами не озвученные, не оформленные даже внутренне. Она знает то, что вы сделаете через десять минут, когда вы этого вроде бы не знаете. Она, например, знает, что сейчас к парадной подходит человек, ей небезразличный. О, чтобы сыграть собаку, надо от себя отказаться полностью, вывернуться наизнанку… А, простите, какая ваша порода?
Апа растерялась.
– Ну, кого вы играете?
– А, Милку, дворняжку. Она пожилая уже.
– О, дворняжка – это особая статья, тут много тонкостей. Пожалуй, вам лучше будет переговорить с человеком, который держит именно дворняжек. Сейчас я ему позвоню, он милейший…
– Нет, спасибо, уже поздно… Я и так все поняла, спасибо вам… – Но тут в передней действительно раздался звонок, и оба пса помчались туда.
– Была рада вам помочь. Мой горячий привет Борису. Но телефончик вы все же возьмите, возьмите, колоритнейшая личность, – и Елена Петровна каллиграфическим почерком написала на визитке «Гриша-собачник» и номер телефона.
Апа машинально бросила визитку в сумку, тут же забыв о ней. Ей так хотелось спросить у любезной собачницы о своем имени и медиуме, но собаки подняли такой восторженный лай, что говорить было трудно. Она попрощалась и вышла.
Вечер этого странного дня был глухим от снега, и все вокруг двоилось в какой-то непонятной белесой пелене, точь-в-точь такой, что лежала у нее на душе.
Дах еще пару раз заказал коньяк, но никакой ясности не наступало. Следовало перейти на кофе. Как известно, алкоголь горек, но плоды его сладки, и вызывает он не отточенность мысли, а, скорее, готовность сострадать и разделять чувства. Даниле же сейчас нужно было совсем другое – пружины мысли. Он заказал тройной – и без дураков. Морок телесного общения начал постепенно таять, прихотливые уродцы-чувства, сплетясь в клубки, стали фоном, оставляя лишь скелет событий.
Скелет же смотрел на него безжалостно и однозначно. Некое существо, пережив моральную драму, совершает попытку суицида и в момент возвращения к жизни прихотью случая – или Судьбы – нарекается новым именем. Последнее неизбежно начинает исподволь оказывать влияние, открываются медиумические способности, и неразвитое существо, не имея возможности извлечь из этого выгоду или наслаждение, страдает. История для клиники неврозов или института психоанализа, вот и все. При чем тут он, Д. Д. Дах? И вправе ли он вмешиваться, и еще более того – пользоваться ситуацией? Пользоваться и духом, и телом? Конечно, истории тела и души плетутся судьбой по-разному, но тут они, как назло, переплетаются.
Ладно, посмотрим с другой стороны. Он, Д. Д. Дах, страстно интересуется давно умершей женщиной, мало отдавая себе отчет в том, интересуется ли он ею как источником творчества гениального писателя – или как женским феноменом – или просто как живой женщиной, при этом будучи не импотентом, не извращенцем и проблем с женщинами не имеющим? Тоже случай для Кащенко. Но и тут телесное так замешено на духовном, что хоть караул кричи.
Конечно, самым правильным, хотя и циничным, будет взять из сложившейся ситуации максимум, ничего существу не открывать, пройти с ней по следу, узнать то, что и не снилось никаким достоевсковедам, добраться до писем – ибо если из десятков писем на данный момент все же известны два ее черновика и три его письма, то девяносто девять процентов из ста, что где-то завалялась хотя бы еще парочка, – заработать на них отличные деньги где-нибудь на Сотби и продолжать жить дальше собственной жизнью. Конечно, именно так и надо сделать.
Но ведь возможно и другое, можно сказать, обратное. Отдаться случаю, вместе с ним пройтись там, где обычному человеку делать нечего, утонуть в омуте, следуя мощному инстинкту смерти, который требует от человека всего или ничего. Данила не сомневался, что этот, второй путь откроет ему наслаждения духа ничуть не меньшие, чем первый. Девчонку он, разумеется, ни при том, ни при этом раскладе не спасет, но на первом пути сделает это равнодушно, а на втором – хотя бы разделит с ней многое.
Действие кофеина понемногу проходило, и скелет начал рассыпаться. Данила снова взял коньяк, чтобы на этот раз воспарить, расковаться, а потом опуститься в темные глубины. После откровений, как всегда, так хочется забвения.
Теперь можно было, не сдерживая себя, грезить о костяных пуговках, рыдающих плечах, унижениях, оборванных кружевах, высокомерных скулах, «о, обними меня без тряпок!»[122]122
«Обними меня без тряпок» – цитата из письма Розанова к А. С. Глинке-Волжскому, где он рассказывает о своей семейной жизни с Сусловой.
[Закрыть] и все дальше, все немыслимее, все невозможнее, до того, что не остается ничего, кроме влажного пятна на полу…
Вдруг заверещал мобильник, и, хотя Дах небрежно отогнал его на другой край столика, реальный звук все же вырвал его из теплой материнской утробы опьянения.
Его ждали Нина Ивановна, магазин, дела, и, быстро трезвея на улице от холодившего лицо снега, он уже в глубине души знал, что не сможет поступить ни так, ни эдак, что выберет самый гнусный вариант, вариант для посредственности – ни то ни другое или, если хотите, и то и другое враз. Злоба и ненависть душили его, и, как свойственно жителю Петербурга, он с радостью разжигал в себе эти чувства, пока не дошел до того, что до крови разбил себе кулак о стену случайно подвернувшегося под удар дома.
А снег все шел, и в движении этих белых мух так и стыла какая-то безысходность. А собачьи зубы в кармане сделались уже и совсем ледяными. Данила долго бродил по улицам, опять-таки подчиняясь неистребимой потребности петербуржца бесцельно ходить по городу в тщетной надежде что-нибудь еще суметь изменить, но на каждом углу, за каждым поворотом он видел лишь неизбежность того, что должно теперь произойти.
* * *
– Послушай, друг мой, денег действительно нет. «Время», если пойдет, то начнет возмещать затраты года лишь через два, пожалуй. А если мы будем тискать туда внепрограммные штучки, то читательская масса отшатнется, не успев поднять журнал.
Брат говорил правду, спорить с которой было почти бессмысленно. Но от одного воспоминания о том, как скользили ее волосы по ногам, в голове мутилось. Она тогда же к вечеру рассказала ему о своей повести, принесенной Михаилу, но он даже не удосужилась прочесть ее как следует. Так, пробежал глазами, за каждым словом видя опять только ее, ее фантастически гибкие плечи, ее прохладное даже в самой страсти девическое тело. Нет, читать было решительно невозможно.
– Но одно-два незначащих произведения не могут поменять направление. К тому же автор – женщина, это в ногу со временем. И это не стихи какой-нибудь Каролины[123]123
Каролина – имеется в виду Каролина Павлова, русская поэтесса середины XIX века.
[Закрыть], и не авдотьина чушь вроде «Мертвого озера», а произведение выстраданное…
– И слабое.
– Да, пусть слабое, но искреннее, и…
– Кстати, брат, она, кажется, твоя знакомая. Уж не поэтому ли…
Достоевский вспыхнул до корней волос:
– Она достойнейшая девушка, посещает курсы, Университет…
– Хорошо, оставим. Но ты только представь, что скажут по поводу появления подобного опуса! Хотя бы тот же Аполлон, не говоря уже о Николае Николаевиче, Анненкове, наконец! Ведь это поле для самых разнообразных нападок. Тебе мало Каткова? Мало молодежного лагеря? Я так и вижу, как даже наш насмешник кривит свои эпикуровские губы и выдает что-нибудь вроде:
Или еще что-нибудь похлеще.
– Но, кажется, в повести нет ни капли этого… нигилизма. Исповедь чистого девичьего сердца… – Перед глазами вспыхнула разверстая плоть – где же теперь оно, чистое, девичье?..
Михаил невольно скосил глаза и усмехнулся:
– Только из уважения к тебе. И надеюсь, что это в последний раз. Как, кстати, здоровье Маши? Эмилия говорила, что вчера у нее снова был припадок.
Это было слишком жестоко – брат несомненно говорил нарочно. Да, когда он вчера вернулся из «Северной» за полночь, Машу никто не мог успокоить уже несколько часов. В тазах плавал окровавленный лед, и последние часы были сломаны напрочь.
– Как обычно, – буркнул он. – Лето слишком сырое. А если тебя так раздражает шум у нас, то мы не станем переезжать сюда.
– Это неразумно. Жизнь в одном доме гораздо дешевле, и квартира неплохая, как раз под нами. Успокойся. Я только хотел бы… обезопасить… относительно возможных повторений… и на будущее.
Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Михаил знал этот вдруг становившийся прозрачным и холодным взгляд серых глаз брата. За этим взглядом стояли непоколебимая воля и страсть.
– У тебя есть ключи от склада? – неожиданно спросил он.
– Склада? Какого склада?
– Склада моей фабрики, табачных изделий.
– Но, помилуй бог, зачем… Я не намерен вмешиваться в эти твои дела, и с журналом-то нет времени…
– Но если ты будешь жить здесь, на Неглинной… У нас одно дело. Вот возьми. – Михаил подал ему увесистую связку с двумя ключами. – Этот от редакции, а этот от склада, в первом этаже налево. Там раньше ночевал сторож, но я думаю, это лишние траты, когда мы оба будем жить на той же лестнице.
Достоевский прикусил губу и молча положил связку в карман. Железо легло ледяным грузом и неприятно холодило пах.
– Мой поклон Марье Дмитриевне. Передай ей, чтобы она потихоньку собиралась, иначе на квартиру найдутся другие желающие.
Но опасения Михаила Михайловича, по крайней мере в части насмешек над бессвязной повестью А. С-вой, оказались напрасны. Вопервых, кто мог обратить на нее внимание среди таких корифеев, как Некрасов и Полонский, не говоря уже о самом Федоре, а во-вторых, кипящий город проглатывал сейчас и не такое. Канули в Лету времена, когда из-за крошечной заметки в «Современнике» поднимался вал сплетен и разговоров, когда по стихам выслеживали неверных жен, по заметкам решали, сколько в этот месяц выиграл Николай Алексеевич, а по письмам путешествующих понимали, что они отправились вовсе не для того, чтобы посмотреть красоты Генуи или Кельна, а полечиться от специфической болезни.
Теперь же, в потоке брошюр, прокламаций, статей и заметок обо всем, скучненькая повесть никому не известного автора промелькнула подобно невзрачной серой бабочке, что сотнями кружатся вокруг лампы на балконах.
В Петербурге началась осень – самое интересное во всех отношениях время. Осенью закипала новая жизнь на весь год, начинались новые предприятия, появлялись новые произведения. Журнал шел хорошо, появились первые отклики на «Униженных и оскорбленных», хвалили, поздравляли. Незаметно промелькнуло сорокалетие, он справил его скромно, вместе с Майковым и Страховым. Отросла борода.
Но все это проходило почти мимо сознания – третий месяц он жил на пределе возможностей, как физических, так, самое страшное, и нравственных. Бешеная любовь вчерашней девочки, оказавшейся вдруг требовательной и неутомимой, выматывала все силы, высасывала все соки. И самое ужасное – она была права, ее не в чем было упрекнуть. Она отдавала все, не спрашивая, не заботясь, не торгуясь, а он вынужден был мелочиться, считаться, размышлять. И с ненавистью, в которой пока еще не хотелось себе признаться, он сознавал, что из-за этого падает с высоты, на которую она его возвела, падает незаметно, медленно, но неуклонно, как в пропасть, – и остановить это падение было невозможно. Но он не просил и не хотел, чтобы это прекратилось. Ему сорок лет, он творец и, следовательно, внутренне абсолютно свободный человек. А сейчас он с тоской понимал, что, будучи связан больной женой, бездарным и наглым пасынком, безденежьем и даже каторжным своим прошлым, прежде он был куда свободней. Она требовала своего незримого участия и присутствия во всем, она загораживала небо и теснила Бога. Он понимал, что долго так продолжаться не может, кто-то сломается первым, но кто и как – вот в чем заключался кошмар. И все чаще ему на ум приходили пророческие строчки того, кто сам не вынес и, вероятно, не даст вынести и другой:
История остракизма, которому была подвергнута возлюбленная Тютчева, еще слишком жива была у всех в памяти. И пусть время изменилось, но в глубине души он чувствовал свою неправоту. К тому же, если, как и там, дети… Мысль об этом сводила с ума, детей он хотел безумно. Впрочем, иногда украдкой взглядывая в ее сузившиеся от страсти глаза, он почему-то не сомневался в том, что никаких детей не будет. Да и родной души тоже не было. Была лишь страсть, грешная, тайная, им скрываемая, а ею – нет.
И когда Аполлинария, возвращаясь домой, пропахшая табаком от кончиков пальцев до краешка юбок, ловила на себе возмущенные взгляды Надежды и порою отца, она только лениво поводила сразу как-то вызывающе округлившимся плечом. А он менял по три таза горячей воды у себя в кабинете и не смел зайти в комнату к Маше – от половины флакона кельнской воды, что он выливал на себя, ей становилось дурно.
Глава 20
Улица Марата
С каждым днем становилось все яснее, что Апа отнюдь не родилась актрисой. Но она больше всего расстраивалась уже не из-за этого, а из-за того, что вдруг Наинскому придет в голову позвонить своему другу и рассказать ему про ее бездарность. «Пусть лучше он кричит, беснуется, называет меня какими угодно словами – но только не звонит Даниилу Драгановичу», – сокрушенно думала девушка. Она из кожи вон лезла на репетициях, перечитала гору литературы об актрисах, о собаках и даже наполовину одолела труд Михаила Чехова[126]126
Михаил Чехов – великий русский актер, племянник Антона Чехова, написал книгу об актерском мастерстве «О технике актера».
[Закрыть]. Она воистину старалась, но все оказывалось напрасным, движения провисали, интонации не попадали в тон, пластика не соответствовала. Старая Милка получалась не все повидавшей и потому равнодушной ко всему собакой, а злобной стервой или, того хуже, впавшей в идиотизм старухой.
Все вокруг, уже не чувствуя в Апе опасности соперничества и простив явное покровительство режиссера, тоже пытались помочь ей; даже примадонна Светлана. Наинский хватался за голову, топал ногами, выпивал лишнюю фляжечку и однажды, не выдержав, рявкнул на весь театрик:
– Да что ж ты имя такое не оправдываешь! – и прибавил еще непечатное словцо.
Но никто ничего не понял, поскольку никто ничего особенно сверхъестественного в ее имени не видел. Ну редкое, и что ж с того? Но для нее фраза прозвучала как пощечина.
– Хватит! – вдруг крикнула она. – Хватит меня тыкать моим именем! Все на что-то намекают, черт-те на что, чего-то хотят от меня, чего-то ждут. Но ничего никто толком не скажет! – И Апа вдруг заревела, размазывая черные усы на похудевшем за несколько недель лице.
Лицо Наинского совершенно изменилось.
– Так вот оно как… – забормотал он, потирая художественно небритую щеку. – Ничего не знает… странно, странненько… Я думал… Я полагал, что Дах не оставил вас в неведении, если уж вы сами ничего не знаете…
– Чего не знаю? Ничего я не знаю!
– Да успокойтесь, Аполлинария!
Но Апа даже сквозь слезы услышала, с каким смаком произнес он ее полное имя.
– Только ничего не говорите ему, Борис Николаевич, пожалуйста, – залепетала она умоляюще, – прошу вас, я все буду делать…
– Чего не говорить? Что вы собрались делать? – Наинский отвинтил крышку. – Ничего не понимаю. Впрочем, Дах всегда был с приветом, как свяжешься с ним, так и влипнешь. Да хватит рыдать, честное слово! – Апа усилием воли остановилась. – Послушайте, я вам честно скажу: темперамент у вас удивительный, но вы не актриса. Я обещал Даниле, я вас не выкину с этой постановки – дети все схавают, тем паче такую трогательную историю – но больше не лезьте в театр. Идите в учителя, в журналисты, куда угодно… – Он усмехнулся: где она еще там ошивалась. – Словом, куда угодно, только не сюда. Ну, Дах дает! – опять ни с того ни с сего присвистнул он. – Короче, все, договорились. А вообще, от чистого, так сказать, сердца скажу: зря вы в это лезете, ничего хорошего у вас с ним не получится, помяните мои слова.
– Спасибо за откровенность, Борис Николаевич. – Апа уже равнодушно растерла остатки грима по лицу, и что-то дикое, гордое на мгновение вспыхнуло в этом грязном размазанном лице. Наинский закусил губу. – Но раз уж так, то, может быть, вы мне и расскажете, наконец, что это за таинственная Аполлинария? Это какая-нибудь бывшая любовница Данилы, да?
– В метафизическом смысле она вообще вечная любовница. Но я вам уже сказал: не лезьте в это болото. Знаете, есть такие места в лесу, где прячутся хищники, – и нормальный человек должен бежать от этих мест, бежать со всех ног, как бы они его ни притягивали. Точно так же и в жизни. А об остальном, если уж вам так хочется, разговаривайте со своим Дахом. Всё, все свободны.
В этот день, придя домой, Апа в первый раз с отвращением посмотрела на квартиру, в которой жила и которая всегда так ей нравилась. Теперь ее раздражало все: и кружевные салфетки на кухне, и мамины лягушки, которые та собирала уже лет двадцать, и ни в чем не повинная кошка, но особенно – собственная комната. Царивший в ней порядок вдруг показался ей убогим, несмелым, явным доказательством посредственности. У нее даже промелькнула нехорошая мысль, что, если б ее родители были иными, она могла бы сейчас смело спросить у них о неизвестной Аполлинарии и получить исчерпывающий ответ. Но, увы, затея выглядела явно бессмысленной.
Всю ночь Апа честно пыталась найти ответ на свой вопрос в самой умной книге из всех, какие она до сей поры знала. Однако СЭС[127]127
Советский энциклопедический словарь.
[Закрыть] не дал ей ответа. Тогда она махнула рукой и просто решила спрашивать у всех подряд, на авось, у знакомых и малознакомых. Однако результат оказался тот же. Все пожимали плечами или откровенно крутили пальцем у виска. Тогда Апа отправилась в районную библиотеку.
Молоденькая библиотекарша из вежливости задумалась, потом помотала головой и звонко крикнула коллегам:
– Девочки, никто не знает про какую-то Аполлинарию, тут читательница интересуется?
И Апа, глядя на их хорошенькие лица, не отмеченные печатью мысли, уже заранее поняла, какой ответ ее ждет. Оставалась только Женя. Но теперь, после всех странных вещей, которые начали происходить с ней, Апа особенно не хотела встречаться с Женей из-за какого-то суеверного чувства, что та может нечаянно разрушить это ее новое состояние. Посмеяться, как всегда, и парой фраз уничтожить эту зыбкую пелену ее теперешней настоящей жизни и… тайны. Однако, размышляя о Жене, Апа поймала себя на противоречии. Оказывалось, она одновременно и пытается разгадать нечто – и панически боится разрешения загадки.
А Данила тем временем опять пропал. В его необъяснимых исчезновениях Апе тоже виделась тайна, неразрывно связанная с ее собственной. Ей хотелось думать, что он тоже ищет разгадку, и она часто представляла, как он всю темную ночь напролет бродит один по городу, как вор, лазает по чердакам и подвалам и мучительно пытается ответить на какие-то свои, но точно так же терзающие вопросы. Сама плохо понимая, что и зачем делает, Аполлинария тоже стала после театра бродить по центру города, по тем местам, где они были с Данилой. Но центр, вероятно, не любил ее и никак не хотел поворачиваться к ней своей интимной стороной, встречая ее повсюду лишь равнодушными фасадами, слепыми окнами и пустыми скверами.
Однако за эти несколько недель одиночества она заметила, что в прогулках ее прослеживается некий странный ритм или, вернее, просто странность: где бы она ни бродила, странствия ее всегда заканчивались около того места, где она нашла гадалку. Скоро она уже прекрасно ориентировалась во дворах вокруг Симеоновского моста, но, если человеку другого уровня образования уже открылось бы многое, хотя бы ассоциативно, ее слепая душа все еще никак не могла ничего вокруг разглядеть. Впрочем, Апа гуляла не только там и постепенно по-своему полюбила и замок с горящим окном в полукруглой нише, и оба рынка, и даже остров, раньше казавшийся ей совсем враждебным.
Как-то она пошла от места, где они в первый раз встретились с Данилой, по узкой улочке, поплутала немного среди старых домов и неожиданно вышла на угловой сквер. Напротив расстилались низкие угрюмые здания, от которых исходила тревога, а за ними чудился настоящий простор. По другую сторону улицы стоял мрачный шестиэтажный дом. Он был очень тоскливым, без узоров, без лепнины, и горело в нем только несколько окон с угла. Но у Апы на миг возникло странное чувство, будто именно там сейчас находится тот, кого она любила когда-то давным-давно, любила не спрашивая и не рассчитывая, и вот ее нет, а он там, но постаревший, с серым лицом, с поседевшей бородой, с недоверчивым, запуганным взглядом и сжатыми, точно от холода, плечами… Чтобы избавиться от непонятного видения, Апа тряхнула головой с уже снова отросшими волосами, и видение это действительно исчезло, опять сменившись унылым видом дома. Окна погасли. Лишь у нее над головой качался и монотонно скрипел фонарь на проволоке. Апа присела на одинокую скамейку.
Зачем она здесь, и зачем вообще эти прогулки? Неужели она втайне надеется встретить его? Или – открыть новую себя? Мозг, не привыкший к размышлениям, с трудом ставил вопросы и не находил на них ответы. Но, словно в разрешение этих усилий, в голове у нее вдруг отчетливо и безысходно прозвучала странная, явно чужая фраза: «Жизнь моя поддерживается восторгом и любовью, а не мыслью и убеждением».
И на этот раз Апа уже не испугалась, а, наоборот, обрадовалась. О, как правильно, как точно, просто она сама не сумела бы так красиво сказать. И ведь тогда, в прошлый раз, после этих чужих слов объявился Данила. Может быть, и сейчас… Она даже вытащила из кармана мобильник, но вместо звонка услышала рядом странный звук, как будто кто-то сладко и мощно зевал. Апа удивленно оглянулась и… о, Боже! Рядом стоял огромный пес с жарко раскрытой пастью.
– Ты что? – Работа над ролью все же пошла впрок, и Апа сразу поняла, что собака явно не желает ей ничего плохого. – Чего тебе?
Пес не ушел, не махнул хвостом, а спокойно сел рядом, продолжая смотреть на нее любопытными карими глазами. Через пару секунд с ним рядом оказался второй, точно такой же, только поменьше.
– Ребят, вы чего?
Но в следующее мгновение к ним уже подошел хозяин, и, судя по его движениям, беспокоиться было нечего.
– Что ж это вы полуночничаете, барышня? – несмотря на маргинальный вид, неожиданно интеллигентным голосом спросил он. – Нехорошо. Место дурное, Фуражный двор[128]128
Фуражный двор – место, где хранились запасы фуража для лошадей Семеновского полка, рядом с Семеновским плацем.
[Закрыть] рядом, не дай Бог.
– Я не боюсь, – просто ответила Апа. – Может быть, вы знаете, что это за дом напротив, вон тот, невзрачный такой?
Бомжеватый дядька или, скорее, дедка неопределенного возраста по-птичьи склонил голову в рэперской шапочке. «О, Господи, как у Данилы!» – мгновенно пронзило Апу – и посмотрел с любопытством.
– Предположим, знаю. А зачем вам? Ну-ка, сидеть, дьяволы! – пригрозил он вдруг ни с того ни с сего встрепенувшимся псам.
– Некоторые дома как-то останавливают меня, – честно ответила Апа, по русской привычке быть совершенно откровенной со случайными знакомыми в поездах, домах отдыха и прочих безответственных местах. – Ну… будто в них что-то было интересное, понимаете?
– Понимаю, – не удивившись, ответил бомж. – И насчет дома ты права – он хоть и неказистый, да славный. – Тут дед замолк и задумчиво посмотрел через улицу. – Чрезвычайно гостеприимный домик, чрезвычайно. Многолюдство, разношерстность, бюрократы, литераторы, артистки, и все без приглашений, по-свойски… – Бомж явно увлекся. – Шуб навалено аж на сундуках, галоши, шапки, а хозяйка… Чертовски хороша…
– Так вы такой знаток? – остановила разыгравшиеся фантазии бомжа Апа. – Тогда… – и она прыгнула в ледяную воду: – Тогда, может быть, вы скажете мне, что и… Аполлинария здесь бывала?
Реакция незнакомого бомжеватого собачника оказалась совершенно неожиданной.
– Аполлинария?! И ты туда же! – заорал бомж, вскакивая. – Шпионов подпускать? Не выйдет! Это мое дело и только напрямую, напрямую! Неужели ошибся?! – Он грязно выругался, свистнул псам и почти бегом ушел из скверика. И, уже заворачивая за угол, высоким фальцетом прокричал: – Аполлинария, ха-ха-ха, Аполлинария!
«Сумасшедший, конечно, алкоголик», – успокоила себя Апа, но ей снова стало страшно, казалось, дух этой неизвестной женщины так и носился над городом, мороча, тоскуя и сводя с ума всех вокруг.
Апа побежала на перекресток, где слышался лязг трамваев, уже не думая о том, что сможет встретить Данилу, и желая только одного – поскорее оказаться дома, в родном Купчино, где нет ни призрачных домов, ни чужих мыслей, ни бомжей, знающих историю.
А Дах тем временем бродил не так уж и далеко от последнего пристанища Якова Петровича.
Все это время после разговора в кафе он старался занять себя работой, таким образом пытаясь оттянуть момент неизбежного. Но как назло в это время года наступало некоторое затишье; вещи выбрасывались ближе к Новому году, дорогие подарки покупались также ближе к нему, деньги народу требовались соответственно тоже попозже. Дах занимался мелочевкой: сомнительными картинами, столовым серебром и прочей дребеденью, дававшей прокорм, но не источавшей аромата ни азарта, ни риска. А без двух последних составляющих своей работы Данила почти презирал ее.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































