Текст книги "Антуанетта"
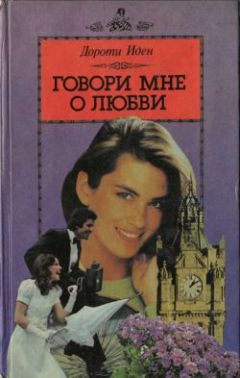
Автор книги: Джин Рис
Жанр: Зарубежные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
– Даже тете Коре?
– Твоя тетя совсем одряхлела. Она уже повернулась лицом к стене.
– Откуда ты знаешь? – удивленно спросила я. И в самом деле тетя Кора потеряла интерес к жизни.
Как-то раз я проходила мимо ее комнаты и услышала, как она спорит с Ричардом. Они говорили о моем замужестве.
– Это ужасно, – говорила тетя Кора. – Просто позор. Ты отдал все, чем владеет дитя, совершенно чужому человеку. Твой отец никогда бы этого не одобрил. Ее права должны быть защищены юридически. Можно составить контракт. Это даже нужно сделать. Отец твой этого хотел.
– Не надо забывать, что мы имеем дело с достойным человеком, с джентльменом, а не мошенником, – возразил Ричард. – Как тебе прекрасно известно, я не могу ставить условия. И с какой стати мне требовать контракта, если я ему доверяю? Я готов доверить ему свою собственную жизнь, – продолжал он с чувством.
– Пока что ты доверил ему не свою, а ее жизнь, – напомнила тетя Кора.
Тогда он велел ей ради Всевышнего замолчать, обозвал ее старой дурой и вышел, хлопнув дверью. Он так рассердился, что не заметил меня в коридоре. Когда я вошла к ней в комнату, она сидела в кровати и бормотала:
– Этот молодой человек – болван или им прикидывается. Не нравится мне этот достойный джентльмен, ох, не нравится! Надутый. Весь какой-то деревянный. И по-моему, глуп как пробка – по крайней мере во всем, что не имеет отношения к его интересам.
Тетя Кора была сильно взбудоражена этим разговором и никак не могла унять дрожь. Я дала ей флакон с нюхательной солью, что стоял у нее на туалетном столике. Она поднесла флакончик к носу, но затем рука ее безжизненно опустилась, словно у нее не было сил держать флакон. Затем она отвернулась от окна, от неба, зеркала, миленьких безделушек на туалетном столике. Красный с позолотой флакончик полетел на пол. Тетя Кора повернулась лицом к стене.
– Господь покинул нас, – сказала она и. закрыла глаза. Она больше не сказала ни слова, и мне показалось, что она заснула. Она слишком плохо себя чувствовала, чтобы присутствовать на моей свадьбе, и я зашла к ней попрощаться перед отъездом. Я была взволнована, счастлива – ведь начинался мой медовый месяц. Тетя Кора поцеловала меня и вручила мне шелковый мешочек.
– Там мои кольца. Два из них очень ценные. Ни за что не показывай их ему. Спрячь хорошенько. Ты мне это обещаешь?
Я пообещала, но, когда открыла мешочек, одно из этих колец оказалось обыкновенным золотым, а что касается второго, то кто у меня его здесь купит, неизвестно.
– Твоя тетушка стара и больна, – говорила между тем Кристофина, – а этот самый Мейсон – ничтожество. Найди в себе силы сражаться в одиночку. Поговори с твоим мужем спокойно, рассудительно, расскажи, что случилось тогда в Кулибри и почему после этого твоя мать заболела. Не кричи, не закатывай глаза. И не плачь. Слезами его не проймешь. Говори спокойно, пытайся заставить его понять, что к чему.
– Я пыталась, – отозвалась я, – но только он мне не верит. Теперь уже слишком поздно объяснять. – Правда, подумалось мне, всегда опаздывает. – Если ты выполнишь мою просьбу, то я, конечно, попробую поговорить с ним еще раз. Ох, Кристофина, как мне страшно! Сама даже не знаю, почему. Мне страшно все время. Пожалуйста, помоги мне!
Кристофина пробормотала себе под нос фразу, которую я не смогла разобрать, ушла в дом и вскоре вернулась с чашкой кофе. Потом взяла палочку и стала чертить острым концом на земле под манговым деревом какие-то знаки – линии и круги, потом стерла нарисованное ногой.
– Если ты поговоришь с ним, я тебе помогу.
– Сейчас?
– Да, – ответила Кристофина. – Смотри мне прямо в глаза.
Когда я встала с камня, у меня кружилась голова. Кристофина ушла в дом, но вскоре вернулась с чашкой кофе.
– Там добрая толика рома, – сказала она. – У тебя лицо, как у покойницы, и красные глаза. Успокойся. Вон идет мой сын Джо-Джо. Если он увидит тебя такой, то расскажет всем-всем. Это не парень, а дырявая корзина.
Допив кофе, я вдруг рассмеялась.
– Господи, я печалилась из-за пустяков! – воскликнула я.
Джо-Джо шел с корзинкой на голове, легко переставляя свои сильные коричневые ноги. Увидев меня, он удивился и заинтересовался, но вежливо осведомился на патуа, хорошо ли я себя чувствую и в добром ли здравии хозяин.
– Да, Джо-Джо. Спасибо, мы оба в порядке.
Кристофина помогла ему снять корзинку, потом вынесла бутылку белого рома и налила половину стаканчика. Он быстро осушил его, после чего Кристофина, как это принято у здешних жителей, налила ему воды, и он запил ром.
Кристофина сказала сыну по-английски:
– Хозяйка уже уезжает. Ее конь пасется у ручья. Приготовь его.
Я прошла за Кристофиной в дом. В первой комнате были стол, две лавки и два сломанных стула. Спальня была темной и просторной. Я увидела там лоскутное одеяло, пальмовый лист и молитву о легкой смерти, но, заметив в углу горку куриных перьев, больше не стала оглядываться.
– Уже испугалась? – спросила меня Кристофина. Увидев выражение ее лица, я вынула из кармана кошелек и бросила на кровать.
– Денег мне не нужно. Я занимаюсь этой чушью не из-за денег, а просто потому, что ты меня об этом попросила.
– Разве это чушь? – прошептала я, на что Кристофина рассмеялась, только не так громко, как в первый раз.
– Если веке говорит, что это чушь, значит, так оно и есть, – отозвалась Кристофина. – Веке умен, как дьявол. Умнее, чем Господь. Ну, слушай меня, и я расскажу тебе, что ты должна сделать.
Когда мы снова вышли из дома, Джо-Джо стоял у камня и держал под уздцы Престона. Я встала на камень, потом села в седло.
– До свидания, Кристофина, до свидания, Джо-Джо!
– До свидания, хозяйка.
– Ты приедешь навестить меня, Кристофина?
– Да, обязательно.
Немного отъехав, я обернулась. Кристофина стояла на дороге и что-то говорила Джо-Джо, а тот слушал с выражением любопытства на лице. Где-то рядом прокукарекал петух, и я подумала: «Это знак предательства, только кто кого предал?» Она не хотела этого делать, но я заставила ее с помощью своих противных денег. Что мы знаем про предателей, откуда нам понять, почему Иуда предал Иисуса? Я помню то утро все до мельчайших подробностей. Стоит мне закрыть глаза, и я вижу темно-синее небо, манговые листья, розовые и красные цветы гибискуса, желтый головной платок Кристофины, завязанный так, как это делают женщины на Мартинике, – с узелками впереди. Все это застыло, как рисунок на витраже. Двигались только облака на небе. То, что дала мне Кристофина, предварительно завернув в зеленый лист, приятно холодило мне кожу.
– Хозяйка поехала с визитом, – сообщил мне Батист, когда принес утренний кофе. – Вернется вечером или завтра. Она решила ехать внезапно.
Днем Амелия принесла мне второе письмо.
«Почему вы мне не ответили? – читал я. – Вы мне не верите? Тогда спросите кого-то еще. Об этом знают все в Спэниш-Тауне. Почему, по-вашему, они привезли вас сюда? Неужели вы хотите, чтобы я сам явился к вам в дом и при всех обо всем рассказал? Или вы приедете ко мне или я сам…»
Тут я прервал чтение. В комнату вошла Хильда, и я спросил ее, где Амелия.
– Здесь, хозяин.
– Скажи ей, что я хочу с ней поговорить.
– Да, хозяин.
Хильда прикрыла рот ладошкой, чтобы удержаться от привычного хихиканья, но ее глаза – такие темные, что невозможно отличить зрачки от радужки, – были тревожны и печальны.
Я сидел на веранде, спиной к морю, и мне показалось, что так было всегда. Я не мог представить себе другой погоды, другого неба. Очертания гор были знакомы мне, как и два коричневых кувшина на столе, в которых стояли белые, сладко пахнущие цветы. Я знал, что на Амелии будет все то же белое платье. Она была бело-коричневая, с кудряшками, наполовину прикрытыми красным головным платком, с босыми ногами. Мне казалось, что вокруг всегда будут эти горы, это небо, эти цветы и эта девочка, и в глубине души у меня теплилась надежда, что, возможно, все это кошмарный сон.
Амелия прислонилась к столбу веранды с равнодушной грацией, всем своим видом выражая необходимую почтительность, и ждала, что я еще скажу.
– Письмо было передано тебе в руки? – спросил я.
– Нет, хозяин, мне его дала Хильда.
– А тот, кто его написал, твой знакомый?
– Нет, – сказала Амелия.
– Но он тебя знает? По крайней мере в письме он это утверждает.
– Да, я знаю Дэниэла.
– Отлично. Тогда передай ему, что его письма только раздражают меня и что в его интересах перестать их писать. Если он принесет еще одно письмо, верни его ему. Тебе все понятно?
– Да, хозяин, понятно.
По-прежнему стоя прислонившись к столбу, она улыбнулась, и я понял, что сейчас эта улыбка перерастет в смех. Чтобы помешать этому, я снова заговорил:
– Зачем он пишет мне?
Как ни в чем не бывало, Амелия спросила невинным тоном:
– Разве он не объяснил? Написал два письма и так ничего не объяснил? Если вы не знаете, то я и подавно.
– Но его-то ты знаешь? Его фамилия Косвей?
– Одни люди говорят «да», другие люди говорят «нет». Но сам он так себя называет.
Помолчав, она добавила, что Дэниэл – человек не простой. Все время читает Библию и живет, как живут белые. Я попытался понять, что она имеет в виду, и Амелия пояснила, что у него дом точь-в-точь, как у белых, где одна комната только для того, чтобы там сидеть. Еще она сказала, что на стене этой комнаты висят два портрета. Его отец и мать.
– Они белые?
– Нет, цветные.
– Но он утверждал в первом письме, что его отец – белый.
На это Амелия только пожала плечами.
– Все это случилось слишком давно, я не помню. – В ее голосе зазвучали презрительные нотки. – Я передам ему ваши слова, хозяин, – пообещала она, а потом добавила: – А почему бы вам не навестить его? Так будет лучше. Дэниэл – плохой человек, и если заявится сюда, то ничего хорошего из этого не выйдет. Одни только неприятности. Говорят, однажды он был проповедником на Барбадосе. Он и говорит как проповедник. И еще на Ямайке у него живет брат. Мистер Александр. Очень состоятельный человек. У него три винных магазина и две мануфактурные лавки. – Она бросила на меня взгляд, острый как нож. – Я слышала даже, что люди говорили: когда-нибудь его сын Санди и мисс Антуанетта поженятся, но все это, конечно, ерунда. Мисс Антуанетта – белая, и у нее много денег. Она ни за что не вышла бы за цветного, даже если он и не выглядит, как цветной. Спросите сами мисс Антуанетту, она скажет…
Как и Хильда, она прикрыла рот ладонью, словно не имея сил сдержать хихиканье, и удалилась. Но затем обернулась и тихо сказала:
– Мне вас жаль.
– Что ты сказала?
– Ничего, хозяин.
Красная скатерть с бахромой на большом деревянном столе, казалось, только прибавляла комнате духоты. Единственное окно было закрыто.
– Я поставил вам стул поближе к двери, – говорил Дэниэл. – Потому как из-под нее дует ветерок.
Но никакого ветерка не было и в помине. Дом стоял низко, почти на уровне моря.
– Когда я увидел, что это вы, я выпил рому, а потом запил водой, чтобы немножко охладиться, но вода меня не охладила, она превратилась в слезы и вырвалась из меня вместе с рыданиями. Почему вы не ответили на мое первое письмо? – Он продолжал говорить, уставясь на текст в рамке на белой грязной стене: «Мне отмщение, и аз воздам». – Ты слишком медлишь, Господи, – сказал он, обращаясь к тексту. – Я хочу немного поторопить тебя. – Затем он вытер рукавом свое худое желтое лицо и высморкался в угол скатерти.
Они зовут меня Дэниэлом, – сообщил он, – но мое настоящее имя Исав. Все время я получал пинки и оскорбления от этого дьявола, моего отца. Мой отец – старый Косвей, и в его честь в церкви Спэниш-Тауна вывешена на всеобщее обозрение мраморная доска. На ней герб, девиз по латыни и надпись черными буквами. В жизни не читал такой чудовищной неправды. Надеюсь, что на шею ему повесят жернов, который увлечет его в преисподнюю. «Набожный, – пишут они. – Любимый всеми». И ни слова о людях, которых он покупал и продавал, как скотину! «Милосердный к слабым». Какое уж тут милосердие! У этого человека не сердце, а камень. Ну да, когда ему надоедала какая-то женщина, а это случалось быстро, как, например, с моей матерью, он отпускал ее на свободу, давал хижину и клочок земли – кто-то называл это «садом»! Но он делал это не из милосердия, а из дьявольской гордыни! Я в жизни не встречал человека более высокомерного и надменного. У него был такой вид, словно ему принадлежал весь мир. Он будто бы говорил: «Плевать мне на все!» Но ничего… Эта доска и сейчас стоит у меня перед глазами, потому что я часто бывал там и смотрел на нее. Я выучил наизусть всю ту ложь, какую они там написали, и ведь никто не встал и не спросил: почему вы допускаете неправду в храме? Я говорю вам это, чтобы вы знали, какие люди вас окружают. Сердце помнит свои обиды, но удержать их постоянно под замком очень тяжело. Помню отчетливо, как будто это случилось вчера. День, когда он взял и проклял меня. Мне было тогда шестнадцать лет, и я был несчастен. Я вышел из дома спозаранку и пошел в Кулибри. На дорогу у меня ушло пять-шесть часов. Принять меня он принял. Но встретил холодно и сообщил, что я вечно тяну из него деньги. Конечно, время от времени я просил у него деньги – например, на ботинки, чтобы не ходить босиком, как негр. Я ведь не негр. Он смотрел на меня как на полное ничтожество, и тут я не выдержал. «У меня тоже есть права!» – сказал я ему, но он только расхохотался. Отсмеявшись, он сказал: «Эй ты, как там тебя зовут? Всех вас не упомнишь». В то утро, в ярком свете он казался особенно старым. «Вы сами назвали меня Дэниэлом, – сказал я. – Я свободный человек, а не невольник, не то что моя мать».
«Твоя мать была редкой лгуньей, – сказал он, – но Господь успокоил ее душу, и хватит об этом. Заруби у себя на носу: я не дурак. Если в тебе есть хоть капля моей крови, частичка моей плоти, я съем собственную шляпу». Тут моя кровь закипела и я крикнул: «Ну так ешь ее поскорей! В вашем распоряжении времени в обрез – даже на то, чтобы поцеловать вашу новую женушку!» Он побагровел, а потом посерел. «Боже правый!» – воскликнул он, попытался встать, но опять рухнул на стул. На столе стояла большая серебряная чернильница, и он схватил ее и с проклятиями бросил в меня. Я успел увернуться, и она угодила в дверь. Мне хотелось рассмеяться ему в лицо, но пора было уносить ноги. Я ушел. Потом он прислал деньги. Никакой записки не было – только деньги. В то утро я видел его в последний раз.
Дэниэл тяжело вздохнул, снова вытер лицо рукавом и предложил мне рому. Я поблагодарил и отказался, а он налил себе полстакана и одним глотком осушил его.
– Все это было давно, – сказал он.
– Зачем ты хотел меня видеть, Дэниэл? Последняя порция рома, кажется, произвела на него отрезвляющее воздействие. Он посмотрел на меня и заговорил гораздо спокойнее.
– Я проявлял настойчивость, потому как не мог утаить всего этого. Вы спрашиваете, правда ли в письме. Вы меня явно недолюбливаете, я это вижу, но вы чувствуете, что я не солгал. Да, надо знать, с кем говоришь. Очень многие охотно судачат у вас за спиной, но в глаза не скажут ничего – либо боятся, либо просто не желают связываться. Например, судья много чего мог бы рассказать, но его супруга в дружеских отношениях с семьей Мейсонов и потому сразу заставит его замолчать, даже если он захочет поделиться кое-какими секретами. Или вот мой сводный брат Александр. Он такой же цветной, как и я, только ему повезло куда больше. Он вам наврет с три короба. Да. Александр теперь человек зажиточный, но будет помалкивать. Он богат и потому двулик. Он ни за что не скажет ни слова против белых. И еще эта женщина из вашего же дома, Кристофина. Она хуже всех. Ей пришлось уехать с Ямайки, потому как ее сажали за решетку. Вам это известно?
– А почему она попала в тюрьму? Что такого она натворила?
Дэниэл отвел взгляд.
– Говорю вам, я уехал из Спэниш-Тауна. Точно не знаю, что там вышло. Но что-то очень плохое. Она – обеа, и они ее уличили в колдовстве. Многие верят в колдовство. Я не верю, но все равно: Кристофина – страшная женщина и лжет даже хуже вашей жены. Ваша жена говорит сладким голосом – и страшно лжет.
Черные с позолотой часы на полке пробили четыре.
Нужно было уходить. Мне хотелось оказаться подальше от этого желтолицего человека и его отвратительной комнаты. Но я застыл на месте и сидел, глядя на него.
– Вам нравятся мои часы, да? – осведомился Дэниэл. – Я много работал, чтобы их приобрести. Решил побаловать себя. Мне не нужно баловать капризных женщин. Купи мне это, купи мне то – это же просто дьяволы во плоти. Александр, например, как ни старался, не смог уберечься от одного из таких демонов. В конце концов он женился на светловолосой девушке из почтенной фамилии. Его сын Санди почти как белый, только он куда красивее, чем любой из белых. Его принимают во многих белых домах. Ваша супруга давно знает Санди. Спросите ее, она вам расскажет. Только, наверное, расскажет не все. – Он рассмеялся и продолжал. – Нет, нет, далеко не все. Я видел их, когда им казалось, что никто их не видит. Вы уходите, да? – он метнулся к двери.
– Нет, – продолжал он, погодите, я вам расскажу еще кое-что. Вы не заставите меня молчать! Она начала с Санди. Они сильно одурачили вас с этой девицей. Она смотрит вам прямо в глаза, говорит милым голоском, но врет напропалую. Лжет и не краснеет. Говорят, такой же была ее мамаша. Но дочка будет похуже! А она ведь еще почти девочка. Вы, наверное, оглохли, если не слышали, как все вокруг покатывались со смеху, когда вы на ней женились. Не тратьте на меня свой гнев, сэр. Я не пытаюсь вас обвести вокруг пальца. Наоборот. Я хочу открыть ваши глаза на истинное положение дел. Высокий, красивый англичанин вроде вас не захочет марать руки о мелкую желтую крысу вроде меня, верно? И кроме того, я-то прекрасно понимаю, что у вас на уме. Вы-то мне верите, но хотите, чтобы все было по-тихому – как это любят англичане. Пусть так. Согласен. Но за мое послушное молчание вы мне кое-что будете должны. Что такое для вас пятьсот фунтов? Пустяк. А для меня – целая жизнь.
Отвращение подступало к горлу, словно тошнота. Отвращение и ярость.
– Ладно! – крикнул он, отступая от двери. – Уходите. На здоровье. Убирайтесь! Теперь мой черед сказать эти слова. Только учтите: если я не получу денег, вы увидите, на что я способен!
Я вышел, а он злобно крикнул мне вслед:
– И передайте привет вашей супруге – моей сестричке! Вы не первый, кто целовал ее прелестное личико! Прелестное личико, мягкая кожа, приятный цвет, – не желтый, как у меня. Но все равно она моя сестричка…
Когда дом Дэниэла скрылся из вида, я остановился на дороге. После темной комнатки дневной свет ослеплял. В мире этом царили жара и мухи. Черно-белая коза на привязи тупо смотрела на меня, и какое-то время я также таращился в ее раскосые желто-зеленые глаза. Потом я подошел к дереву, отвязал свою лошадь и как можно скорее убрался подальше от этого места.
Телескоп был отодвинут в сторону, уступив место графину с ромом и двум стаканам на потемневшем серебряном подносике. Некоторое время я сидел, слушал бесконечные ночные звуки и шорохи, глядел на рой мотыльков вокруг свечи, затем налил рому и выпил. Почти сразу же ночные звуки сделались какими-то отдаленными, почти приятными.
– Бога ради, выслушай меня, – сказала Антуанетта. Она уже один раз произносила эту фразу, но тогда я ничего не ответил, а теперь вот сказал:
– Ну разумеется. Иначе я был бы тем самым скотом, каким ты меня, безусловно, считаешь…
– Почему ты меня так ненавидишь? – спросила Антуанетта.
– Ничего подобного. Во мне нет ненависти. Просто я огорчен, расстроен. – Но я сказал неправду. Никакого расстройства, смятения не было и в помине. Я был спокоен. Я давно не чувствовал себя таким спокойным, таким уверенным в себе.
На Антуанетте было то самое белое платье, которым я когда-то восхищался, но теперь я обратил внимание, что оно ей великовато и сидит неряшливо, соскользнув с одного плеча. Она взялась правой рукой за левое запястье – привычка, которая меня порядком раздражала.
– В таком случае почему же ты ко мне никогда не подходишь? – спросила она. – Почему никогда меня не поцелуешь, не заговоришь со мной? Почему ты считаешь, что я могу это выдержать? За что ты так обращаешься со мной? У тебя есть на то какие-то особые причины?
– Да. У меня есть на то причины, – сказал я и тихо добавил: – О Боже!
– Ты всегда призываешь на помощь Господа, – заметила Антуанетта. – Ты веришь в Бога?
– Разумеется, верю. Я верю в силу и мудрость моего Создателя.
Ее брови поднялись, а уголки рта, напротив, опустились, придавая лицу насмешливое выражение. Какое-то мгновение она очень походила на Амелию. Кто знает, подумал я, а вдруг они родственницы? В этих проклятых местах такое вполне возможно.
– А ты, – в свою очередь поинтересовался я, – ты веришь в Бога?
Тут я увидел, что ее бьет озноб, и припомнил, что у нее была шелковая шаль. Я встал, чувствуя удивительную легкость в голове и тяжесть во всем теле, вошел в комнату, увидел там на стуле шаль, а на буфете новые свечи и вынес их на веранду. Я зажег две свечи и набросил шаль на плечи Антуанетты.
– Но почему бы тебе не рассказать обо всем завтра, при свете дня? – спросил я.
– Ты не имеешь права! – яростно воскликнула она. – Ты не имеешь права задавать мне вопросы о моей матери и отказываться выслушивать ответы.
– Ну, разумеется, мы можем обсудить все сейчас. Разумеется, я выслушаю тебя, – сказал я спокойно, но не мог избавиться от ощущения чего-то враждебного мне, чуждого и опасного. – Просто я чувствую себя здесь неуютно, – признался я Антуанетте. – Мне кажется, что это место – мой враг и находится на твоей стороне.
– Ошибаешься, – возразила Антуанетта. – Это место ни на моей стороне, ни на твоей. Оно вообще к нам безразлично. Возможно, потому-то ты так его и боишься. Я поняла это давным-давно, еще в детстве. Я любила его, потому что прежде ведь мне больше нечего было любить, но оно столь же равнодушно к людям, как и Всевышний, о котором ты так часто вспоминаешь.
– Можем поговорить здесь или в другом месте, – отозвался я. – Как тебе будет угодно.
Графин с ромом опустел, я встал, прошел в столовую и взял новую бутылку рома. Антуанетта ничего не ела и отказалась от вина, но теперь она пригубила стакан с ромом и затем поставила его обратно.
– Итак, ты хочешь знать о моей маме, – начала Антуанетта.
– А ты веришь в то, что о нас говорят? – прервал я ее.
– Это не имеет никакого значения, – спокойно отвечала она, – верим мы или нет, потому что от нас ничего не зависит. Мы похожи вот на них, – она смахнула мертвого мотылька со стола. – Но помнишь, я задала тебе вопрос. Ты можешь на него ответить?
Я снова отпил рома, и в голове у меня сделалось гораздо яснее.
– Я отвечу, но я и сам хотел у тебя кое-что спросить. Жива ли твоя мать?
– Нет, она умерла.
– Когда?
– Недавно.
– Тогда почему ты сказала мне, что она умерла, когда ты была совсем маленькой?
– Потому что так мне велели отвечать. А кроме того, это правда. Она и впрямь умерла, когда я была еще маленькой. Есть две смерти – настоящая и та, о которой объявляют окружающим.
– По крайней мере две, – поправил я Антуанетту. – Для тех, кому повезло. – Помолчав, я продолжил: – Я получил письмо от человека, который называет себя Дэниэлом Косвеем.
– Он не имеет права на эту фамилию, – быстро отозвалась Антуанетта. – Если уж на то пошло, он Дэниэл Бойд. Он ненавидит всех белых, а меня особенно, и постоянно распространяет о нас лживые слухи. Он убежден, что ты поверишь именно ему и не станешь выслушивать другую сторону.
– А существует другая сторона? – поинтересовался я.
– Другая сторона существует всегда.
– После второго письма, по тону угрожающего, я счел за благо навестить его.
– Значит, ты был у него? Я знаю, что он тебе сказал. Он сообщил, что моя мать была сумасшедшей, что она была распутной, что мой младший брат родился слабоумным идиотом и, наконец, что я тоже сумасшедшая. Правильно?
– Да, именно это он мне и сообщил – и я хотел бы знать, что из этого соответствует действительности, – сказал я, по-прежнему сохраняя хладнокровие.
Одна из свечей ярко вспыхнула, и я увидел под глазами у Антуанетты черные впадины. Лицо ее было исхудалым, рот горестным.
– Не будем больше об этом, – сказал я. – Уже поздно. Лучше отдохни.
– Нет, мы должны выяснить все, – голос ее зазвенел.
– Только если ты обещаешь проявлять благоразумие, – возразил я.
Нет, сейчас не место и не время, думал я. Только не на этой темной длинной веранде, где догорали свечи, а вокруг была темная ночь.
– Не сегодня, – сказал я, – как-нибудь в другой раз.
– Может случиться так, что я не смогу рассказать тебе обо всем в другое время и в другом месте, – сказала Антуанетта с интонациями, очень похожими на негритянские – нараспев и с вызовом. – Сейчас самое время. Или ты боишься? Что ж, я тебе расскажу. Не ложь, а чистую правду. – После этого она впала в молчание, которое длилось так долго, что я не выдержал и сказал:
– Я знаю, что после смерти твоего отца она очень переживала и была страшно одинокой.
– И страшно бедной, – отозвалась Антуанетта. – Не забывай о жуткой нищете, в которой она жила. Целых пять лет. Легко произнести два слова «пять лет», но трудно прожить. Да, еще она была одинока. Она была так одинока, что стала сторониться людей. Такое бывает. Я тоже сторонилась людей, но мне было легче, потому что я с детства была одна. А маме это казалось странным, пугающим. И она была так хороша собой. Я думала раньше, что всякий раз, когда она смотрелась в зеркало, она загоралась надеждой и воображала разные вещи. Я тоже их воображала. Но воображай не воображай, а однажды все вокруг рушится и ты понимаешь, что осталась одна-одинешенька. Мы были одни в самом красивом месте на земле. Трудно вообразить место красивее, чем Кулибри. До моря было рукой подать, но мы никогда не слышали моря. Только реку. Но море – никогда. Дом был старинный, и когда-то к нему вела аллея из королевских пальм, но одни пальмы упали сами, другие были срублены, а остальные выглядели какими-то брошенными. Брошенные деревья. А потом они отравили мамину лошадь, и мама больше не могла выезжать кататься верхом. Она работала в саду, даже когда солнце поднималось высоко, и ей говорили: «Хозяйка, вы бы шли в дом».
– Кто это «они»?
С нами жила Кристофина, а еще старый конюх и мальчик по имени… Как же его звали? Ах да! Ах да, – рассмеялась она, – его звали Дизастрос.[6]6
В переводе с английского – «ужасный».
[Закрыть] Его крестная мать решила, что это очень красиво звучит, но священник сказал: «Я не могу окрестить дитя таким именем, придумайте что-нибудь другое». Тогда он стал Дизастрос Томас, а мы звали его Сасс. Кристофина покупала провизию у жителей соседней деревушки, ей удалось уговорить местных девушек приходить помогать – убирать дом, подметать, стирать одежду. Если бы не Кристофина, говорила мама, мы бы просто умерли. Многие умирали в те дни, и белые, и черные. В основном, конечно, старики, но теперь о тех временах предпочитают помалкивать. О них постарались забыть всю правду, уцелела только ложь. Ложь всегда выживает, она растет, ширится…
– А ты? – спросил я. – Как ты тогда жила?
– Я никогда не грустила по утрам, – отвечала Антуанетта. – Каждый день был для меня новым событием. Помню вкус молока и хлеба, помню тиканье старых дедушкиных часов. Помню, как мне впервые повязали косы веревочкой, потому что не было денег купить ленты. В нашем саду цвели все цветы мира, а когда мне хотелось пить, я слизывала капли с листьев жасмина после ливня. Как жаль, что я не могу тебе все это показать. Они уничтожили все, и это теперь осталось только тут, – Антуанетта постучала себя по голове. – Самым прекрасным была винтовая лесенка, которая вела с веранды вниз. Перила были из узорного железа.
– Кованого железа, – произнес я.
– Да, а на конце снизу поручни загибались, словно вопросительные знаки. Я клала руку, и перила были теплыми, и у меня на душе делалось легко и спокойно.
– Но ты говорила, что тебе всегда было хорошо?
– Нет, я говорила, что мне всегда было хорошо утром, днем – когда как, а вечером – жутковато. Казалось, дом наводняли призраки.
Затем в один прекрасный день мама вдруг увидела, что я расту как белая негритянка, ей стало стыдно меня, и с того дня все стало меняться. Да, это все из-за меня… Из-за меня она стала строить планы, как переделать нашу жизнь, начала лихорадочно над этим трудиться. Затем к нам снова стали приезжать люди, и хотя я по-прежнему их ненавидела, боялась их холодных, дразнящих взглядов, я научилась это скрывать.
– Нет, – сказал я.
– Что «нет»?
– Ты так и не научилась этому.
– Я пыталась, – отозвалась Антуанетта. Не очень удачно, подумалось мне.
– А потом однажды ночью они уничтожили все. – Антуанетта откинулась в кресле. Она сильно побледнела. Я налил ей рому, но она оттолкнула стакан так резко, что ром пролился ей на платье. – Теперь там нет ничего. Все растоптано. Это было священное место. Посвященное солнцу! – Слушая ее, я гадал, что в ее рассказе правда, а что придумано, искажено. Конечно, немало усадеб было сожжено в те дни. По всему острову можно было видеть руины.
Словно угадав мои мысли, она спокойно продолжила:
– Но я рассказывала о маме. Потом я заболела лихорадкой. Я лежала в доме тети Коры в Спэниш-Тауне. Как-то я услышала крики, потом громкий смех. Наутро тетя Кора сказала мне, что мама тяжело заболела и уехала за город. Это меня не удивило. Для меня она была частью Кулибри, и раз Кулибри ушло из моей жизни навсегда, было только естественно, что и мама тоже последует за ним. Я долго болела. У меня была забинтована голова: в меня бросили камнем. Тетя Кора сказала, что голова «до свадьбы заживет» и все будет в порядке. Но мне все-таки кажется, что она так и не зажила – ни до свадьбы, ни потом. Этот камень испортил все…
– Антуанетта, – сказал я, – ничего подобного. Все плохое ушло, просто тебе надо отогнать грустные воспоминания. Не думай о грустном, и все будет в порядке. Обещаю тебе.
Но сердце у меня было тяжелое, как свинец.
– Пьер умер, – продолжала она, словно не услышав меня, – а мама возненавидела мистера Мейсона. Она не позволяла ему ни приближаться, ни дотрагиваться до нее. Она говорила, что убьет его, и, по-моему, пыталась это сделать. Тогда он купил ей дом и нанял двух цветных – мужчину и женщину, чтобы они за ней присматривали. Некоторое время он очень грустил, но потом стал часто уезжать с Ямайки, много времени проводил на Тринидаде. Думаю, он в общем-то забыл ее.
– И ты тоже забыла? – не удержался я.
– Я не из тех, кто забывает, – сказала Антуанетта, – но она не хотела меня видеть. Когда я приехала ее навестить, она оттолкнула меня и подняла крик. Мне сказали, что из-за меня ей сделалось хуже. О ней постоянно судачили, ее просто не оставляли в покое, о ней говорили – и замолкали, как только появлялась я. Однажды я решила отправиться к ней одна. Когда я подошла к дому, то услышала, как она плачет. Я решила, что убью любого, кто посмел обидеть мою маму. Я слезла с лошади, быстро побежала, поднялась на веранду и оттуда заглянула в ее комнату. Помню, какое на ней было платье – вечернее, с глубоким вырезом. Она была в этом вечернем платье и босиком. Там же был толстый чернокожий со стаканом рома в руке. Он сказал ей: «Выпейте, и все забудется». Она быстро выпила ром, он налил ей еще, она взяла стакан, засмеялась и бросила стакан через плечо. Он разбился вдребезги. «Убери осколки, – сказал мужчина женщине, – а то она порежет ноги».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































