Текст книги "Земляничный вор"
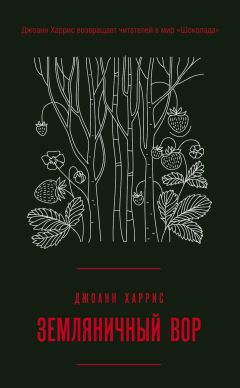
Автор книги: Джоанн Харрис
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава девятая
Суббота, 18 марта
Сегодня похороны Нарсиса. Ну, не совсем похороны. Похороны отчасти уже состоялись – в центре Ажена. А это поминальная служба, она означает, что мы должны помнить Нарсиса. Только странно: разве мы могли его забыть? Ну, все равно мне пришлось надеть в церковь платье, зеленое с мелкими цветочками, а мама надела небесно-голубое пальто и нарядное платье с фестонами. Когда мы вышли из дома, на площади было уже полно народу. Идти было недалеко: только через площадь и еще немного по направлению к церковному кладбищу. В оштукатуренной кладбищенской стене сделаны такие специальные полочки и маленькие альковы – все это немного напоминает библиотеку для мертвых. Может, это действительно так? Ведь мама всегда говорит, что люди хранят множество разных историй.
Я огляделась: мне хотелось понять, кто пришел на похороны. Человек пятьдесят, наверное. Некоторые из тех стариков, что вечно сидят в кафе. И Жозефина, конечно, тоже пришла, а вот Пилу не было. Странно, подумала я, почему же его-то нет? Сегодня ведь он даже в школу не поехал. Из Маро очень многие пришли – в основном женщины, все в черном, головы обмотаны платками, как у монахинь; у них никогда не поймешь, то ли это повседневная одежда, то ли они специально для похорон так оделись. Среди них были Оми и Майя. Оми подмигнула мне и улыбнулась всем своим морщинистым, как изюм, лицом. Рейно облачился во все черное, только на шее такая пурпурная штучка. Не шарф и не шейный платок, но все равно красиво. Наверное, даже ему приходится особенно тщательно одеваться, когда бывают чьи-то похороны.
Новый магазин, который больше уже не цветочный, сегодня закрыт. На дверях так и написано: ЗАКРЫТО, и неоновая вывеска не горит. Неужели тоже из-за похорон? Я еще раз огляделась: может, появился кто-нибудь необычный? Нет, никаких новых людей, кроме той китайской дамы, ее Йин зовут; она улыбнулась мне и помахала рукой. Оказалось, что даже Янник пришел вместе с родителями; отец Янника надел черный костюм, а мать – черные кружевные перчатки и шляпу с маленькой вуалькой в «мушках». Янник тоже был в пиджаке и в галстуке, и казалось, будто он из всего этого вырос, поэтому, наверное, и вид у него был такой недовольный, даже сердитый. Я решила, что ему, должно быть, просто жарко, и послала в его сторону легкий ветерок; мне хотелось, чтобы он меня заметил, и – БАМ! – он действительно меня заметил, но лишь глянул в мою сторону и сразу глаза отвел.
Мама тоже на меня посмотрела и сказала взглядом: Прекрати, Розетт.
Но это же мой друг! – пояснила я на языке жестов. – Тот самый, что тоже розовый алтей любит.
Маму это, похоже, удивило.
– Янник Монтур? Так вот кто твой новый друг!
Интересно, подумала я. Неужели мама решила, что Янник – тоже «воображаемый дружок»? И мне почему-то вдруг стало грустно, я даже рассердилась немного: неужели даже маму удивляет, когда мои друзья оказываются вполне реальными, живыми людьми?
Он был в моем лесу, пояснила я. Он очень милый. И многое понимает.
Мама как-то странно посмотрела на Янника; казалось, она все еще беспокоится. И мне захотелось рассказать ей, какой Янник симпатичный и совсем не похож на своих родителей, но тут как раз Рейно начал проповедь, так что разговаривать с мамой даже на языке жестов я больше не могла. Рейно тем временем говорил о том, как похоже выращивание цветов и вообще всяких растений на непосредственное общение с Богом, а это значит, что Нарсис все же был настоящим христианином, хоть и утверждал, что церковь ненавидит. Мне это показалось довольно надуманным, и я, отвлекшись от проповеди, стала наблюдать за Янником, пытаясь заставить его снова на меня посмотреть; чтобы привлечь его внимание, я приказывала маленьким камешкам на тропинке подпрыгивать и стукаться о кладбищенскую стену. Завершив проповедь, Рейно поставил урну с прахом на одну из тех узких каменных полочек, а под ней привинтил к стене маленькую металлическую табличку. А я подумала, что между стеной и тропинкой есть узкая полоска земли, где как раз хватит места, чтобы посадить несколько кустиков земляники, и решила, что принесу их с нашей лесной поляны. Нарсису это будет приятно. Я точно знаю.
Когда мы вернулись к себе, оказалось, что бывший цветочный магазин на площади уже открылся и неоновая вывеска снова зажглась. Я заметила, что Янник, шедший мимо, вдруг остановился, словно его взгляд привлекло нечто необычное. Оказалось, что это бумажная ветряная мельничка, воткнутая в цветочный горшок, поставленный у двери. Мельничка вращалась, слегка постукивая, и над ней ярко вспыхивали разноцветные огни, точно некая тайная сигнализация. Я подбежала было к Яннику, но мадам Монтур, глянув на меня, строго его окликнула:
– Ну, что ты застрял, Янник? Что тебе там понадобилось?
Янник сгорбился, что-то проворчал и еще больше стал похож на медведя. Должно быть, примерно таким и Нарсис был в детстве, подумала я. Таким небольшим медведиком с лохматой темной шерстью и сутулыми плечами. Зуб даю, Нарсис обрадовался бы, если б узнал, что мы с Янником подружились. А вот матери Янника это явно не нравилось. Она так на меня посмотрела, словно я у нее последнюю пару шнурков украла.
Это мой друг, – сказала я маме. – Давай пригласим его на чашку шоколада.
Мама посмотрела на мадам Монтур, затем взяла меня за руку и повела в chocolaterie.
– Может быть, в другой раз, Розетт? Сегодня не самый подходящий день для гостей.
А почему? Только потому, что я его маме не нравлюсь?
– Я уверена, что это не так, – сказала мама, но таким лживым голосом, что мне все стало ясно.
Я издала презрительный звук – Пффф! – и черная шляпка мадам Монтур взлетела в воздух, крутясь, пролетела над площадью и плюхнулась прямо в сточную канаву, что тянется вдоль улицы Вольных Горожан.
– БАМ! – на всякий случай сказала я, чтобы мама не подумала, что это моих рук дело. Она лишь глянула на меня, но ничего не сказала. Да и я глаз не отвела. Вообще-то я не очень часто смотрю людям в глаза. Глаза – они как окна: иной раз заглянешь в такое «окно» и увидишь там то, что видеть вовсе не полагалось. Например, ту даму в стекле витрины, похожую на сороку.
– Хочешь горячего шоколада, Розетт?
Честно говоря, никакого шоколада мне не хотелось; это мама считает, что шоколадом все на свете можно исправить. Но я чувствовала себя чуточку виноватой, потому что тогда на нее рассердилась, и решила согласиться – улыбнулась и кивнула. Мама сразу обрадовалась, а я снова почувствовала себя виноватой. Только я знала, что чувствовала бы себя куда более виноватой, если бы позволила маме думать, что ее шоколад совсем на меня не действует. В конце концов, она Вианн Роше. Если ее лишить шоколада, что у нее останется?
Глава десятая
Суббота, 18 марта
Служба прошла удачно, хотя, пожалуй, это я сам себя в этом убедил. Во всяком случае, я старался как мог, да и проповедь получилась, по-моему, достаточно легкой для восприятия, и церковь я упоминал настолько редко, насколько вообще можно ожидать от священника. А в одном месте я даже ухитрился пошутить – Арманда Вуазен наверняка одобрила бы подобный ход, – и паства радостно загудела.
Должен признаться, это мне доставило куда большее удовольствие, чем следовало. Вообще-то остроумным меня не считают, а потому было особенно приятно слышать вызванный мною смех. Среди прихожан была и Жозефина; я заметил, как она улыбнулась, и на мгновение почти забыл, где нахожусь, – так порой могут ослепить лучи солнца, внезапно выглянувшего из-за тучи.
Я понимаю, отец мой: я должен был бы ее избегать. Не думай, что мне невдомек, какое искушение она собой представляет. Однако мои греховные мысли, разумеется, принадлежат мне одному – мой долг и призвание священника запрещают любые фантазии на эту тему. Я, впрочем, надеюсь, что мы с Жозефиной все-таки сможем остаться друзьями. И это, по-моему, будет уже неплохо.
Домой я возвращался мимо нового магазина. Он называется Les Illuminés. Есть в этом названии что-то смутно клерикальное, словно там торгуют похоронными принадлежностями. Но внутри не было ни цветов, ни венков. Только большое кресло и несколько зеркал. Я уговаривал себя, что надо бы зайти и хотя бы поздороваться с новым владельцем, подбодрить его, чтобы тот почувствовал себя более уверенно на новом месте. Ланскне ведь всегда был очень традиционным городком. И к чужакам здесь относятся без особой радости – тем более при столь неблагоприятных обстоятельствах, – так что визит месье кюре обеспечил бы более лояльное отношение к чужаку со стороны наиболее консервативной части населения. Но, проходя мимо витрины, я случайно обратил внимание на то, что в зеркалах, которыми увешаны две противоположные стены зала, отражается человек, сидящий в том огромном кресле.
Нарсис?
Нет, наверное, то была просто игра света, ибо в самом кресле, стоявшем возле окна, никого не оказалось. Однако в зеркале напротив по-прежнему отражался Нарсис – в точности такой, каким он был при жизни. Я повернулся и оглядел площадь, желая понять: вдруг еще кто-то его видел. Но площадь была почти пуста. Да и рядом с витриной никого не было, и внутрь, похоже, никто не заглядывал. Тогда я сам снова туда заглянул, но теперь увидел в зеркале отражение уже не Нарсиса, а Жозефины: она сидела в кресле и улыбалась мне. Вот только в самом кресле по-прежнему никого не было. И потом, я же только что видел Жозефину на поминальном богослужении, и там она была в темно-синем платье, которое обычно надевает на похороны, а в зеркале на ней было клетчатое пальто, которое она не надевала уже несколько лет.
Ну конечно, это игра света, что же еще? Разве могло это быть чем-то иным? Ведь католическая церковь не допускает веры в духов, не так ли, отец мой? И тем не менее я был настолько потрясен, что поспешил прочь, и мне все еще не по себе; такое ощущение, словно начинается мигрень. Как мне мог померещиться там, в этих зеркалах, Нарсис? Я не смог ни читать дальше его исповедь, ни даже выпить только что сваренный кофе и решил: ладно, поработаю в саду, подышу свежим воздухом, заодно и сорняки выполю, а потом, возможно, когда в голове немного прояснится, все-таки схожу в Les Illuminés. Представлюсь новому хозяину – он наверняка окажется либо парикмахером, либо косметологом и станет предлагать за полцены всякие средства для ухода за лицом, – а потом всласть посмеюсь над собственной глупостью и своими мрачными видениями и подозрениями.
Глава одиннадцатая
Суббота, 18 марта
Я приготовила для Розетт горячий шоколад, оставила дверь в chocolaterie открытой. Теперь я была уверена: на той стороне площади творится нечто странное. И дело не в розовой неоновой вывеске, и не в новом названии магазина – Les Illuminés, – и не в том, что дети так и слетаются к его витрине, как пчелы на мед. Дело в том, что я, как ни странно, так и не заметила возле магазина ни одного покупателя, не видела, чтобы туда приезжали фургоны с товарами, оборудованием или рабочими, и мне до сих пор не ясно, чем в этом магазине собираются торговать. Я не могу избавиться от ощущения, что там творится нечто подозрительное.
Прошлой ночью мне впервые за много месяцев приснилась Зози де л’Альба с ее прямым пристальным взглядом, ее неистребимым обаянием, с ее леденцовыми туфельками, каблучки которых цокают по булыжной мостовой. Но стоило мне увидеть во сне Зози, как вдруг снова налетел тот ветер – тот игривый ветер, что так возбуждает нас обеих и провоцирует Розетт совершать то, что мы называем ее маленькими Случайностями.
Хотя, разумеется, Случайности эти отнюдь не случайны. Они повторяются циклично, как и сам этот ветер, и так же, как он, определяют направление «главного удара». Кто-то умирает в Ланскне, на площади появляется новый магазин, а у Розетт – новый приятель; всё это признаки Перемены. Они столь же определенны, как та карта из колоды моей матери – с башней, в которую ударила молния. И мир вокруг меня словно сразу превратился в некий зловещий лес, полный предзнаменований и таинственных знаков. Смерть. Шут. Башня. Перемена. И между ними тот ветер, что заставляет нас смеяться и танцевать; тот ветер, на котором Розетт способна летать верхом, как птица; тот ветер, что приносит ураган.
Возня с шоколадом всегда помогает мне отыскать некую точку покоя. Шоколад уже так давно присутствует в моей жизни, что здесь ничто не может меня удивить. Сегодня я готовлю пралине, и шоколадная масса в маленькой сковороде, стоящей на горелке, уже почти готова.
Пралине я люблю готовить вручную. Для этого неглубокую медную сковородку я накрываю керамической миской – способ, возможно, старомодный и несколько громоздкий, но какао-бобы требуют особого обращения. Они ведь проделали такое долгое путешествие и теперь заслуживают полного моего внимания. Оболочку конфет я сегодня сделаю из бобов Criollo: у них слабый, обманчивый вкус, более сложный, чем у Forastero с их невероятно яркими вкусовыми качествами, но не такой непредсказуемый, как у гибридных бобов Trinitario. Большинство моих покупателей так и не узнают, какими редчайшими сортами какао-бобов я пользуюсь; но я все же предпочитаю именно Criollo, хотя он, пожалуй, и дороговат для меня. Деревца этого сорта какао подвержены заболеваниям, а урожай крайне невысок, зато их плоды известны со времен ацтеков, ольмеков и майя. В наши дни гибридный сорт Trinitario практически полностью вытеснил эту древнюю разновидность бобов, но все еще можно найти немногочисленных поставщиков, по-прежнему готовых иметь дело со столь изысканным и капризным товаром.
Теперь-то я с легкостью могу определить, где выращены те или иные бобы, и назвать их сорт. Эти прибыли из Южной Америки, с одной маленькой «органической фермы». Но при всем моем опыте и мастерстве мне так ни разу и не довелось увидеть ни одного цветка с дерева Theobroma cacao; это деревце цветет только один день, как в волшебной сказке. Хотя фотографии я, разумеется, видела, и на них цветок какао похож на цветок пассифлоры, ее еще страстоцветом называют; это совсем маленький цветочек, всего пять восковых лепестков, как цветков томата, но без свойственного томатам острого запаха свежей зелени. Цветки какао запаха не имеют; весь их дух заключен внутри стручка, отчасти напоминающего человеческое сердце. И сегодня я явственно ощущаю, как все быстрее и быстрее бьется это сердце в глубокой медной сковороде, готовясь вскоре выпустить на волю некую тайну.
Прибавим еще полградуса, и шоколад будет готов. Тонкая, еле заметная струйка пара вьется над гладкой поверхностью. Всего полградуса – и шоколад приобретает оптимальную нежность и мягкость.
Розетт тем временем, поставив на стол пустую чашку, уже снова вышла на площадь и куда-то побрела. А мне вдруг захотелось еще раз перечитать эсэмэс, присланное Анук. Всегда приходится долго копаться, вытаскивая суть из этих крошечных зарисовок ее тамошней жизни. Думаю, мы сумеем приехать на Пасху. Мы. Это, разумеется, означает «Жан-Лу и я». Нет, я очень неплохо отношусь к Жану-Лу, но Анук становится совсем другой, когда он с нею рядом: невероятно внимательной, вплоть до постоянной тревоги. Хотя как же ей не тревожиться: все детство чуть ли не с рождения Жан-Лу серьезно болел, да он и сейчас подвержен всяким инфекциям с дальнейшими осложнениями. Хотя сам он, похоже, на сей счет не слишком беспокоится, но у Анук его состояние явно вызывает сильнейшее беспокойство.
Я понимаю, что с моей стороны эгоистично об этом мечтать, но иногда все же думаю: может, лучше было бы, если б Анук и Жан-Лу никогда не встретились? А ведь когда-то я искренне радовалась, что в ее жизни появился Жан-Лу, что теперь у нее есть хотя бы один настоящий друг; но когда мы снова перебрались в Ланскне, мне показалось, что Анук эту дружбу переросла. Да и Жанно Дру был ей не менее верным другом – и уж он-то точно остался бы или в Ланскне, или еще где-то поблизости, например в Ажене, и тогда я бы видела их каждый день, а не время от времени, наблюдая за их жизнью издалека…
Думаю, мы сумеем приехать на Пасху. Больно уже одно то, что она не пишет приехать домой. Возможно, теперь она настолько привыкла к Парижу, что именно его воспринимает как свой дом. Вот уж действительно ирония судьбы! Неужели и Анук, столько лет мечтавшая навсегда поселиться в каком-нибудь тихом местечке вроде Ланскне, станет летать по всему свету, точно листья на ветру, как в ее возрасте вела себя и я? Я взяла в руки мобильник и наконец ответила:
Да, конечно! Будет чудесно увидеть вас обоих!
Люблю, В. хххх
Я всегда добавляю еще один «поцелуй». Но сейчас этот ряд крестиков чем-то напоминает мне кладбище, а шоколад пахнет сигаретным дымом, и такое ощущение, словно тот ветер дует мне прямо в сердце, прямо в открытую рану.
Вот что случается, когда не обратишь должного внимания на то, чем в данный момент занимаешься. Поверхность шоколадной массы уже начала съеживаться, а это означало, что я позволила температуре подняться выше ста двадцати градусов. Еще несколько секунд – и шоколад стал бы безвкусным, как земля, и таким же плотным и зернистым.
Но сейчас шоколад еще можно было спасти, хотя действовать приходилось невероятно быстро, пока он не успел утратить эластичность. Я вылила его из сковороды и добавила в горячую массу несколько кусков глазури, непрерывно все это помешивая, пока глазурь полностью не растворилась. Противный запах сигаретного дыма сменился запахом горящей листвы – это был сладкий запах обычного осеннего костра, какие часто жгут по вечерам.
Попробуй. Испытай меня на вкус. Проверь.
Теперь шоколад уже немного остыл и вновь обрел свою шелковистую консистенцию. Я вернула сковороду на горелку, и над гладкой блестящей поверхностью затрепетали крошечные лепестки пара, похожие на призраки мертвых цветов. Мастерство гадания по шоколаду моей матери мне так и не дано было постигнуть. Может, она считала эту магию чересчур домашней, а может, просто не доверяла тем видениям, что возникали в шоколадных испарениях. Она предпочитала карты Таро с их знакомыми потрепанными рубашками. Ну, а я и шоколад – старые друзья; мы столько странствовали вместе и всегда так хорошо понимали друг друга.
Попробуй. Испытай меня на вкус.
Я наклонилась еще ниже, погрузив лицо в испарения и чувствуя запах нагретой медной сковороды и шоколадной смеси. Сырые какао-бобы красного цвета, и тот напиток, что готовили древние ольмеки, был похож на кровь, чуть разбавленную водой.
Проверь меня.
Перед глазами у меня поднималась в красное небо стая черных птиц, их крики в клубах пара были похожи на звон крошечных серебряных слитков. Черные птицы – знак утраты, знак того, что нас покидает дорогой нам человек.
Нарсис? Но в шоколадных испарениях можно увидеть будущее, а не прошлое. Теперь над медной сковородой возникли новые запахи – табака и кардамона, и в них вплелась сокровенная нотка аромата бобов Criollo, ясная и настойчивая, как память. Это был аромат тех историй, которые рассказывают ночью у костра или в дешевых гостиничных номерах. Это был аромат краткой и страстной любви, ночей, полных неги и лени, под звездами чужих стран. Это был аромат реки и всех ее притоков, что стремятся к ликующему морю и дальше, за море, в Лондон, Москву, Рим, Марокко и дальше, дальше, дальше, – в такие места, какие мы видели лишь на страницах журналов, хотя тот ветер и приносил нам иногда дразнящие и соблазнительные напоминания о том, где нам еще предстоит побывать.
Как насчет Сиднея? Или Рейкьявика? А может, лучше Мадагаскар? Или Токио? Или Бора-Бора? Или Таити? Или Азорские острова? Летите же за мной, доверьтесь мне, и я подарю вам весь мир…
Но коварный ветер вечно лжет; он обещает так много, а приносит лишь сердечные страдания. Раньше он всегда говорил голосом моей матери, но теперь его голос стал гораздо больше похож на голос совсем другого человека, у которого смех словно комком застрял в горле, и от этого он выговаривает слова немного тягуче и насмешливо. Но почему же эти черные птицы все летят и летят? За кем? Только бы не за Анук и не за Розетт! Я слишком многое принесла в жертву и не допущу, чтобы моих дочерей унесло этим ветром. Но тогда за кем они прилетели?
Найди меня. Почувствуй меня. Повернись ко мне лицом.
Этот зов явно доносился из магазина, что на той стороне площади, и долгим эхом отдавался в моей душе. Так, наверное, мог бы звучать и мой собственный голос, голос той Вианн, какой я была, когда родила Анук. Может, отзвук того голоса и доносится до моих ушей сквозь все эти годы, словно крик голодного зверя?
Найди меня. Почувствуй меня.
Я гоню этот голос: Кыш, кыш, убирайся! И снова возвращаюсь к шоколаду.
Теперь звучит его базовая нота, нота дикорастущей черной смородины, довольно кислой, но вкусной, если ягоды собрать под Новый год. А пахнет этот шоколад лесной страной, палой листвой и тайной зимних специй. И этот запах что-то очень мне напоминает… возможно, сон, а может, нечто такое, что я видела много лет назад…
Вот и все. В шоколадных испарениях я увидела только черных птиц и красное небо. Я проверила, горит ли огонь под сковородой, но горелка потухла. Видимо, ее кто-то выключил. Ну да, вот он: молча стоит в дверях и наблюдает за мной. Даже теперь, после стольких лет, я все никак не привыкну к невероятной глубине и значительности его молчания. Сейчас молчание Ру было внимательно-настороженным; это было молчание дикого существа, которое совсем не уверено, что ему здесь рады.
– Глазурь начала пригорать, – пояснил он.
– Да нет, я следила.
– Ну и хорошо.
Мы давно не виделись. В последний раз Ру приходил еще до того, как умер Нарсис. А потом из-за этой истории с дубовым лесом упрямо держался подальше от Ланскне. Даже Розетт не удалось с ним поговорить, хотя Рейно, насколько я знаю, это делать пытался. Но у Ру никогда не было ни собственного дома, ни земли, он никогда за это ответственности не нес и относился к таким вещам с недоверием. Как и к людям, которые чересчур ценят свою собственность.
– Я побывал на могиле Нарсиса, – сказал он. – До этого там было слишком многолюдно.
Я понимала, почему он не пришел на похороны. Ру всегда ненавидел Рейно, и причины этой ненависти я способна понять. Хотя когда-то надеялась, что, может быть, Ру все-таки смягчится, однако ему свойственно копить неприязнь столь же упорно, как иные люди копят богатство.
– До чего приятно снова тебя увидеть. – Он улыбнулся, и я обняла его. От него так хорошо пахло – смесью древесного дыма, машинного масла и мыла, и в этой смеси чувствовался также грозный запах реки.
– Шоколад, – напомнил мне Ру.
Действительно пар больше не поднимался, шоколад остыл и снова начал затвердевать. На его поверхности словно возник одинокий призрачный знак вопроса. Чего ты хочешь, Вианн Роше? Чего на самом деле ты хочешь?
Я разогнала остатки испарений; вместе с ними – по крайней мере на время – исчезли и те черные птицы, что кричали на ветру.
– Ничего. Шоколад может и подождать, – сказала я и закрыла глаза.
Но оказалось, что я и с закрытыми глазами как бы продолжала наблюдать за нами обоими, испытывая при этом некую загадочную отстраненность; и чувство предсказанной мне утраты подобно тонкой паутине окутало каждый миг нашей близости. Я чувствовала губами теплые губы Ру; я вдыхала его теплый родной запах, даривший моей душе нежность и покой. Но даже в эти мгновения у меня в ушах по-прежнему звучал голос матери, и та фраза, сказанная ее голосом, значение которой сейчас мне, пожалуй, стало даже еще менее понятно, чем в ту ночь, когда родилась моя Розетт, а я выложила песком магический круг:
Кошка пересекла твою тропинку в снегу и замяукала. Дул Хуракан.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































